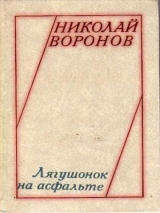
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Тамара отведала сдобнушку, похвалила. Довольные, они дружно порезали гусятину и,
должно быть, обе держались за ухват, когда ставили большой чугун в печку.
Теперь Тамара скоблила косарем пол, а старуха, забравшаяся на лежанку погреть
косточки допрежь обеда, просила не очень-то намывать пол: близко дожди, грязюка.
Сейчас Вячеслав с меньшим осуждением относился к тому, что Тамара не
постыдилась времени, проведенного в горнице от света до света. Привыкла к скученности,
к присутствию других взрослых пар, которые, наверно, не всегда обладали мерой стыда и
воли, необходимой для утайки ночных наслаждений. Но по-прежнему натуре Вячеслава
претила неделикатность, которую обнаруживает страсть. Его родители целую вечность
любят друг дружку, но никогда ничто в их поступках не натолкнуло на мысль об их
отношениях за пределами домашней повседневности, связанной с трудом, учением,
разнообразными житейскими заботами. Убраться, убраться отсюда, не попадаясь на глаза
строгой старухе.
И все-таки Тамарины записи приглушили недавние страдания его совести. Он думал о
своем исчезновении не по чувству, а от ума, и это настораживало: да он ведь теряет
непримиримость к бесстыдству, так-то, глядишь, и выйдет обедать за одним столом со
старухой и через минуту краснеть перестанет, а впоследствии докатится до того, что
спокойно будет общаться с каким-нибудь любовником Тамары, как общался старшина-
сверхсрочник с любовником жены. Он называл про себя старшину и того, другого,
деградантами и уж конечно не допускал, что обстоятельства могут открыть и перед ним
такую тлетворную возможность.
Едва Тамара, лицо которой разрумянилось от мытья пола и печного зноя, вошла в
горницу, полностью растворив дверные створки, он заставил ее возмущенным движением
руки повернуться и закрыть дверь. В момент своего появления в горнице Тамара
улыбалась и явно была довольна тем, что угодила хозяйке и приготовила вкусный обед.
Приказной жест Вячеслава она восприняла как приглашение в постель, поэтому, затворив
дверь, прошептала:
– Покушать нужно, – и почти беззвучно прибавила: – А ты, вот неожиданность,
страстный мужчина!
Вячеслав вспылил:
– Ты что буровишь? Язык, гляди, отвалится.
– Сказки тети Усти.
– Ну ты и...
– Теленочек! Все нормальное принимаешь за чудовищное. Я нисколько не
испортилась. Когда любятся, говорят про такие вещи, о каких ни в обычном разговоре, ни
в книгах. Из тайн тайна!
– Ты в своей тетрадке тоже тайничаешь?
– Из огня да в полымя. Ты требуешь, как нельзя требовать. Не было и не будет
человека, кто бы написал про все, как бывает. Теперь скажи о моих записях. Что думаешь?
– Покамест я только чувствую.
– Ну?
– Нет охоты жить.
– Вот всегда так: ночь – полеты в небе, обожание, восторги. Разве ты не испытал
счастья? Разве ты не хочешь, чтобы оно длилось вечно?
– Живем-то мы днем.
– Не уяснила.
– Среди людей живем.
– Говори прямо.
– Ночью мы одни. Ночью или сон, или безумие.
– Почему безумие?!
– Не безумие, так безмыслие.
– Тебе дня мало? День для дум и забот, ночь для отдыха и ласк.
– Совесть, ее не заспишь. Никакие ласки не истребят. Я сказал: днем живем среди
людей. Они судят о нас. Мы делаемся способны к самооценке. Тут-то и пробуждается
сознание.
– Славик, зачем тебе мрак?
– Не мрак. Честь.
– Плохое не водилось за тобой. В армии что-нибудь натворил? Наказали невинного?
Муки совести?
– Армию отслужил свято. Не смей притворяться. Дневник твой... Я чуть в армию, ты
меня предала. Кричмонтов – бездушный сенсуалист. Ты с ним встречалась. Не приходил -
ревела. Да что... Лавина мужчин, парни. Почти к каждому приманивалась. Почти за
каждого в мыслях замуж выскакивала.
– Считаешь предательницей? И поделом. Но, Славик, как выбрать человека на всю
жизнь? В эту пору многие мечутся. Останавливают выбор и сразу меняют. Поиск, Славик,
как в тайге плутаешь.
– Ты меня выбрала?
– Выбрала.
– Так что?
– Могу только каяться. Не понимаю, почему вышла замуж за Назира. Разжалобил
безродностью? Догадывалась – обманывает. Зарезать грозил – вроде не боялась. Летела,
как воздушный шарик, куда ветер нес.
Тамара уткнулась Вячеславу в плечо и заплакала. Ее слезы, будь он в другом
настроении, вызвали бы в нем зыбкость и сострадание. Но слезы Тамары были в том, чему
в себе и в своих поступках она не находила ни определения, ни смысла, и это вдруг как бы
отворило ему выход к избавлению. Тамара избавится от бессознательности, от
безнравственного стремления к самопожертвованию, от тщеславной отзывчивости на
ухаживания мужчин. А он избавится от любви, которая оборачивается для него угрозой
притерпеться к беспутству и окончательным разладом с отцом.
– Есть честный выход, – сказал Вячеслав, успокоительным прикосновением ладони
огибая ее голову на затылке, увитую пушистыми кудрями.
Только что готовый произнести освободительные слова, он почувствовал ускользание
решимости. Сердце как бы зависло, прежде чем оборваться в бесконечную черноту. Эта
опасность ужаснула Вячеслава, но сердце всего лишь начало сбоить, и он с отрадой свел
на Тамариной спине руки, и они сжались в невольном, болевом, как судорога, порыве.
Тамаре передалось его смятение, да еще слишком больно он притиснул ее к себе, и она
рывками выкрутилась из его объятия и тревожно, почти задыхаясь, промолвила:
– Славик, чего ты?
– Эх, Тамаха, Тамаха, или, как тебя называет декан, Тамарикс.
– Тамариск.
– Уточняю: последний слог «икс».
– Дикарь же ты! Не лучше Назира.
– Икс. Икс, наше спасение находится в ружье.
– Далось тебе идиотское ружье. Зачем ты играл ружьем перед деканом?
– Кабы играл.
– Если не играл, почему забоялся? Он ведь вставал под расстрел, чтобы ты опомнился.
– Я не палач.
– Тогда не вертись вокруг ружья.
– Тамар, будущее у нас чудовищное.
– Прекрасное!
– А опыт?
– На пепелище возрождаются страны. Вон Япония!
– Сравнила!
– Ничего не было. Нет прошлого.
– Умереть – счастливей не может быть.
– Нетушки. Пусть расстанемся... Сколько много удивительных людей! Ты полюбишь,
тебя полюбят.
– Нас полюбят, – передразнил Вячеслав. – Вся ты в этом.
– Ничья любовь не стоит, чтобы отдавать за нее жизнь. Пока я не уехала, не доходило:
ничто не кончается с нашим разочарованием. Исчез с горизонта Назир, а я счастлива.
– Я исчезну, будешь еще счастливей. И так до бесконечности.
– Пойми, Славик: освобождается сердце – выбор, как и в юности, не имеет предела.
Очень много тех, кого за исключительные достоинства мы можем полюбить.
– Про эскалацию войны слыхал. Была таковская в Индокитае. Об эскалации любви
тоже кое-что слыхивал, правильней – об эскалации секса. Солдатня в казарме просветила.
У нас, конечно, не так, как в странах типа Дании. Там заботливые родители могут
подарить дочери, ну, твоего возраста, когда ты умотала во Фрунзе, вибратор специального
назначения. Глядишь, и ты со своими понятиями преподнесешь Наде лет в семнадцать
такой подарочек. Помнишь, по истории учили, почему Римская империя пала?
– Я тебе о чем? На земле множество людей, достойных поклонения и любви. Ты же...
Возмутительно!
«Слушай, Слава, ты сын однолюбов, – поникло сказал Вячеслав самому себе. – Ты
хочешь неизменности. Твой друг Лычагин, когда глядел на звезды, восхищался их
небесным постоянством. Он был уверен, что постоянство движения и орбитальная
неизменность – основные признаки всемирной гармонии. Он считал: подобная гармония
привьется и миру людей. Ты соглашался с ним. Но теперь, увы, понимаешь: мнимая
надежда. И утешиться нечем».
34
Вячеслав не вставал с постели, пока Тамара не удалилась в прихожую. Он быстро
оделся, сидел на лавке, прислушиваясь к звукам за стеной: кирпичная лежанка с этой
стороны была отделена от горницы не задергушкой, а фанерным листом.
Тамара вкрадчиво-тихо накрывала на стол. Старуха, угревшись, заснула на печи. Она
дышала музыкально: воздух в трахеях переливался, скворчал, затыкался, как в трубках
ветхой шарманки. Сидел Вячеслав наготове. Рядом с ним лежало ружье.
Намерение Вячеслава скрыться незамеченным походило на младенческую затею.
Тамара, в которой замужество развило трепетную женскую бдительность, почувствовала и
поняла, что он попробует удрать. Однажды удирал. Но то бегство не угрожало разразиться
катастрофой ни для их отношений, ни для его жизни, а это обещало. Удержать, лишь бы
удержать. И катастрофы не будет. Но пока старуха дома – его не удержать. Щепетильность
на грани безумия. Стыд, доводящий до самоотрицания. Разбудить старуху. Умолить хотя
бы часик скоротать в огороде. Те же срезанные табачные кусты перенести в сарай. Но как
подступиться к ней? Как просить? Старуха добра, да ничего не смыслит в современной
этике. Нет, не получится. Есть, сказала, хочу, аж душа заходится. Не уговоришь, не
уговоришь. Закончится унижением. Не старуха – металлический ерш, которым машины-
чистильщики соскребают с асфальта грязь и снег. Позвать Славу к столу – не сядет. В
горнице стола нет. Лавка, лавка! Романтично даже – обедать на лавке. Встать на колени – и
уплетать жаркое. О, в сенях скамеечка для дойки коровы! Вячеслав сядет, она на коленях
постоит. Нежданное наказание за прошлое.
Тамара выпорхнула в сени. Дверь всей своей лиственничной тяжестью грохнула о
косяк. Свет, пронзавшийся в широкую стенную щель, висел в коричневатом воздухе
голубой панелью. Угол этой панели плющился о скамеечку, проявляя на сиденье срезы
ножек. Тамара схватила скамеечку, еще не сообразив зачем, выставила перед собой
ножками вперед.
Вячеслав, радостная надежда которого ей передалась («Неужели удастся сбежать?»),
прошел из горницы до двери в сени мерным шагом, дабы, если встретится с Тамарой, не
возбудить подозрения: он-де решил вынести ружье и рюкзак в сени, где им и положено
находиться. И все таки, хотя и настроил себя на прочность и натуральный обман,
растерялся, когда увидел Тамару, которая явно заранее приготовилась, чтобы помешать
ему драпануть. Жестом мучительной озадаченности он провел ладонью по своему лицу.
Жест был волочливый, круговой. Движение ладони сопровождалось трескучим шорохом
отросшей за сутки щетины.
То, что Тамара задержала Вячеслава, представилось ей как беззастенчивое унижение,
и она отступила к дощатой стене, освобождая ему путь. Он повесил рюкзак и ружье на
крючья, ввинченные в бревно, и вернулся в горницу.
Тамара помчалась открывать ставни, а после, уже сияющая, словно недавно совсем не
было гибельного разговора и попытки Вячеслава улизнуть, собрала обед на лавке.
Неизбежное пребывание в доме настроило Вячеслава на покорность. Он сидел на
скамеечке, привалясь к волнистому срубу. Затылком уютно приладился во впадине между
овалами бревен. Свободная поза и убеждение в том, что свою участь он предопределил до
полной неизбежности, внушали ему чувство, будто он достиг состояния высшего
бесстрашия и теперь никто не сможет скрыть от него самое потаенное намерение.
Пока Тамара занималась приготовлением еды, уборкой и накрывала обед на лавке, на
ней был нейлоновый халатик, где перевились пионы полыхливо-яростного фиолетового
цвета. Принеся тарелки с жарким, она вздумала переодеться, для чего и выскочила в
прихожую. И Вячеслав сказал себе, что выскочила она туда не по застенчивости (куда
охотней переменила бы одежду в горнице, даже не постеснялась бы под видом
необходимости повертеться перед ним голышом), а по головному расчету: сейчас ему по
душе лишь одно целомудрие. И как бы она ни применяла женские хитрости, а также
искусы, его ничем не зацепишь, – следовательно, необходимо вести себя со строгой
скромностью.
Чувство прозорливости, открывшееся в Вячеславе под воздействием решения
расстаться с жизнью, не могло, однако, достигнуть всеохватных результатов: оно,
проявляясь, не может не опираться на самого себя. А Вячеслав, подобно каждому из нас,
многого не знал о себе. Он не подозревал за собой того, о чем догадывалась Тамара:
шоколадный и розовый цвет уводят его от спокойствия к неравнодушию, к восторженной
возбужденности. То она ходила неслышно: скользящий восточный шаг, чувяки из тонкого
красного хрома, тисненные золотыми узорами, а здесь вошла в туфлях, мерцавших
черным лаком, широкий каблук припечатывала к полу с намеренной твердостью, и он
производил звук, похожий на удары барабанной палочки о черепаховый панцирь.
Отвороты вязаных шерстяных брюк цвета шоколада, тонко посвистывая, летали по
туфлям. Розовый свитер с воротником в два пальца, из которого красиво восходила ее
голова, волновался поверх груди и в талии над бедрами. Она взяла с комода бокастую
бутылку и серебряные рюмочки, принесла их на лавку. Коньяка хватило только на эти две
рюмочки. Вячеслав, заслышав развалистую поступь старухи, слезшей с печи, отказался
пить и кивнул на дверь.
Старуха сказала, что будто бы не чаяла, что ей поднесут душистого заморского вина,
да такого крепкого, инда перехватывает дыхание, как крещенский мороз. Рюмочки ей
напомнили ярмарку детских лет, еще при царском режиме: видела, как купцы в медвежьих
шубах пили прямо на холоде из таких вот дорогих рюмок светленькую монопольку.
Вчера Вячеслав не поверил, что серебряные рюмочки принадлежат старухе, но забыл
думать об этом, и вот ненароком выяснилось, что Тамара обманула его. Если бы обман
обнаружился еще часа два тому назад, то он обязательно стал бы выведывать, чьи
рюмочки. Сейчас он лишь вздохнул. Разве дело в том, кому они принадлежат? Дело в том,
что они не оставляют сомнения: была и, вероятно, будет в отношениях Тамары и декана
постыдная скрытность.
К возвращению Тамары, которая почему-то выходила из прихожки в сени, Вячеслав
не успел вернуть своему лицу выражение обреченного спокойствия. Он сидел мрачный,
оскорбленный и, хотя вопреки этому поразился ее красоте, свежести, непорочному сиянию
глаз, все же, как ни пытался, не преодолел желания уйти.
– Я откочевываю, – сказал он, вставая.
Пока он выбирался из-за лавки, глаза Тамары успели наполниться слезами. Это не
остановило его.
Сорвал с крючьев ружье и рюкзак.
Поднял под великанским подсолнухом чехол. Не утерпел, взглянул: не выбежала ли
Тамара из дома? Нет. Посреди двора маячила старуха, вся в черном сатине, платочек
цветастый, как наволочки на подушках. Подняла над плечом руку. Ладошка – корявой,
вырезанной из сосновой коры, перевернутой вверх дном лодочкой. Пальцы, вероятно,
нелегко разгибать – почти парализовались от беспрерывного крестьянского труда.
Неуклюже толкнула руку вперед. Может, попрощалась, а может, одобряла его: правильно,
мол, поступил, иди, да не вздумай вертаться.
35
Над тропинкой висело облако конопляного аромата. Вячеслав с ходу остановился,
почувствовав вяжущий, густопыльный, благоухающий дурман. Мохнатой гривой высилась
поблизости конопля. Жамкая в ладонях ее метелки, вспомнил, как в день приезда из армии
увез Тамару на пустырь с намерением, которое теперь представлялось насильническим, а
тогда сидело в нем, как справедливая месть. Горестная она была в тот раз, Тамара,
особенно в ту минуту, когда пересыпала из горсти в горсть изголуба-зеленые зерна
конопли. А нынче ей и того горестней. Хотя она и предала его, и, может, не раз, все же,
вероятно, она не из тех женщин, кому легко дается близость с новым мужчиной. Да что
легко?! Наверняка казнится: позор, грехопадение. И нет на душе не то что отрады -
отрадинки.
Вячеслав в отчаянии разомкнул руки. Осыпались в траву коноплевые семена,
истершиеся листочки. Ладони зазеленились, дышали духмяной горечью.
«Подло! – покаянно подумал он. – Разве так поступают?»
Он вслушался в себя как бы в ожидании согласия. Но ответом его чувства на то, о чем
подумал, было постылое непреодолимое упорство.
Нехотя побрел дальше. В полыннике, тянувшемся вдоль огородов, стали возникать
розовые растения. Скоро они сияющей стеной просеклись поперек тропинки.
«Красота-то какая! Чего самоистязаться и мучить Тамару? Чего не жить-то?!»
Чуть после он увидел двух грачей. Они сидели на бугорке, схватывались носами,
плавно покачивали головами. Догадался: грачи целуются. И почему-то охватило душу
неутешностью, побежал скошенным клеверищем к дороге, заметил Тамару, выступившую
из-за угла окраинного дома. Побежал быстрей, чтоб не перестрела, рассчитывая его
задержать. Но мешали рюкзак и ружье.
Тамара, рассердившая его своей прытью, повисла на нем еще в пределах клеверища.
Вячеслав не пытался вырваться, был глух к ее нашептываниям, в которых вперемежку с
мольбами было обещание вечной верности.
Она сползла по нему, навзничь упала на землю. Страдая от собственной
беспощадности, он обошел рыдающую Тамару и скоро добрался до гальчатого переката.
За рекой, с дороги, он посмотрел в сторону поля, куда забрел вчера, надеясь встретить
Тамару. Колхозницы и студентки работали все на той же куузике. Он помнил о своем
обещании подмогнуть им, но не собирался туда идти. Теперь, когда раскавычились
жесткие намеки Донаты, было бы невыносимо находиться среди них даже при самом
рьяном, примиряюще-рьяном заступничестве бригадирши Александры Федоровны.
Оглянулся на клеверище. Тамара исчезла. Как она нашептывала! Она уповала на
спасение своей судьбы, а для него это было проявлением бессовестной ее вожделенности.
День... Ненасытность какая-то. И Назир и она нигде не работали. Блудни. Прелюбодеи без
цели и выдержки. А он? Пал. Эх!.. Как позволил себе соблазниться?! Слабак. Уродское
безволие в самом начале молодости. Силы ведь огромные, а пал, будто на нет исчерпан. Да
разве с такой волей достигнешь чего-то высокого? Низменный человечишка. И незачем,
незачем быть ему на земле.
Застрелиться он решил на кладбище, но чем выше поднимался по изволоку, тем
сильней сердился. Место самое подходящее, ан нет, мнится ему, что не сможет покончить
с собой. Могилы, кресты, сойки, самое мешающее – сойки. Какие-то невразумительные
существа. Фу, глупость! Чудовищные по легкомысленности – вот. Сойка, та-то, вчерашняя,
объедала рыбью кость с кокетством и самолюбованием. Вместе с тем, кажется, она
понимала все на свете. Как при ней застрелишься? Стыднота. Черт знает почему, а
стыднота. Погоди. В мире мертвых ей и то жить радостно.
Он выбрал сосну, поваленную ураганом. Падая, она раздвоила вершиной рогатину
ствола сизой липы.
Сидеть на дереве было приятно. Прогретая солнцем кора производила впечатление
бархатисто-мягкой, как мох на камне.
Он скинул ботинок, сдернул влажноватый от пота носок. Песчаный холмик растекался
из-под голой ступни, словно живой, от этого было щекотно, нежно, даже весело.
«Как хорошо! И не нужно бы мне умирать. По закону дерева надо жить: стоять, пока
не вывернет».
Но вслед за этим Вячеслав подумал о том, что отступаться нельзя. Малодушие.
Примиренчество. Постыдство. Взял ружье, взвел курки, плотно вдавил приклад в
кремневую землю, и приклонил голову к стволам, и ощутил очертание «восьмерки»,
образуемой дулами и спайкой между ними.
Разутая нога не хотела отрываться от холмика, песчинки с ласковой прытью
продолжали разбегаться из-под ступни.
«Я трус. Время все равно растечется».
Нога, будто он усовестил ее, оторвалась от холмика, но тут же замерла. Опять
возмутился, и нога пришла в движение, однако витала в воздухе, боясь приблизиться к
прикладу. Он оторвал висок от сдвоенных дул и послал ногу к скобе. Вороненая скоба с
перистой чеканкой по внешнему овалу предохраняла путь к спусковым крючкам. Едва
палец оперся о скобу, Вячеслав поплотней приткнул голову к стволам и нажал на верхний
крючок.
За миг до того, как нажал на крючок, уверил себя, будто умрет в тишине, потому что
дробь разнесет его мозг прежде, чем прогрохочет выстрел.
Не сразу Вячеслав осознал, почему раздался пронзительно тонкий звук и почему цела
его голова. Несколько секунд, а может, и минут он находился в состоянии беспамятства.
Затем он уяснил, что услыхал не звук осечки, а звук курка по бойку, на пути которого не
оказалось пистонки. Ловко сработала Тамара: вытащила из стволов патроны. Когда ж
успела? А, после переодевания выскакивала в сени. Достать патронташ. Раздернул шнурок
рюкзака, но не обнаружил патронташа среди консервных банок со свиной тушенкой,
печеночным паштетом и зеленым горошком, которые забыл выгрузить.
Отбросил ружье. Шваркнул ботинком по короткопалому корневищу, облепленному
каменной зернью. Ругался в голос. В потоке брани, как белые камушки в мутной пульпе,
извергаемой земснарядом, попадались наивно-чистые слова о любви к Тамаре, о печалях
из-за безотчетности ее поведения, о том, как она смела помешать его освобождению от
нынешних неразрешимых страданий.
Лес притих. Перестали стрекотать сороки, дятел с алым затылком прекратил
долбежку, осекся пересвист лазоревок, рябчик, с шуршанием шаставший но ольховому
бурелому, замер, раскрыв в настороженности перьевые клапаны ушей.
Дорогой на станцию Вячеслав поуспокоился. В глубине души он был счастлив, что
осмотрительность Тамары спасла ему жизнь, хотя и кочевряжился перед самим собой,
будто все еще возмущен ее вероломством.
36
Ксения, когда у нее случалась неприятность, хотела бы, да не могла быть
нерадостной. Еще в школе кто-то из мальчишек определил особенность ее натуры: дал
прозвище «Мячик» отнюдь не за пунцовые щеки, за то, что почти непрерывно
подскакивала.
Смятенная понурость Вячеслава не отзывалась в Ксении даже легкой прихмурью.
Правда, она одобряла его строгость («Нашей сестре позволь слабинку – в пропасть
скатимся. Поднаплодилось бесстыдниц»). Она понимала, что в суровых муаках вызревают
серьезные мужчины. Свою заботу о брате она видела в том, едва он перебрался к ним с
Леонидом, чтобы вернуть ему прежнюю жизнерадостность. Хотя он и был немтырем и не
ходил ногами до трех лет, характером он в них с матерью.
Вчера, возвратясь в город, без заезда домой он направился в копровый цех. Во время
смены, как казал Леонид, Вячеслав угрюмо с д ы ш а л , словно вернулся с похорон.
Леонид мастак выведывать чужие секреты, но, как ни хитрил, задавая Вячеславу вопросы
с подходцем, тот так и отмолчался. А раньше не то что не таился – сам напрашивался с
переживаниями: вникни, без лукавства и жалости разбери. Коли замкнулся – вовсе
заплутал или накануне неожиданного решения, ну, прямо такого, какое взбудоражит
родню.
Диван, на котором спал Вячеслав, был короток. Так как Вячеслав лежал, вытянувшись
во весь рост, – голова перевесилась через валик, а ноги, угнездясь пятками в продавы
другого валика, нелепо торчали вверх.
«Огромина! Готовый мужик!» – восхитилась Ксения, но через мгновение опечалилась.
Все не терпелось: «Сень, когда вырасту?» «Ну, вырос. Куда торопился? Как почнут на тебе
ездить... Кабы мы были, как солнышко. Как почнут ездить кто во что горазд, не успеешь
оглянуться – износился, болячки. Отец в тебе изверивается. И ты, возможно,
разочаруешься в своем сыне? И зачем рос? Ой, да что это я хандрой окуталась? Вырос – и
ладно. Птицы и те не без заботы. Человек без заботы, что самолет без турбин. Кем бы мы
были, если б не горе, не подлость, не заботы? Беззащитными лежебоками,
равнодушниками... Эк выдул! Сильный да добрый, не какой-нибудь чертопхай».
Еле сдерживая проказливый смех, Ксения подошла на цыпочках к дивану. Она
собиралась зажать Вячеславу нос. Его четко выкругленные ноздри, прямо раковины,
подзадорили ее веселое намерение.
«Перекрываю клапаны!» – сказала она себе, преодолевая желание запрыгать, и
придавила указательными пальцами его ноздри.
Вячеславу снилось, что он, глядя вперед, мчался под гору на санках. Дороги на склоне
не было, поэтому он не опасался транспорта. Когда вдруг стало нечем дышать, он решил,
что нос забило снегом, и дунул в ноздри. Нос почему-то не продулся. Вячеслав хватнул
воздух ртом и проснулся от воркующего смеха сестры. Пробурчал:
– Чего балуешься?
На Ксению он не умел сердиться.
– Нельзя разве растормошить братца? Растормошу! Не скисай. Не молчи в платочек.
Единокровный, а как чужой. Иль забыл пословицу: свой своему поневоле друг.
Ксения пробовала добраться пляшущими пальцами до его боков. Он обтянулся
одеялом, и, хотя ей удавалось дотрагиваться до них лишь через ткань, он брыкался и
взвизгивал.
– Нянь, я ж боюсь щекотки.
Она хотела укорить Вячеслава за скрытность, а сказала умилительно-довольным
тоном:
– Славка, Славка, выдул ты с высоковольтную мачту, а все у тебя повадка
мальчугашки.
– Ксень, лукавишь.
– Поделись.
– Поделился бы, да ведь транс.
– Транс?
– Все спуталось в душе и замерло.
– В уверенности была: поехал мириться.
– Качели.
– Что стряслось?
– Качели.
– Заладил: качели, качели.
– Беспонятливая. Взлет, точно к богу на облако! И – падение. Еле уцелел. Короче,
бесчувственность.
– Рассержусь, верста ты коломенская. Хватит водить в тумане.
– Ксень, а ведь я живу!
– Неспроста ты радужные пузыри пускаешь.
– Ничего прекрасней человек не может себе пожелать, чем остаться жить.
– Вон почему ты петли петлял. Я изнервничалась, когда мама позвонила в машзал и
сказала, что ты поехал к Тамаре. Она мне: я, мол, заставила Славу ружьишко захватить. А
я про себя: смерть родному сыну в руки вложила. Она мне: обещался боровой дичи
настрелять. А я: себя бы не угрохал. Я радостная, а сегодня многажды радостная:
живехонький лежишь, чумовой ты мой братец! Не отвертишься все-таки. Поскольку мы
безбожники, в попах не нуждаемся, но душу-то излить у всех бывает приступ. Я заменю
тебе духовника. Ну-ка, исповедуйся.
– Для исповеди не созрел.
– Не подошло настроение?
– Надо осознать, что грех, что блажь. Справедливость отделить от заблуждения,
соблазн от высокого чувства. Ксень, боюсь подмены. Любовь вроде перегорела.
Благодарность ли чё ли?
– Эх благодарности тебе мало! Армию отслужил, а все дурошлеп, как подросток. Вы,
мужчины, неблагодарны, потому благодарность презираете. Благодарность ни на сколь не
ниже любви. Разобраться, так чего-чего не понамешано в любви: сладость с горечью,
нежность с жестокостью, свет с тьмою, благодарность с ненавистью. Очень много
благородства могут проявить люди друг к другу. Боготворишь – ты благодарен, проявляешь
ответно великодушие. Я за Леонида вышла... Обо мне у парней было скудное
соображение. На танцульки ей бы все... Просторней зал – туда норовит. Для вальсов
прежде всего. Закруживалась до тошноты. Тому взбрендится – Ксения безмозглая
ветродуйка, этому... Он приставать, я по мордасам. Леонид сразу определил: весельчачка,
но умна, вертушка, да строгая. На жизнь какие только пертурбации не падут. Нытик,
брюзга, паникер, Фома неверующий возле меня всегда будет задорный, как плясун во
время присядки. Благодарна Леониду: определил с налета. Лучше моего мужа нет.
– Хвальбушка.
– Ясный человек, без подвохов. Собирались пожениться, он говорит: «Я голубятник.
Уважай мою привязанность к птице». Увы, согласилась. Отгуляли свадьбу, положили нас в
постель. Я никому не рассказывала. Между нами. На рассвете очнулась. Лап-лап, а рядом -
тютю, пусто. По комнатам пошныряла, нигде Леонида нет. Зима. Оделась. Во двор. Следы
в снегу.
– Детективная история.
– Не умничай. По следам до лестницы на чердак. Поднялась потихоньку, дверцу
приоткрыла. Разговор, а второго человека не вижу. Прислушалась. А он к голубям: я,
дескать, определился, семейный, это вам не хухры-мухры. По случаю свадьбы калил для
вас подсолнечные зернышки. Накормлю вкусно до отвала. Завтра прошу не обессудить:
начнутся будни. Корм пойдет обычный: ржаное охвостье, овсянка, перловка, горох да
чечевица и самая малость пшенички. Прикрыла дверцу и обратно в дом. Ты вот нежишься,
а он давно укатил на мотоцикле к голубям. Делится между ними и мною.
– Зато ясность.
– К чему я клоню, братец? Отношения без ясности кончаются коротким замыканием,
после чего цепь духовная, душевная ли и еще какая прерывается.
– Ксень, а ты улучшила историю своей жизни.
– Сказанёт... Губы вот оборву. Вообще-то, братец, женщины тщеславны. И у меня
были качели. Людям, братец, необходимо ограничивать себя. Соблазнов много, а жизнь
одна. Я знаю женщин... Меняли мужей, заводили любовников. Мотушки. Не расцвели.
Наоборот. Преступника видно по лицу. Жесткое лицо, окостенелое. На женщин этих
глянешь, и сразу видно: истасканные, растлительницы, грязь от них... Ты не должен
считать меня старомодной. Строгая самодисциплина для всех времен хороша! Как-то
снимаю с веревок белье во дворе, подростки – кто в бадминтон, кто в волейбол... Две
девчонки из соседнего подъезда от одних к другим шныряют и всем одни слова: «Мы за
свободную любовь». Под грибком женщина сидела, ее сынок в песочке играл. Она вдруг
хвать мою веревку, догнала девчонок, давай хлестать. Они завизжали, убегать. Она
догоняет, полосует их, полосует. Принесла веревку. Саму аж трясет: «Распутницы
проклятые. В парке собачью свадьбу устроили. По подвалам таскаются. В милицию
забирали, в штабе дружины стыдили, родителей штрафовали, а все совесть не
проснулась». Без личной дисциплины, братец, человек превращается в гнуса.
– Ксенькин, спасибо. Я встаю. Ты покуда чай приготовь.
– Чай заварен и полотенцем укутан. За что спасибо-то?
– За чай.
– Слава, иногда мне сдается: правильно мужики в Азии делают, что строго держат
нашу сестру. Вон сколько у них детей. А у нас один-два, редко три. Народ убывает. Жить
для себя важно. Да разве можно забывать про увеличение народа? Государство наше
ослабнет. Людьми ведь оно держится перво-наперво.
– Чего ж у самой только двое?
– Близок локоток, да не укусишь. Смотри, чтоб, как у мамы с папой, было у тебя: не
меньше семерых.
И Ксения удалилась на кухню, пританцовывая серебряными каблуками черных
босоножек. Вячеслав неприкаянно послонялся по комнате. Притянула к окну сирена
милицейской машины. Сигнал сирены вызывал в его воображении степь, посреди которой
торчит штанга, вращаемая мотором; к штанге прикреплена длинная, красной меди,
проволока; вихляя, проволока летает над полем и задевает о землю, отсюда и звук -
изгибистый, пронзительно-певучий, предостерегающий. Из крыши милицейской машины
лилово-синим куполом торчал стеклянный колпак, его пронизывал стреляющий свет
мигалки.
«Интересно, – подумал Вячеслав, – какая машина приехала бы т у д а ? Сперва
сфотографировали бы меня. Меня? Как бы не так. То, чем был я. Вот оно что... Смерть
отнимает у человека «я». Существовать – значит быть носителем «я». Каким бы ни было,
но оно, твое «я», и воплощает в себе твою жизнь, твою личность, твои свойства и
поступки. А, глупец! Эка важность. Какая бы туда приехала машина?! Расстрелял свое «я»
– и ты уж ничто. Если я над чем и должен думать, над тем, почему не сознавал себя как
«я». Выходит, мое «я» было бессознательным. И, наверно,остается?»
Утро было ветреное. Листья лип, ржавые, в черных оспинах, густо осыпались.






