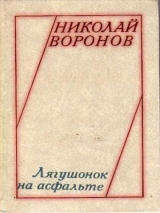
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
яблоко срывал.
Обеспокоилась Устя, трудней обычного поднялась на крыльцо, закрыла за собой двери
парадного. Правильно сердце чуяло: звонил отец, велел передать ей, чтобы быстренько
прислала с Ксенией лекарство. Оно в маленьком пузырьке, но с большим ярлыком.
Находится в тумбочке, где слесарный инструмент. Нашла Устя в тумбочке лекарство. По
ярлыку видать – свежее. Скрыл отец, что побывал у врача. Знать, из-за Вячеслава. Как бы
не подкосился. Эх, дети, дети... Чуть чем не потрафишь – ожесточаются.
41
Вячеслав не был уверен, что отец не турнет его вместе с лекарством, но, прочитав на
пузырьке наклейку «Пользоваться с осторожностью», помчался на трамвай. Чего там
думать, как примет отец, коль у него, судя по наклейке, что-то худое с м о т о р о м .
Эту часть металлургического комбината, где находятся паровоздушные станции,
коксохимический цех, домны, сталеплавильные печи, Вячеслав не видел вблизи после
службы в армии.
Жадно глядя по сторонам, он бежал по толстой асфальтовой кожуре пешеходного
моста. В красном мареве галерей разливочной станции плыли чугунные болванки. Они
возникали на конвейере сквозь пар, еще раскаленные, гладкие на вид, а попадали на
бронированные днища вагонов фиолетово-белыми, с заметными теперь горбами,
раковинами, порами. Коксохим загромоздил северный угол неба, потому что крупно
подался в сторону горы Мохнатой. Когда-то Мохнатая была далеко от завода, склоны – в
сладких вишневниках, подошва, огибаемая рекой, вся в черемуховых деревьях, облюбовал
в пору спелости громадную черемуху – и дои себе ягоды от зари до зари.
42
Отца он застал в газовой будке: сидел на стальном табурете перед растворенным
окном. Сквозняк обвеивал его грудь, покрытую кудреватой сединой, вздувал над
согбенной спиной фланелевую рубашку.
Камаев не выказывал своих недугов, поэтому никто из семьи, включая Устю, не
догадывался, что время от времени он хворает. Сквозь гул воздуха и пара Камаев не
слыхал, как в газовую будку вошел сын, а когда почувствовал его присутствие, не изменил
позы: раз уж ненароком выдал свою хворобу, поздно скрытничать. Да и в груди так щемит,
словно что-то там зажали в тиски.
Лекарство он накапал в газировку, вылил в рот, держал под языком, покачивая
запрокинутой головой.
Поначалу Вячеслав старался не смотреть на отца пристально, дабы не смущать, но
скоро ему стало ясно, что в эти минуты отцу, вероятно, безразлично что бы то ни было:
презрительное мнение, сострадание, прошлое их разноречие. По себе он знает, Вячеслав,
что такое самоспасение. В армии его сильно тряхнуло, был чуть ли не при смерти, и он,
чтобы не умереть, как бы отъединился от всего мира и крепил в себе силы жизни. В бреду
оболочка собственного тела представлялась Вячеславу корпусом громадного космического
корабля, внутри которого с неусыпным беспокойством парило его «я» в ожидании сигнала
опасности, и едва оно ощущало сигнал опасности, мигом устремлялось туда, где что-то
разладилось, болело, беспамятно кувыркалось, и не покидало этот предел, пока в нем не
наступало облегчение и равновесие.
Конечно, обстоятельства различны и степень опасности тоже, однако, ежели отец так
странно-непривычно сосредоточился на себе, начисто забыв об их размолвке, значит,
самочувствие предвещает его здоровью тяжелый обрыв.
Отец пересел со стального табурета на подоконник. Притулясь к распахнутой створке,
замер.
С места, где остановился, Вячеслав видел боковой овал головы, высокое ухо,
источенное на исподе морщинками, височные волосы цвета черненого серебра, желвак, то
и дело выпиравший над плоскостью щеки.
Постарел отец. Болен отец. А ведь совсем недавно, когда танцевал с Тамарой,
производил впечатление человека, которому не будет износу. Раньше не испытывал
жалости к отцу. Повода не было: всегда молодцеватый, веселый, неудача, подвох ли,
бодрится. И вдруг не скрывает слабости. Вот и заторила душу жалость и обернулась
укором. А этот пока безотчетный укор отворился догадкой: «Неужели из-за меня?» И
некуда стало деться от вины перед отцом, от собственного всезатмевающего эгоизма.
Зачем-то проявлял враждебное нетерпение к тревогам отца, как будто он исходил не из
кровной заботы о нем, а из скрытой корысти. К кому он только не был терпим в армейские
годы! С младшим сержантом Квашей и то был терпим. Хотя этот сержант Кваша пер
каждодневно гнуснейшие глупости. Нередко он, Вячеслав, помалкивал, а если и возражал,
то вежливо, ровно, блюдя осмотрительность: Кваша возражений не терпел... Вот оно,
мерзопакостное приспособленчество! Вот она, животная мимикрия! Опасность -
обворожительно смотреть собачьим взором, поджимая хвост к животу. А с отцом,
побуждения которого определяются одним-единственным желанием – чтобы ты был
счастлив, – ты обращаешься с ним, как с недругом: жесток, безрассуден, потому что
знаешь – ни подвоха, ни мести, ни даже возмездия не будет. Что за уродство: к родным, как
к чужим, к чужим, как к близким? И это у большинства людей, каких встречал.
Добрей отца, кроме матери, у тебя никого. Столько лет все лучшее – тебе, бесконечные
жертвы ради тебя. Лет десять подряд отпуск отец проводил на покосах. Другие в
санаторий «Металлург», на Черное море, он косит, сгребает, копнит, стогует. Потом возле
сарая появляется трехтонка, до моторного надрыва нагруженная сеном. И выходит из
кабины отец. Бородатый, от простуды болячки на губах, худющий, с гимнастерки на спине
хоть соль соскребай. Неделю, две глаза у матери жалостливые, а в голосе прорываются
причетные интонации. И все повторяет:
– Чуть живехонек наш отец, уходился. Зато теперича коровка с сенцом!
Все, как говорилось в семье, спасались молоком, но держали-то корову для тебя. И
тяжельше всех давалось содержание коровы отцу. В сущности, он приносил себя в жертву
ему, Вячеславу. А он не то что не оказался благородным, он забылся до такого
безрассудства, что... Довел отца... Да нет, отец не из слабаков, не может он... Ой, как смеет
он думать так. Отец будет жить, долго, будет, будет!
Сквозняк, врываясь в окно, тащил с собой запах жженого мазута. Стекло над головой
отца отражало рельсы, паровозик, прицепленные к паровозику чугуновозные ковши.
Наверно, паровозик работал на мазуте. А еще сквозняк приносил пыль. Лицо, шея, рубаха,
черные брюки отца быстро покрывались блестками графита.
Ожидая, когда отцу полегчает, Вячеслав потихоньку начал прохаживаться вдоль окон.
Спохватился: на всякий случай принесет газировки. В знак согласия отец приспустил
ресницы. И на ресницах полно графитовых чешуек.
Еще не успел Вячеслав выйти из будки, отец, обнаруживая хлипкость своего
состояния, натужно крикнул:
– Соли не капай.
В тесном отсеке, сваренном из листов синеватой стали, пили газировку горновые. Их
было трое. Войлочные шляпы зажаты под мышками. Волосы спутанные и такие влажные,
точно горновые только что принимали душ. Суконные робы – штаны и куртки с
накладными карманами – были в бурых подпалинах, в пятнах пота, в дырочках прогаров.
Зажим на резиновой трубке они размыкали основательно: не торопились убирать
жестяные кружки из-под стеклянной пипетки, с кончика которой, вязко взбухая,
обрывались капли соляного раствора.
Вячеслав помнил: когда отец работал горновым, он брал на смену щепоть крупно
наколотой каменной соли. В ту пору он и дома сосал соляные льдинки и сладко
причмокивал, словно мутузил на языке карамельку. Однажды Вячеслав соблазнился – тоже
кинул в рот л ь д и н к у , но сразу выплюнул из-за противной соляной горечи. Отец
улыбнулся.
– Кабы из меня не выпаривалась соль, было б и мне невкусно.
Перед тем как обнаружили присутствие чужого человека, горновые перемолвились
между собой.
– Занемог Камай.
– Старость начинает припекать...
– Стар, да петух, молод, да протух.
– Настроение свихнулось.
– Была сила в коленках, лазил на колошник, спускался на загрузку, бо у организма
счетчик тоже е.
– Тебе бы все е да е.
– Камай еще вокруг шарика раз пять обежит.
– Настроение надо выравнивать.
– Правильно! Тяни рукоятку на себя, бо врежешься в землю.
Горновые, не удивляясь появлению незнакомца (мало ли народу шастает по печам), но
гадая, кто он и слышал ли их разговор, прошли мимо Вячеслава. Каждый чугунно тяжел в
плечевых закруглениях, шеи к основаниям ширятся, будто стволы деревьев к корням,
запах мускусно-едкий. Этот запах грустно поразил Вячеслава давним мальчишеским
летом, когда он впервые понаведался на домну и отец, перестав выкидывать из канавы
раскаленную чугунную корку, поднял его на руки.
Едва он вышел из сатураторной, захотелось побывать на литейном дворе, но он отверг
это желание: после, вдруг да отцу хуже. Трое горновых, только что пивших газировку,
стояли возле электрической пушки. Они курили, почти не двигаясь, и не разговаривали.
Устали, намотались, убирая канавы и подготавливая их к выпуску очередной плавки.
Отдых, вызывающий чувство блаженной созерцательности. Во время службы
приходилось откапывать боевую технику. Всегда требовалось копать быстро. Лето в степи
огненное. Накопаешься – потом сам себе напоминаешь вечернего суслика: недвижно
торчишь над степью, даже колебание травинки завораживает взор, и усталость, в которую
ты закован, точно в броню, мало-помалу как бы развихривается с тебя.
43
Отец, к удивлению Вячеслава, уже не сидел перед окном. Створка была закрыта,
рубашка застегнута, стул переставлен к двухтумбовому столу.
В руках отца потрескивала калька. На кальке виднелись черные молниевые зигзаги:
след, оставленный самописцами.
Воду он не стал пить. С той же вдумчивой озабоченностью на лице, с какой
рассматривал диаграмму, он устремился к металлическим панелям, в которые было
врезано много всяких приборов: круглых, продолговатых, схваченных никелем,
пластмассой, простейших, электронных, со стрелками, выписывающими ломаные линии,
пунктиры, многоточия. Отдельно стоял щит, инкрустирован стеклышками, да и только.
Под стеклышками вспыхивали и гасли лампочки, слагаясь в какой-то магический,
витражный, разноцветный ритм.
– В кино однажды играли симфонию, – сказал отец. – Звуки перекладывались в
цветовые пятна, линии, импульсы. Фантастика. Тоже фантастика будет, если ход плавки
переложить на язык электрических лампочек.
Он вывел Вячеслава на мостик, под которым неизносимые «кукушки» таскают
шлаковозные чаши.
Близко была бункерная эстакада, накрытая зданием шихтового двора. Оттуда
доносился шершаво-звонкий грохот кокса и тянуло агломератным угаром. Домны
высились наискосок от них. Затемно вырубались из синей тьмы только ближние домны,
остальные смутно протушевывались. Когда над дальними печами ночь набухала отсветом
плавки, и тогда они проступали плоско, невесомо.
Он собирался сказать, что какой-то колдовской силой захватывает картина цеха, но
отец бодающим движением головы заставил его снова вскинуть глаза. По трепетанию
воздуха он догадался, что за шихтовым двором, на коксохиме, полощется большое пламя и
потому стекленеют жужжащие тросы, крутой лист наклонного моста, взлетающие и
падающие по нему скиповые тележки и сильней чернеет недремное колесо шкива.
– Могучая красота! Копровому цеху не тягаться с доменным.
Зубы Камаева заблестели из темноты.
Близ шлаковой лётки, заткнутой стальным стопором, он приобнял сына.
– Все восхищаются лесом, лугами, реками... Правильно. Земля-матушка создала и
создает красоту. Но, по-моему, есть красота куда выше: мы, люди, ее создатели.
– Пап, ты не прав. Человек творит красоту, но с природой ему не тягаться.
– Еще как прав. Знаешь, что для меня домна? Прошлым летом она плохо шла и
меньше чугуна выдавала. Я извелся. Хожу вокруг: «Что с тобой, доченька?» Слюнтяйство?
Ничего подобного. Все лето никто не мог понять, что с ней творится. И кто, ты думаешь,
разгадал недуг?
– Ты.
– Точно. С моста пешеходного, где с тобой стояли, заметил, что она вроде бы
отклонилась от первоначального положения. Я – к начальству. Уточнили геодезическую
съемку. Да, покосилась. Из-за этого скоса барахлил засыпной аппарат. И шихта
распределялась по сечению шахты не совсем равномерно. Вот в чем главная красота.
– Понимаешь, пап, мы хвастуны.
– Кто это «мы»?
– Человеки. Хвастуны бесстыдные. Творим, славословим себе, а не предусматриваем,
какие последствия будут. Помнишь, подполковник, командир мой, брал меня в иркутскую
командировку?
– В июне.
– Ага. В груди не болит?
– Отпустило.
– У подполковника сестра в Листвянке. Порт такой на Байкале. Неподалеку Ангара из
Байкала выпадает. Пап, все деревни на Ангаре с незапамятных времен жили рыбным
промыслом. А как Ангару под Иркутском подперли, постепенно рыбная экономика
деревень сошла на нет. Деревни, пап, находились в колхозах. Хариуса стало мало, ленок
почти исчез. Ловили рыбаки за день, пап, просто на удочку до ста двадцати килограммов.
– Сынок, ты говоришь про хозяйствование, я ж – про красоту.
– Я о том, что мы хвастуны. Мы преследуем промышленную целесообразность и
красоту, а природную разрушаем. И вообще, мы туго думаем: десятки лет, сотни,
тысячелетия проходят, прежде чем мы до чего-то додумаемся. Сколько лет сера душит наш
город?
– Больше сорока.
– Я из армии вернулся... Меня поразило: бледнолицые у нас в городе люди. Румянец у
большинства детей до школы тухнет. Видишь, чем оборачивается производство металла?
– Тут ты, Славка, прав. Польза для хозяйства оборачивается вредом. Разрушительная,
выходит, польза для человека и для природы. Эх, чего-чего мы только не перевели ради
чугуна да стали. Но ты, сынок, все ж погоди костить металлургов. Без железа мы бы не
одолели Гитлера, не сделались бы великой индустриальной страной.
– Пап, справедливо.
– Нужда в железе, сынок, продолжает расти. Тут же обороноспособность терять
нельзя.
– Выхода, значит, нет?
– Выход-то есть. Все надо в дело производить. Надо рядом с заводом строить
сернокислотный завод, фабрики, которые бы обрабатывали мрамор, гранит, яшму,
самоцветы. Короче, так построить технологический цикл, чтоб ничто не уничтожалось, не
распылялось, не сбрасывалось в отвалы.
– Пап, ты сказал: нужда в железе растет. По-моему, пап, хватит гнать количество. За
качеством надо гнаться.
– Необходимость имел в виду.
– Необходимость – вечный процесс. Пап, люди смертны. Когда начнется истинная
экономия природных богатств – не знаю, но допускаю, что скоро. А вот когда кончится
расточительность жизни, хотел бы знать?
– Как ты сам понимаешь, сынок, я специалист узкий. Пока мы калякаем с тобой, я
вспомнил одну штуку. К нам в санаторий чтец приезжал. Декламировал.
– Что за штука?
– Складная. В стихах. Содержание такое: ради постройки металлургического завода
казна продала картину «Венера».
– «Венеру» Тициана?
– Имя художника не запомнил. Тебе-то откуда известно?
– Среднее образование. А также сверх того.
– Ох ты! Не зря, выходит, я ушибался.
– Пап, элементарно. Я ничего не достиг.
– Достигнешь, коли начинаешь вникать в суть вещей. Содержание значит: продали ее
за океан. Потом... кто-то, автор поди-ка, видит во сне ее живой. Она с укором: дескать, как
же вы... А он: продали, в рабстве чтобы не очутиться. Там еще автор описывал, как любил
деревенскую красавицу. Она, сынок, увяла совсем молодой. Во время войны надрывалась
на колхозной работе.
– Пап, я читал. Поэма Федорова Василия.
– А не Твардовского?
– Федорова. Пап, там есть слова, сама Венера их говорит: «Вы перед вечной
оправдались, попробуйте перед земной». Вечной Венера себя считает, Наташу,
деревенскую красавицу, земной. То, что рано погасла Наташина красота, оправдывается
идеей: «Подвиг стоит красоты». Но я против принесения в жертву красоты и судьбы в
спокойной обстановке. Пап, там есть еще очень верная идея: «Но только личные утраты не
восполняются ничем...»
– Сознаюсь, сынок, я редко задумывался над ценностью человеческой жизни, над
ценностью красоты.
– Ты своим трудом утверждаешь великую ценность труда.
– Только так. Она и нравственная ценность. Самый что ни на есть фундамент
нравственности.
Они замолчали. Вячеслав решил, что отец намеренно замкнул их разговор на
нравственности и сейчас обязательно поинтересуется его поездкой к Тамаре. Вячеслав еле
сдержался, чтобы не сказать отцу, как собирался покончить с собой и как его спасла
Тамара. Очень уж отец был темен лицом. А цвет подглазьев страшен: от сизых разводьев
до фиолетовых, а сквозь них, как смазка йодом, проступает блеклая желтизна.
– Пытаюсь вспомнить, сынок, о чем толковали. Нисколь голова не варит, болванки, на
которые шапки натягивают, лучше кумекают.
– Пап, о расточительности.
– Погоди. Недавно меня донимала тоска. Не просто определить. С красотой ее можно
сплавить.
– Тоску?
– Во! Нравственная красота! Грубятины, разболтанности, фальши – навалом. Уцепил?
– Еще бы!
– Тогда пошли на горно. Печку пора открывать.
44
Горновые, стоя один за другим и хватко держа стальную пику, пытались прошибить
летку. Что-то закапризничал комбайн, с помощью которого подрезали и бурили летку.
Леточная глина закаменела от жара, ухала под ударами пики. Три пары ног, обутых в чуни
и словно припаянных к металлическим плитам, углы локтей, войлочные шляпы тульями
вперед – во всем этом ощущалось слитное упорство. Невольно подчиняясь его силе,
Вячеслав подавался грудью к горновым, будто они нуждались в том, чтобы он им помогал.
Отшатнувшись назад, он услышал, как из печи фыркнуло, и сразу суконные фигурки
горновых побежали среди белого звездопада.
Из горновых Вячеслав выделил высокого верткого парня. Отец сказал, что он техник,
работает на домне с прошлого года, фамилия Андреев, а зовут все Андрюшечкин, потому
что он симпатяга и добряк.
Из летки донеслось клокотание, и чугун потек медленней. Андрюшечкин начал
прочищать пикой леточное отверстие. Спецовка дымилась, когда он, прошуровав дорогу
новому металлу, отскочил от канавы. Лицо раскаленное, потное, но дышит удалым
весельем.
Необычайно здесь, на домне! Сначала искры роились возле горна, белые, маленькие,
ершистые, затем стали взлетать из всего чугуна, бегущего по канаве, сделались
махровыми, сиреневыми, а теперь голубоваты, к тому же источают багровую пыльцу. А в
ковше, куда льется металл, качается карминная корка и сквозь нее проклевываются жальца
вишневого, зеленого, золотистого пламени. Отец позвал Вячеслава в будку, стал к пульту
управления электропушкой, над которым торчали рукоятки. Он повернул крайнюю.
Позади на щитке щелкнули контакты, между медными рожками пыхнуло зеленое пламя.
Через миг из дула пушки поползла черная глина и, обломившись, упала на пол толстым
смолянистым чурбаком. Пушка снялась с места, воткнулась носом в гнездо летки, закрыла
дорогу кипучему шлаку, бурлящему гулу, полотнищам огня.
Шлак, который остался в канаве, пузырился. Он ускользал из-под замершей в наклоне
пушки желтым, как охра, прекратившим беситься ручьем.
– Не было страшно? – спросил Вячеслава вдруг ставший горделивым отец.
– Почему?
– Конец-то плавки – вроде извержения вулкана. Тебе, сынок, ежели ты возле печки не
робеешь, подходит здесь.
– Пап, в Америке люди из городов прут, а у нас наоборот. Почему?
– Америка нам не пример.
– Дело не в примере. Понять хочется. Передвижение человеческих масс.
– Должно, заработки притягивают? Еще, может, какие выгоды и экономические
расчеты.
– Американцы, конечно, ловкачи по части выгод и расчетов. Но, пап, если бы люди на
свете во всем преследовали выгоду, они бы превратились в жадных и грязных чудовищ.
Тициановская «Венера» олицетворяет красоту. Купили ее не кто-нибудь, а те же
американцы.
– Они богаты.
– Богачей много. Третьяковых да Строгановых единицы. Пап, конечно, они
переезжают в маленькие местечки от ядовитого воздуха, от убийственных шумов и
сутолоки к чистой воде, к природе. И условия там, конечно, есть для проявления
способностей, для духовного развития, для интересной жизни потомков.
– Возможно, так.
– Пап, я ищу выход. Ты знаешь, в Слегове меня поразил парниковый комплекс! Я даже
вел плуг по чернозему, прямо в парнике.
– Чего искать? Вот печка, становись! Всем тонкостям обучу.
– Пап, не навязывай.
– Кормить, растить, учить – принуждения нету. Работу выбрать – сразу «не навязывай».
– Ты делал это по доброй воле. Великое тебе спасибо! Ты сам выбрал себе дорогу. Дай
и мне... Тогда...
– Тогда ломка была. Сам?! Кабы.
– Из-за любви к этому деревню бросил?
– Любовь любовью...
– Не тебя ли дедушка обратно в деревню звал? Дядя Ваня тоже звал.
– Не с моей семьей было срываться. Сам-семь. Прокормиться не шуточки. До
некоторой степени я и оставался крестьянином.
На пушке никли, истончались, прекращали дымить флажки огня, трепыхавшиеся над
шлаком. Отец опять строго вытянулся у пульта, сжимая в ладонях черного эбонита ручки.
Рокоча, пушка толчком поползла обратно. Едва ее широкий зад тяжело завис над литейной
канавой, из леточного гнезда выкрутилось кадящее пламя и обнаружилось, что конец
ствола раскалеп. Черная «глина», выдавленная из пушки в леточный канал, должна была
перекрыть шлаковый поток.
Отец убедился в том, что летка закупорена прочно, и отвел пушку на обычное место,
где горновые заправляют ее «глиной». Тревожного беспокойства, которое вызывалось
сердечной болью, на его лице теперь не было, была скорбь, за которой угадывалось
бессилие и неприятие.
– До сих пор, – сиплым голосом промолвил он, – я больше отвечал за твою судьбу, чем
ты. Сейчас я снимаю с себя ответственность.
– Снимаешь?
– Хватит.
– Почему снимаешь ответственность, а не передаешь?
– Отрекаюсь.
– Я не принимаю отречения, пап. Я определю свою судьбу не по мотивам личного
характера.
– Ты... Вы, вы только и знаете вертеться в кругу личных интересов.
– Пап, ты горячишься.
– Девки, выпивки, магнитофоны, джинсы, вылазки на природу...
– Я переболел личным. Без него, ясно, редко кто обходится.
– В старину справедливо говаривали: вырастишь ворога на свою погибель.
– Ты не понял. Я не с точки зрения твоей и моей. Я с точки зрения будущего.
– Каких только идей не прикрывали будущим.
– Ты убедишься. Ты, пожалуйста, не думай, что нес двадцать лет неблагодарную
обязанность. Ты убедишься.
– Что хочешь делай: отныне я не отвечаю за тебя.
– Ты будешь гордиться мной!
Они спустились на литейный двор, электрическая пушка обдала их чугунным жаром и
запахом горелой серы.
Горновые, закуривая перед трудной уборкой, пытливо посматривали на отца и сына.
СОДЕРЖАНИЕ:
Повести
Голубиная охота
Мальчик, полюбивший слона
Смятение
Лягушонок на асфальте
Document Outline
Лягушонок на асфальте
ГОЛУБИНАЯ ОХОТА
МАЛЬЧИК, ПОЛЮБИВШИЙ СЛОНА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
СМЯТЕНИЕ
ЛЯГУШОНОК НА АСФАЛЬТЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44






