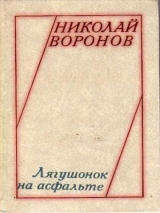
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
«выглядывал». В тубсанаториях и в туббольницах привык разговаривать на прогулках.
Когда в квартире рассказывал – ходил. Ходишь ты с ним, азартней рассказывает. Привычка
еще: к плечу притрагивается. Как-то притрагивался, притрагивался – руку на плечо
положил. Из ладони – прямо высоковольтный ток. Отстранилась. В квартире с ним одним
стала избегать находиться. У мамы ночные дежурства раз в полмесяца. Читаю допоздна -
заснуть все равно не могу. Лихорадит, точно бы из соседней комнаты ток наплывает.
Однажды встала, не собиралась вставать, а встала и пошла. Опамятовалась, когда чуть
дверь не отворила в комнату, где он находился.
У мамы день рождения. Стол чудесный! Все есть, чебуреки даже. Повеселились. Пели
«Хасбулат удалой...», «По Дону гуляет. .», «Брага ты моя, браженька...». Молодежь в
застольях поет новые песни. Как превратятся люди в семейных, детей заведут, так с
остальными охотно поют старинные песни, те же, в общем, какие поются столетиями.
Мама спустилась на крыльцо парадного гостей проводить. Отчим взялся мыть посуду.
Перемыть посуду сама хотела, толк от раковины отчима, он ко мне чуть не с плачем:
«Сжалься надо мной, Тамарочка».
Я психанула. Детскую дразнилку вылепила;
– Дурак-дурачино съел кирпичино.
– Сжалься.
– Ты отца моего пожалел?
– Закон любви.
– Нетушки, закон уничтожения.
Схитрил отчим или с самого начала это было на уме...
– Меня не жаль, над матерью смилуйся.
– Отомщу.
– Что мы могли с собой поделать?
– Несознательные нашлись!
– Чувство, Тамарочка, ведет, как машинист поезд. Разум, Тамарочка, в мягком вагоне
спит.
– Раз безвольные, убейте себя.
– Смилуйся, Тамарочка.
– Отец в психиатричке. Куда мне ехать?
– Во Фрунзе. К деду с бабкой. Ты их любишь?
– Нетушки. Нужно вам – вы и уезжайте.
Не могла уехать я от Славика. Он только из больницы выписался. До армии
оставалось месяц-полтора.
В Аблязово съездили мы со Славиком, у казашки в доме остановились. В комнате -
нары, покрытые кошмами. Спали мы с казашкой на этих нарах. Славик спал в сенях.
Казашка думала, мы близки со Славиком.
Однажды забрались на сеновал вместе. Целовались. Сказала ему по-английски: «Тэйк
ми». Он прыгать стал по сену, как циркач на батуте. От радости. Я ждала. Он прыгал,
прыгал, потом прогнал меня в дом.
Из Аблязова убрались поутру за два дня до срока. Шли пешкодралом. Славик сказал,
что у наших предков одной из высших черт любовного и семейного поведения была
выдержка. И сказал отцов афоризм: «Без выдержки нет нравственности. Ни в чем нет
нравственности без выдержки». Я спросила: «Почему тогда девчонки из нашей палатки
называли меня реакционеркой?» – «По мерзости». – «Почему тогда на Западе, в Америке, в
Скандинавских странах происходит сексуальная революция? Не ошибаешься?» – «Вывеска
для простофиль». – «Только ты не простофиля». – «Томик, ты усвой: для крупных
подлостей и разложения придумывают заманчивую вывеску. Пакость подают под соусом
прогресса. Самый, мол, наисовременный прогресс, идейный-разыдейный: культурная
революция, сексуальная революция. А на поверку – убийство, распад». – «Почему ты
понимаешь, а миллионы людей повсюду будто бы не понимают?» – «Кто понимает, кто нет.
Кому на радость, кому на горе. Понимать одно, противостоять, бороться – другое. Люди
падки на соблазн, даже кровавый. Пример: Гитлер».
Невыносимо расставаться на годы, трудно выполнять обещание. Молодость склоняет
к одному, ум к другому. Как их примирить?
При Славике Кричмонтов гонялся за мной, тут, едва Славика забрали в армию, ловил
на каждом шагу. Все с дружбой. Уклонялась, уклонялась... Убедила себя: дружу ведь с
девчонками. Кричмонтов красотой, сложением идеальный. Посещали кино, танцы, вел
себя учтиво. К себе зазвал – набросился. Вырвалась. Назавтра зашел к нам как ни в чем не
бывало. С мамой и отчимом беседовал с легкостью парня, которого они знают с пеленок...
Повадился заходить. Мама говорит и никак не наговорится с ним. Отчим прямо
чугунеет. Ненависть. Восклицание у Кричмонтова: «Экстаз!» От восклицания отчим
вздрагивает. Однажды отчим на туфли маме подковки привинчивал. Кричмонтов все:
«Экстаз!» Отчим вдруг зажал отвертку, как финку: «Прекрати штамповать!» Кричмонтов в
его сторону глазом не повел: нет отчима, не было, не будет.
Ушел Кричмонтов, мама с отчимом поссорилась. Мальчик запанибрата, но умничка,
элегантен. Разумеется, циник. Но гость. Нельзя обрывать. Отчим свое: «Правильно
оборвал. Франт и шваль, и нечего его привечать».
Кричмонтов приходит – отчим чугунеть. Он уходит – ссора. Я стала поддерживать
маму, отчим начал поздно возвращаться из своего прокатного цеха, странно именуемого
среднесортным. Кричмонтов в мою комнату, мама – к себе. Условия для встречи создает.
Кричмонтов и у нас осмелел, но не тут-то было. Женщина ему нужна. Пусть поищет в
другом месте. Других мест много, да все не те.
Заходит реже. Держусь зажато. Не заходит – иногда реву.
Славик, Славик, что происходит со мной?
Шурлин на первом же уроке в десятом классе вредничал. При росте 150 сантиметров
мстительности на пятерых мужчин баскетбольного роста. Прозвище – Карла-Чуварла.
Вдовый. Жена покончила с собой. Карла-Чуварла, наверно, допек?
Родители бушуют. Докатятся до развода. Кричмонтов, чтобы «подсадить» меня, водит
мимо наших окон архитекторшу из городского управления, очень изящную.
Убегу.
Продала свои брюки, польские, коричневые, с перламутровой игрой, за пятьдесят
«рэ». Продала две шерстяных «лапши» по пятнадцать. Купила билет на поезд.
На рассвете открыла дверь. Отчим чутко спит. Не услыхал. В письмах долго
удивлялся, что не услыхал. На вокзале из окна следила: хватятся – приедут.
Проспали.
В пути писала маме письмо. Целую тетрадку исписала. Вагонные мужчины шутили:
милому строчу письмо.
Ухаживали они за мной! Есть заставляли, орехи кололи, мороженое чуть ли не на
каждой станции притаскивали. Чеченец Везирхан, правда старый, 27 лет, увивался.
Конфет всяких много было у него: «Красная шапочка», батончики «Таганай», сливочная
помадка, маковки. Впервые лакомилась грильяжем хорольским. Грильяж хорольский из
подсолнечных семечек. Пластами лежит среди кальки. Пласт отломишь, лакомишься.
Везирхан все время шутил, анекдоты, притчи рассказывал, исключительно счастливая
улыбка. Из-за духоты выходили в тамбур. Везирхан открылся: каракулевые шубы
привозил в город к нам. Едет в Алма-Ату, обувь туда везет. В городе у нас большая
обувная фабрика. Ему устроили покупку прекрасной обуви, женской и мужской. Просил
написать, какой дефицитный товар во Фрунзе. Адрес оставил, мой взял. Сначала
предлагал ездить с ним. Я, говорит, бизнесмен, ты будешь бизнесменкой. Поживем, как
Рокфеллеры. Сказала: «Ты будешь арестантом, а я арестанткой». Я, говорит, кавказец. Мы
женщин оберегаем от жизни. Я все возьму на себя. Спасибо, говорю.
Ехал с нами украинец. Олександр. Запорожским казаком назывался. Значок приколот
к пиджаку: казак с пикой. Во время войны с фашистами его с матерью и сестрой
эвакуировали в наш город. Мать еще в войну померла. Сестра вышла замуж, осталась на
Урале, он уехал в Запорожье. Работает старшим водопроводчиком на домнах. Хвалил
Украину. Фруктов полно. Абрикосы рви вдоль шоссе. Заработки солидней, цены ниже. У
нас, говорит, земля на славу: воткни гвоздь – вырастет домна. Разведенец. Взрослые дети.
Звал в Запорожье. Убеждал: полюби меня. Дал адрес, я – тоже. Проводила Везирхана, часа
через два – Олександра.
Провожала Олександра, подошел к нему солдат – прикурить. С солдатом мы
очутились в одном вагоне после пересадки. Заходил в наш отсек. Не любит ни карты, ни
домино. Молчал. Почитывал книгу об одиночных морских путешествиях. Посматривал
поверх книги на меня. Тревожно становилось. Собирается на будущий год поступать в
океанографический институт. Поступит. Серьезный.
Проснулась в Омске от диспетчерских голосов. Стояли на подходе к вокзалу. С двух
сторон поезд заперт составами с углем, нефтью, грузовиками.
Духота. В тамбуре с открытой дверью воздух не лучше. Появился солдат. Гуляли на
перроне. Смотрели из тамбура на ночной город. Довольно далеко от линии горели два
факела. Ближний факел, оранжево-красный, был раздвоен, как змеиный язык.
Отвратительность воздуха усиливалась. Проводница, едва мы попросили ее включить в
вагоне вентиляцию, рассердилась: не включит. Перегон от Омска до Барабинска очень
пыльный, и летит черная сажа. Внутри вагона все загрязнится.
Солдат сказал, что человечество больно безумием. Разве здоровое человечество
довело бы дело до чудовищного загрязнения воздуха, воды, почвы, пищи. Солдат мечтает
посвятить себя защите океанов.
Человек! Волнуется за мир. Знает, для чего будет жить. Ни о чем-то я не волнуюсь,
кроме собственной особы и еще нескольких людей, и не знаю, чему буду служить. Как так
получилось? Большая уж: 18 лет.
Солдату, Чугарникову Ивану, надо сходить на станции Чаны. Есть еще озеро Чаны,
огромное. Он живет возле озера. Очень им восхищался. Перед Чанами, когда стоял с
чемоданом в тамбуре, неожиданно попросил, чтобы с ним сошла и я.
Пошутила:
– Кто океаны будет защищать?
– Я.
– Где же буду я?
– На берегу.
– Нетушки.
– С собой буду брать.
– Детей тоже?
– У моих родителей будем оставлять.
Вспомнила слова папы:
– «Женщины любят, чтобы им посвящали жизнь».
– Слишком велика жертва.
– Нетушки.
– Предложение остается в силе.
У самых Чанов душа у меня разрывалась от желания сойти.
Город Фрунзе. Бабушка удивилась, что я без подарков. Сказала, что не успела купить.
Дед вскоре уехал на пасеку в горы. Он пчеловод. Веселый, умный, всегда и везде что-
нибудь напевает. Когда выпьет, говорит: «Я до ста годов проживу!» Мама моя зовет его
Золотая игла. Он портной. Всем в семье шил пальто, шубы, костюмы. Зрение упало – в
пасечники. Дед Михаил Дмитриевич добрый, бабка Анастасия Ефимовна – скряга, но
хорошая. Все прячет у себя в сундуке. Деньги про черный день копит. Всегда
прибедняется. Обе челюсти зубов у нее вставные. Тоже любит петь, но религиозное.
Из дома письмо. Прочитала. Изорвала. Я сказала деду с бабушкой: уехала из-за
отчима, а мама напрямик – убежала.
Поступила в школу рабочей молодежи. Соседка по парте – Удвалова Тамара. Стали
ходить с ней в парк. Возле танцплощадки она познакомила меня с двумя черноволосыми
парнями. У обоих – рубашки вышитые, украинские. Пошли танцевать. Мой партнер -
Туляходжаев Назир – высокий, худой, весь черный, открытые глаза.
Из-за рубашек, за вислые усы мы называли их узбекскими хохлами. Чаще Назир
надевает серый костюм. Весь он выутюженный, нарядный, с фотоаппаратом. Русский
знает хорошо, правда, вместо «положи» говорит «повесь»: «повесь книгу», «повесь
яблоко». После и я так стала говорить.
Часто мы встречались. Танцевал плохо. Бродили. Говорил, если не буду его женой -
зарежется. Немного погодя стал добавлять: зарежет и меня. Показывал нож. Всегда с
собой носил. Плакал. Слезы били из глаз, как родник из земли. Говорил: сирота, нет
родственников, рос в детдоме, не знает узбекских семейных обычаев, родной язык плохо
знает. Говорил, хочет жить для меня.
Разжалобил. Хороший человек, настрадался, должно же вознаградиться его сиротство.
Бабушка и соседи предостерегали: не уживетесь, покуда не выйдешь на
самостоятельную дорогу. Но если твердо решила выходить за Назира – прежде вникни в
его характер, он пусть твой вызнает. Ты на Урале выросла, он на Востоке. А то он начнет
свои обычаи ломить, ты – свои. Муж к жене должен применяться, она к нему, иначе вам не
поживется. Отговаривают – хочется поступить наоборот. Так и тут.
Говорю ему: доучусь в десятилетке, тогда... Отвечает: учись хоть десять, хоть
пятнадцать лет.
Сердился: брезгую его поцелуями. Брезговала и боялась. Казался мне толковым,
многоопытным. Все умеет, а я – ничего. Делал изумительные фотографии. Пачками
приносил. И всё на них я. Говорил: всю ночь печатает, мечтая обо мне.
Он учился в кооперативной школе. Бросил.
Встречались возле кинотеатра «Ала-Тоо». Однажды неожиданно пришел с
двоюродной сестрой. Они горячо говорили с сестрой. Он переводил: сестра уверена – мы
рождены друг для дружки, предлагает жить у нее и мужа.
Назир сказал, чтобы завтра утром я ушла из дома.
Я легла спать на крыше: очень было жарко. Плакала, Говорила себе, что буду каяться.
Решилась – вспомнила мамины слова: «Восточные мужчины любят русских женщин».
Мама ведь не только в Киргизии жила, по всей Средней Азии, знала про отношения в
семье, психологию мужчин, да и женщин, про покупку невест – калым. Я сама кое-что
знала о национальностях, близких к этим народам. У отца в тресте, когда он жил с нами,
были уроженцы Башкирии, Казахстана, Татарии. Они зазывали отца к себе на родину: на
барашка, на бешбармак, на рыбалку, на праздник уразу, на козлодранье... Мама не ездила с
ним: «Повод для гульбища не прельщает». А меня посылала: «При ребенке будет
ограничивать себя». Правильно: при мне в меру пил. Из аулов обычно выносила
впечатление о молчаливости женщин и девушек, о застенчивости, о вкрадчивости, о том,
что они не сидят без дела. Мужчины обособились, правят, празднуют, требуют почтения.
Спрашивала отца: «Почему так?» Объяснял тысячелетними традициями.
Покинула дом без вещей. Написала бабушке с дедушкой записку: «Ушла с Назиром
навсегда!»
Он ждал. Тюбетейку (допа) на меня надел новую, красивую. Сказал: сейчас все будут
смотреть на меня из-за красивой допы. Повадками Назир иногда походил на мужчин из
аулов. Я сердилась, обзывала его баем. Он оправдывался: куда денешься? Пережиток
прошлого. Смотрели. Некоторые посмеивались надо мной. Шалость тоже замечала во
взглядах и зависть.
Пошли на базар. Купили все для плова. Вместе сфотографировались.
Варили плов у сестры его. Он варил сам. Я выбирала рис. Морковь резал сам. Чистила
чеснок. Готовили во дворе, в казане. Дома был муж сестры, он киргиз, 58 лет, ей – 30. Она
кондуктор. Очень красивые длинные косы. Мечтала быть актрисой. Ее звать Зейнаб, его -
Джангазиев Амеркул. Назир звал его пача (зять), я – дядя Амеркул. Он говорил: «Живите,
абы было согласие. И обязательно зарегистрируйтесь».
На улице было темно, прохладно: рядом горы. Дым, казан, высокие стены из глины...
Нравилось, как в детстве, среди гор или в казахской бесконечной степи.
Они ели руками, я – ложкой. Дядя Амеркул говорил: руками есть негигиенично. Назир
поддакивал. Ели на полу, на кошме, поверх кошмы – скатерка (дастархан). Плов лежал
холмом в огромном блюде, сверху – мясо, чеснок. И с яблоками плов приготовили.
Объедение!
Книг было много у них – стеллаж. Дядя Амеркул, он партийный и работает в
типографии.
Они спали во дворе, мы – в доме. Назир промаялся всю ночь. Не получалось.
Женщины были у него, девушек не было.
Наутро я чуть не ушла: отвращение. Он страдал. Такого убийственного отчаяния не
наблюдала: «Неужели я не мужчина?» Это и удержало. Произошло все днем. Понес
простынь показывать друзьям.
Зейнаб относится хорошо. Все по хозяйству делаю сама.
Мужские притязания Назира нестерпимы. Никакой радости. Кто-то из девчонок
уверял: нет ничего радостней. Отталкиваю. Реву. Ненавижу.
Сказала, что забеременела. Не поверил: очень скоро.
Кашлял. Отнял от губ носовой платок – кровь. Испугалась. Признался: туберкулез.
Лечили. Стала закрытая форма. Теперь, наверно, опять открытая. Из-за туберкулеза
освобожден от службы в армии. В тубдиспансер не хочет идти. Написала маме.
Лечится в тубдиспансере. Вечернюю школу иногда пропускаю из-за хлопот по дому.
Уговорила переехать на частную квартиру. Стала ходить в школу постоянно. Он с
подозрением: видел с каким-то мужчиной. А я дедушку с бабушкой не навещала. Пьяный
ревновал нахальней: бил. Как ударит – синяк.
На танцы не ходим, в кино – редко. Пошли в театр на узбекскую постановку. Назир
был пьяный, и нас выдворили.
Сдала экзамены, а 21 июля родила Назиру. В первый день он не пришел в роддом,
только на второй. Сказал: искал работу. Был как будто рад дочке. На присланные моей
мамой деньги купил большое ватное одеяло из расчета на себя и Назиру. Приданое
приготовила раньше. Первое время Назира спала в чемодане.
Он плохо помогал по дому. Когда ходила последний месяц, попросила воды принести.
Сказал: «Бабы последний месяц ходят и в шахте работают».
Он редко носит Назиру. Берет – несет, как бревно.
Назира – Надя на русский манер, а Назир – Коля. Наде исполнилось три месяца.
Переехали в садоводческий совхоз под Фрунзе.
Когда еще жили у тети Зейнаб, он внушал, как вести себя.
Пришли к нему гости. Как раз сварился борщ. Он налил борща для меня и унес в
сарай, в летнюю кухню. Я сидела и плакала. Он говорил, что в дом нельзя – там одни
мужчины. Не могла смириться. Взяла тарелку, в дом за стол. Не успела опомниться -
вышвырнул меня во двор.
Среди гостей был фотограф Джабар Владимирович Дождаков. Портретист. Его
снимки помещают в газетах и журналах, даже в «Правде» и «Огоньке». Он, когда мы еще
встречались с Назиром, снял меня для республиканской выставки. Премию получил. Лет
ему – под сорок. Судьба с перепадами. Учился на оператора в киноинституте. На третьем
курсе женился. Нуждались. Бесквартирье. Поехал на строительство химзавода. Ногу там
потерял. Инвалидность. Жена подала на развод.
Он еще художник. Рисует акварелью пейзажи. Нежные. Обязательно деревце или
фигурка человека в степи, перед горами. И всегда дымка, туманно, сумеречно. Подарил
нам, когда мы с Назиром сошлись, давнюю акварель. Башкирское впечатление. После
освобождения подался в Среднюю Азию. Отец русский, мать узбечка. Шил в Ташкенте,
Душанбе, Алма-Ате.
Видела похороны. На закате, тоже степь перед горами, бегут мужчины с умершим.
Похороны по-магометански. Красно над горами, долины синие, и люди бегут, не совсем
четкие, размытые, сероватые. Я не знала, кто это и почему бегут, но взглянула и поняла:
трагедия, смерть. Джабар Владимирович считал: из Назира может получиться художник-
фотограф, потому дружил с ним.
Часто я думала с восхищением о нем. Были дни, когда мысленно призывала спасти
меня от Назира. Назир чувствовал это. Ревновал.
Назир швырнул меня во двор, ударил по щеке, и здесь выскочил Джабар
Владимирович. Закричал: «Не смей!» Назир снова ударил. Джабар Владимирович схватил
его за руки. Сильный: Назир весь изогнулся, присел. Джабар Владимирович спросил:
«Будешь еще трогать?» Назир корчился, корчился: «Нет». Фотограф отпустил. Назир в
дом, за нож, два раза ударил Джабара Владимировича в плечо и в бок. Выскочили другие
гости. Назир бежать. Фотографа увезли на «скорой».
Назир прятался среди железнодорожных составов. Прислал мальчишку за пиджаком.
Чуть раньше приезжала милиция. Наверное, за домом наблюдали. Мальчишка привел меня
к Назиру, вскоре – милиция. В темноте прятались под вагонами, потеряли кофту мою. За
полночь вернулись. Дядя Амеркул выставил Назира из дома. Зейнаб не возражала. Я не
пошла за ним.
Он исчез. Оказалось – арестовали. Через несколько дней выпустили. Джабар
Владимирович написал в милицию, чтобы выпустили. Но Назир продал фотоаппарат и
кому-то отнес деньги. Сказал: откупился. Вскоре опять попал в милицию, и опять его, как
он выразился, «шуганули». Признался: спекулировал костюмами и брюками. Какие-то
женщины шили. Он продавал. Хороший барыш доставался. Через месяц мы перебрались в
совхоз, где ему устроили место завскладом.
Для устройства Назир ездил в совхоз. Днями отсутствовал. Навещала в больнице
Джабара Владимировича. Счастье, счастье! Необычайный человек! Назиру простил. Он
говорит, сам по себе не злой, но, увы, в генах записана ревность. И усвоил не самые
лучшие семейные традиции. И еще: мы, дескать, советские люди, – преобразователи. Мы
преображаем природу человека и природу природы. Мы кое-чего достигли, но слишком
торопимся. Нетерпение наше возвышенное, но порой оборачивается поспешностью.
Изменение особенностей жизни – бытовых, экономических, просветительских – не может
сразу изменить природу национальности, народности. Социально-общественные скачки от
формации к формации еще не означают, что скачками изменяется физиологическая, а
следовательно, психологическая природа человека.
Целый день в студии Джабара Владимировича. За что мне такая радость?! За
страдания? Пожалуй. Правда, мою радость все время перекрывала печаль. Он убежденный
одиночка. Ты никому не в тягость, и тебе – никто. Большинство мужчин сжигает себя на
прокорм семьи. Где уж тут создавать духовные ценности. Гонка за благополучием, которое
непрерывно ускользает. Одиночке много ли нужно? Костюм можно таскать лет пять -
семь, плащ – не меньше. Вдохновение как на небе, живется на хлебе и чае. Погиб – никто
не загрустит. Разве что почитатели твоего дела? Но они связаны с тобой лишь духовно. А
вот оставить жену, детей без кормильца – страшно. Когда ты в ответе лишь перед самим
собой, ты мыслишь с полным чувством независимости. Твое время ни у кого не состоит в
рабстве, и у тебя – ничье.
От девушек и женщин не слыхала я таких мыслей. Нам почему-то хочется дарить
свою судьбу. Пленницы по природе и по воле собственных чувств, Джабар Владимирович,
прощайте! Все равно я счастлива, хотя бы тем, что вы сказали. Вы ведь не умеете
притворяться и лгать. Пусть ваши слова будут тайной моей памяти.
В совхозе жили в доме из самана, пол деревянный, крыша из кукурузных стеблей.
Природа красивая. Горы. Вершины в снегу. Весной горы красные – в маках. Много садов,
кукурузы, клевера. В каждом дворе очаг. По вечерам вкусные запахи – готовят еду.
Лепешки из кукурузы – объедение. Жареную кукурузу мелют на жерновах, в муку
добавляют воду и кислое молоко, выпекают лепешки. Назир умел их печь, научил меня.
Многому он учил меня.
Какие-то две женщины подошли к нашему домику, стали плакать в крик. Я
испугалась. Немного утихли. Вошли во двор – опять плакать. Прибежал наш сосед-мулла -
прочитал молитву. Женщины успокоились. Оказалось, приехали тетки Назира по матери.
Голосили об умерших родственниках.
Киргизы принимали меня хорошо: я учила язык, приходила с гостинцами, как бы
вошла в их круг. Мужчины все умеют говорить по-русски, женщины – редко. Киргизы
совсем не ревнуют. Будь я замужем за киргизом, была бы, наверно, счастлива?
Назир вернулся и уехал с тетками к своей сестре. Ее муж – буфетчик. Уехали на
обрезанье мальчика. Не взяли меня.
Тетки сманили Назира переехать к ним. Они плакали и рассказывали, что его средняя
сестра при смерти. Как будто она в бреду все твердит: «Назир – хаджа...» (всеми
уважаемый).
Я носила русские платья. Назиру одевала соответственно. Они сшили нам узбекские
платья. Сшили мне из штапеля шаровары. Мои комбинации, грацию, пояса, колготки,
лифчики Назир продал в совхозе. Сказал: нельзя там будет носить – засмеют.
Его сестра не была при смерти. Правда, она плохо себя чувствует, черная, вся
высохшая. Муж моложе. Пятеро детей у нее. Ее старшую дочку с тринадцати лет готовят в
невесты. Нашили пятнадцать платьев. Платье обязательно с английским воротником.
Костюм кофейного цвета, любят этот цвет. К каждому платью – новая брошь. Обшивают
платки кружевами.
Пищу мне не разрешают готовить. Не мусульманка. Замужняя женщина носит, кроме
платья, шаровар, лакированных ичигов и галош, серый халат.
Взрослые звали меня келин (сноха). Келин обязана вставать раньше всех: в 5 часов.
Подметешь двор, поставишь чай, почистишь посуду, потом будишь их. Уходила со двора
редко: на базар или к одной из теток Назира – Сонабар. Хорошая бабка, певунья, пляшет.
Ее сын двадцати двух лет мне нравился. Красивый. Добрый. Они подкармливали меня.
Молока покупали, сливок. Готовили вместе манты – большие пельмени, варятся на пару. Я
любила лагман – длинную лапшу, дунганскую. Ее едят с мясом.
Ни у тех, ни у других не было радио, телевизоров, магнитофонов. Спросишь:
«Почему?» Кто-то умер год назад, а то и раньше. Глубокое уважение к памяти умерших
мне по душе, но слишком уж оно лишает простых радостей. У других, не у их родни, было
все.
Назир часто не являлся от утра до утра. Спросишь – у Авасхана ночевал, у
двоюродного брата. Авасхану двадцать пять лет, у них шесть детей, двое еще умерли.
Назир всегда ставил мне в пример жену Авасхана Гелюсем. Она истинная мусульманка,
нигде не бывала, никогда не спросит, почему отсутствовал муж... Стала усваивать
восточную косметику. Брови мазала усьмой – травкой, маленькой, мы ее рвали сами. Брови
и ресницы от усьмы делались черными-черными, хорошо росли.
Назир обрился. Я ненавидела его. Если во Фрунзе и в совхозе иногда жалела и
боялась, что посадят, что запьет, то здесь только ненавидела. Пьет и таскается по гулящим
женщинам, да еще смеет бить по щекам.
Где я живу, мама скрывала от моего отца. Она убеждена: мое замужество – следствие
его преступления перед семьей. Мама строгая, но слишком категоричная, ну и склонна,
как многие из нас, не видеть вины за собой. Я обвиняю прежде всего саму себя. Странно,
почему виноватый человек, если скажешь ему об этом, жутко оскорбляется и не находит за
собой вины? Директриса журила нас за несамокритичность, но я не запомнила ее
самокритичности. Почему так? Почему я ощущаю свою вину и не отчаиваюсь? Отец
раздобыл мой адрес через Камаевых, начал присылать деньги. Не он бы – нужда. Расходы
по переезду к теткам Назира, подарки – все за отцовы деньги. Он не пьет. Лечился. Бросил
не из-за лечения. Очнулся. Он пишет, что долго вертелся вокруг себя: оценивал выше, чем
окружающие, опирался на одни собственные мысли обо всем... Он оригинально объяснил
свои алкогольные завихрения. Ехал в поезде коллективистов: только и пекся об
общественном. Перебежал в поезд личнистов (от личность), когда вспомнил, что и себе
нужно оказать внимание. На одной из станций его поезд встретился с прежним. Хотел
вернуться на поезд коллективизма, да вспомнил – нанесет ущерб своей личности. Пока
раздумывал – поезда пошли. Стало завихривать. Того и гляди, затянет под какой-нибудь из
поездов. Упал на междупутье. Шел, шел по междупутью – и вышел на соединение путей,
где рельсы не по земле и не параллельно, а над землей и воедино, и вагоны воедино, и
поехал в слитном поезде. Пьянку он относит к периоду междупутья.
Назир папины письма уничтожает. Два перехватил, но не отдал и уничтожил. Письма
отца – духовные вестники из моего родного мира. Я всегда считала отца думающим. Его
мысли, которые привлекли меня: «Личность бросилась к самой себе, в саму себя, ради
самой себя. Самообольщаясь, самоублажаясь, саморазлагаясь, она придет к
самопознанию, самовозвышению»; «Невоздействие – как принцип ожидания, когда
отдельный человек или целый народ дозреют самостоятельно до чего-либо, в чем
нуждаются, от чего страдают и теряют»; «Подчас представляется: мой бедный мозг годами
волокется среди донной тьмы в мотне океанского трала».
Приехал отчим, навез для нас с Надей всякой всячины. Назира и его родню
гостинцами одарил. Назиру привез фотоаппарат. Назир было опять занялся
фотографированием, но вскоре куда-то задевал аппарат. Сказал – украли. При отчиме мы с
Надей в основном находились у Сонабар. Однажды ездили втроем за город. До
невероятности я была благодарна отчиму. Целовала ему руки. Он плакал. Договорились,
что он не подаст вида, что опечален моей жизнью, месяца через два – телеграфный вызов.
Да, он привез письмо от папы. С этого надо было начинать. Погрязла, погрязла я в
примитивных, пусть и не обойдешься без них, вещах: продукты, приготовление, еда,
стирка, разговоры вокруг всего этого да вокруг покупок, подарков, праздников, бед, да кто
что о ком сказал, да какое у него положение, да богат ли он, да как извлечь выгоду из
покупок и перепродажи...
Я написала папе обо всем, что сталось со мной. Он страшно огорчен. Он предполагал
вероятность такой судьбы у меня. Но он не допускал, что я до такой степени подверглась
изменению. Он находил, что я крепче, чем казалась. Правда, он оговорился: всегда считал
и считает, что женщина сильнее подвергается стремительной трансформации, чем
мужчина, что в основе своей быстрая приспособляемость и приспособленчество
характерны для женщины в силу того, что она мать, в силу ее многотысячелетней
подчиненности мужчине. Из-за меня он стал много думать о проблемах воспитания. На
практике, как руководитель, он часто осуществляет функции воспитателя, но без
достаточной научной подготовленности. Он надумал, что в технических вузах должен
быть курс лекций «Педагогика руководителя». Он убежден, что один из разделов этого
курса должен быть отведен изучению национальных особенностей народов – от семейно-
бытовых до философско-экономических. Это же необходимо, как думает он, изучать в
школе в рамках предмета «обществоведение».
Пришла телеграмма, заверенная врачом, будто мама тяжело больна. Назир отпускает
без Нади («Не умрешь»), чтобы я возвратилась. Я настаивала: с Надей. Обещала
вернуться. Кое-как согласился.
Через месяц прислал письмо. Не вернусь – он сейчас же уедет к себе на родину и там
женится. Я написала: вновь увидела свет, хожу и пою от радости. Вызовы на переговоры,
телеграммы, письма. Обещает отомстить. За что? За то, что обманул, надругался, даже
изменял?»
33
Страшно было Вячеславу читать дневник Тамары. Никогда раньше так больно не
бухало сердце. И никогда его волнение не достигало такой лихорадочности, при которой
кажется, что сходишь с ума. Страшно было также и то, что моментами Вячеславу хотелось
подать Тамаре совет, уберечь от опрометчивости, отругать за легкомыслие, укорить за
покорность и темное существование без достоинства и самоанализа, без попыток
заглянуть в будущее собственной судьбы. Но, пожалуй, страшней всего было то, что
Тамара перестала о нем вспоминать, и совесть ее не мучила, и была готова отдать себя
первому встречному. Да что готова!..
Падение, глупость, безответственность. Не щадить себя, забыть об отце, о нем, уйти
от деда с бабушкой. По любви бы – простительно. Затмение души, затмение сознания?
А он-то, он-то все любил ее и редко кого видел сквозь эту любовь, как сквозь
железобетонную стену.
Тамара находилась в прихожке, откуда проникал в горницу аромат жаркого.
Принимаясь читать, Вячеслав стыдливо поражался Тамаре: как ни в чем не бывало вышла
из горницы, спросила у старухи, не продаст ли кто из ее соседей мяса. Старуха ответила,
что незачем покупать мясо – в погребе на льду лежит гусак, убитый городским озорником
из «малопульки». Пробовала очередить гусака, да пальцы совсем загрубели – толстое перо
еще дерут, а вот мелкое, пух и пенечки не ухватывают. Тамара сказала, что сама очередит
гуся, быстро его общипала, обдала кипятком, опалила, выпотрошила.
Когда она вернулась со двора, старуха уж сдобнушек напекла, начистила картошки.






