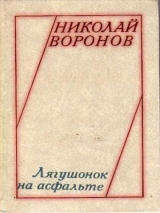
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
жаворонки поют. Когда я к Тамаре зайду или на улице увижу, тоже тепло, весело
и в ушах: тюр-лю-лю, тюр-лю-лю.
– При штурмане у тебя тоже тюр-лю-лю?
– Она ему все тебя хвалила.
– Тогда меняй брата на Томку и штурмана.
– Учился бы ты у Марии Николаевны, поставила бы она тебе жирную
единицу.
Вася, угрюмо сопя, поднял подкову, перекинул через плечо. Вячеслава
умилили рассудительность и хитрость брата. Разумеется, он перебросил подкову
не потому, что верит, что это принесет ему счастье, а для того, чтобы
посмотреть, где Тамара. Вася догнал брата, довольный: Тамара следует за ними.
Вячеслав с укором глянул на Васю и поймал себя на том, что даже рад, что
она не повернула домой.
6
Лодочная станция, к которой они шли, поразила Вячеслава безлюдием. По
всей России, покуда он ехал с места службы, дни стояли погожие. На родине
тоже держится вёдро. Он забыл, что уже октябрь, но пустынность лодочной
станции напомнила об этом.
Открытые стеллажи уложены плоскодонными катамаранами. Рядом скутера
– оранжевые, алые, розовые, белые с черным, купоросно-синие. До армии он
нередко здесь бывал – ходил на яхтах, но либо так ярко не красили катамараны и
скутера, либо он был глух к разноцветью. Вероятней всего, был глух. Впрочем,
когда у него п е р е к р у ч е н н о е состояние, он очень обостренно
воспринимает все прекрасное, как будто вот-вот должен умереть. Что за чудо
каноэ! Какая в них изящная длиннота, И звонкое на вид дерево, и тонко, до
сухого свечения, крыто лаком! Не из такого ли дерева делают скрипки и не
таким ли покрывают лаком? Может быть, за каноэ, когда оно летит по воде,
вьется паутинка мелодии, и гребец слышит ее, особенно в безветрие и на самой
ранней утренней зорьке?
Вячеслав взял ялик, греб на далекую от пристани дамбу, насыпанную из
сиреневого скальника. Куда-то девалась Тамара? Только что была возле сарая,
откуда торчал нос спасательного катера, и вот исчезла.
– Вась, ты не заметил, куда она подалась?
– Хотя бы и заметил...
Вася замкнул губы и отводил с переносицы челку.
Зыбило. Лодки, звеня цепями, кланялись мосткам. Яхты, приткнутые к
заветренной части пристани, пошатывали в небе мачтами. От прилива тоски
Вячеслав все воспринимал как бессмыслицу: приход на лодочную станцию, то,
что исчезла Тамара, и то, что насупился Вася.
Распахнулась дверь фанерной будочки, где была касса, оттуда вышла
старуха. В тот короткий промежуток времени, пока старуха прикрывала дверь,
он успел заметить Тамару, склонившуюся к оконцу кассы. Потом Тамара
подошла к старухе.
– Бабушка, я оставлю в залог босоножки.
– Никаких залогов, – зло сказала старуха, хозяйски осматривая пруд.
– Мало босоножек – платье оставлю.
– У меня не раздевалка. Вона погода портится. Вона пруд-то кочками взялся.
Тамара обогнула ограду, скрылась в дощатом кругло-оком доме. Вскоре она
вышла на крыльцо впереди мужчины, одетого в чесучовый костюм. Мужчина
столкнул с отмели красную лодку-однопарку, придирчиво наблюдал, как Тамара
огибает причал. Начальник станции. Дурнушка бы попросила отпустить лодку
без документа, наотрез бы отказал, красавица – персональную, пожалуйста,
бесплатно.
Яростью наполнились руки Вячеслава. Хотя весла раздирали пруд не под
самой поверхностью, вода кипела и снаружи.
Он правил к вышке, установленной на железных понтонах, но едва заметил,
что Тамара начала грести вдогонку, повернул ялик в сторону Южного моста.
Мост светло возвышался вдалеке на высоких быках.
Алюминиевой легкости Тамарина однопарка догоняла ялик. Вячеслав
подумал с ехидцей, что встречи со штурманом оказались для нее не без пользы.
А уж морячок-то, видимо, достиг, чего добивался.
Вячеслав гнал ялик без передышки. Его не покидала уверенность, что
Тамара скоро измотается и отстанет. Но как он ни кромсал воду, лодка упорно
подтягивалась к ялику.
Вася, сидевший на корме со сжатыми кулаками, внезапно принялся
раскачивать лодку.
– Прекрати, дьяволенок.
Вячеслав сшиб лопастью гребень волны, Васю окатило брызгами, но он
продолжал наклоняться вправо-влево. Вячеслав опять ударил веслом по воде, и
тогда Вася, мокрый, с наершившимися на макушке волосами, прыгнул в пруд.
Вячеслав машинально взмахнул веслами, а когда, испугавшись, затормозил,
Вася уже схватился за протянутую руку Тамары и она выдернула его из пруда и
было направила однопарку к пристани, но его настырный братишка
запротестовал, тыча пальцем по направлению к Южному мосту, и Тамара
погнала туда лодку.
Держа ялик поперек воля, фыркающих и шепелявящих пеной, Вячеслав
медленно поплыл за ними.
Они пристали к бетонной площадке возле боковой опоры моста, где лежали
плиты для облицовки дамбы, кабельные шпульки и пласты асбоцемента.
Подъезжая к центральным быкам, Вячеслав увидел, что Тамара полезла из-под
моста наверх, а Вася принялся стаскивать с себя мокрую одежду.
Как только проплыл под мостом, опять увидел Тамару. Она шла около
чугунной решетки, выкрашенной оловом, задержала прохожего, что-то взяла у
него, быстро бросилась на ту сторону моста, наперерез желто-голубому
трамваю.
Она спустилась на площадку, разожгла костер. Голенький Вася, зажавшись,
стал прыгать вокруг этого красивого огня. Вячеслава потянуло под мост, к ней, к
брату, но тут ему стало совестно перед Тамарой и Васей, и он, не глядя на них,
въехал под свод между срединными быками и посетовал, что это не Сцилла и
Харибда: они бы с двух сторон двинулись на ялик, а он бы не шевельнул весел,
и они бы раздавили его.
Он отплыл далеко от моста, когда Тамара и Вася вскарабкались по каменьям
на дамбу. Как малы они, эти два человека, перед высоковольтной мачтой,
вонзившей бетонные копыта в край горы, перед клетчатой поднебесной трубой,
из которой ветровые потоки выхлестывают дым, перед зданиями
теплоэлектроцентрали. Как дороги они ему, эти два крохотных человека. Они
машут руками и кричат. Неважно, что они кричат. Он не хочет слушать, а сам
почему-то поворачивает ухо навстречу ветру и ловит пригасающие в полете
слова.
– Мы тебя любим, Слава. – И немного позже: – Мы тебе прощаем.
Прощают. Спасибо. Но прощает ли он? Как подрос Вася! Какое у него
светлое сознание. Мама и Тамара – все равно что солнце и жаворонки в небе.
Надо же так соединить! Милый ты мой тюр-лю-лю. А Тамара! Она не была
такой прелестной! Смазливенькая была, толковая, но угловатая. Красавица, и
нежная в ней покорность, и даже гоняется за ним, и это не противно, и не
ощущаешь за этим потери достоинства.
7
Не думал Камаев, что с приездом старшего сына отношения в семье примут
тягостный оборот. Вася неохотно разговаривает с Вячеславом, притом еще и
огрызается. Всегда был незлобивым, а тут – волчонок. С ним, отцом, тоже
лишний раз не перемолвится, и то как бы по необходимости и снисходительным
тоном. Вячеслав почему-то ударился в саморазвлекательность: пьет вино
(мамочка родная старательно покупает), пляшет под радиолу барыню и чечетку,
шпарит солдатские анекдоты искусственно бравым голосом. И бывает словно
пацаненок: возьмется котенка манить гусиным пером, привязанным к нитке. За
этой беспечной дурашливостью легко угадать, что он старается побороть
недовольство им, отцом, и тоску о Тамаре. Вот и поговори честно. Рассказал
сыну правду, и он же ему чуть ли не враг и чуть ли не виновник опрометчивого
замужества Тамары. Не то Вячеслав выделил для ума, от чего он хотел его
предостеречь, а на то напирает в намеках и через всякие там притчи, будто он
полез к нему с советами по заскорузлому ханжеству и родственной зависти.
Чего только не напутает и не выкрутит человеческое сознание, которое не
находит решения? Он, Камаев, и сам мечется и мается и не находит решения,
потому что не может верить в чистоту тех, кто преступил любовь и верность.
Он-то повидал людей, и ему известно, какие худшие из них, случалось, самые
талантливые, стремясь к благополучию и к принятой норме жизни, маскировали
истинное желание даже перед собой и уж тут-то они казались расчудесными...
Надеялся Камаев найти поддержку у жены, но и она поднялась против него,
точно клушка против коршуна.
– Разлучник ты родному сыну. Кисло было тебе, когда отец-мать не отдавали
меня? Еще как кисло. Зарок дал: никогда не препятствовать сердечному
согласию детей. Эх, Сережа, Сережа! Моряк свет застил. Чем хуже моряк
нашего Славика? Съел он Томку? Поухаживал месячишко – и вся недолга.
Обидно, верно, малость. Все же войти в их положение можно. Молоденькие. На
днях дамочку встретила. Вместе в магазине за мясом стояли. Она наш институт
проходила, а парень – московский. Три года ждала, потом с одним инженером
укатила на Дальний Восток. Парень доучился, разыскал, увез. Она уж двух
детей народила. Он и детей забрал. Дамочка говорит: «Я свет увидела, как он
забрал меня!» Простил, в пьяном виде дажечки не укоряет. Взаимность!
Не стал Камаев спорить с женой. Когда жалость руководит Устей, не
поддается она убеждению. По-прежнему он готов дать голову наотрез, что
непостоянные люди не способны на большое чувство.
И разлад в семье, и отчужденность Вячеслава, и возмущение жены Камаев
переживал трудно, но он не отчаивался, надеясь, что все это, как и
всякое з а т м е н и е сердца, пройдет быстро, без горестных последствий.
Вскоре он в этом усомнился: Вячеслав, придя домой с хмельным Леонидом,
объявил, что устроился работать резчиком лома.
– Больно ты, сын, возгордился. Совет хотя бы спросил. Для прилику.
Вячеслав стряхнул в ладонь сигаретный пепел, прижмурился, подыскивая
ответ. Осточертели Камаеву прижмуривания. На первый взгляд в них
проницательность, душевная мягкость, улыбка согласия, а разобраться -
обыкновенная рисовка. Вячеслав замечал: отца раздражает, что он щурится, и
старался не щуриться, да не получалось: постоянно веки смыкались почти на
нет помимо воли. Отец думает: «Дурная привычка». Какая там привычка... В
армии была с ним неприятность. Заболел, временно потерял зрение. Три месяца
отвалялся в госпитале, вышел оттуда, хохмила солдатня, как свежеотчеканенный
полтинник. И верно, вылечили лучше некуда! Но, увы, не ликвидировали
зрительной травмы: почему-то глаза то и дело прижмуривались.
– Согласись, пап, я ведь не трактор. Трактор можно поворачивать сколько
угодно, куда угодно и когда угодно. Я хочу и могу управлять собой.
– Можешь, но зачем же избрал специальность не главную на комбинате?
– Меня вполне устраивает скромное положение. Был солдатом и горжусь.
Никакой зависти к положению командного состава я не испытывал. У нас на
площадке бывали академики, конструкторы космических кораблей. Может, и я
ударюсь в науку, а пока остановлюсь на рядовой роли. Извини, папа, я не хочу
быть звездохватом, и без меня таковских с излишком.
Леонид шаловливо подскакивал на диване, вязко гудели пружины.
– Уймись, – крикнул ему Камаев. – Кабы шуточный разговор... Все
придуриваешься.
Поглаживая длинными ладонями длинные веки, Леонид сказал:
– Мне, Сергей Филиппович, незачем трехколесный велосипед, а Славке
опека. Парнище мозговит, плюс армейская закваска, плюс испытания судьбы.
– «Испытания»? Вот у нашего поколения действительно были испытания.
Нет, наверно, на земле таких проб, на которые нас не испытывали. Ан в нас та
же прочность, те же надежды.
– Да, пап. Но я ведь твой продолжатель. Кстати, нашему поколению очень
многое доверяется.
– А кто над вами?
Леонид рассмеялся:
– Детские ясли. Слушай, именитый доменщик Камаев, брось
политпросвещение. Славка самый что ни на есть нашенский.
– Какой такой вашенский?
– Корневой системы рабочего класса.
– Выражаешься ты, зима-лето, кучеряво.
– Выражаются матерщинники. Я высказываю лично скумеканные
соображения.
Леонид говорил полушутя-полусерьезно, и Вячеслав махнул рукой, чтобы
он замолчал.
Вячеславу захотелось достойно завершить спор с отцом, который, как ему
представлялось, замкнулся в рамках своего поколения. Эту особенность
Вячеслав замечал в пожилых людях и для себя называл ее дефектом старости.
То, что в мыслях отца проявился дефект старости, показалось ему
случайностью.
– Не волнуйся, пап. Продолжим, возвысим, передадим детям.
– Аспирантура! – крикнул Леонид и, улыбаясь, проводил по длинным щекам
длинными ладонями, будто умывался.
– Вы, пап, пока что умней нас. В практическом смысле. Но мы понимаем
больше, вынуждены понимать больше: первопуток, а вы наставили на нем
барьеров, стен, заграждений.
– Смелоа.
– Мы были бы худыми наследниками... Пап, надо вовремя сознавать
изменения в обществе, в людях, регулировать...
– Так что же ты? Ых! – обрадовался Камаев. – Я и регулирую, что на домне,
что в семье.
– Академия! Заарканил он тебя, Славка. Лапки вверх – и молчи.
– Ничего не заарканил.
– В цех ко мне собирался работать и такую пилюлю преподнес...
– Заваруха! А?!
– Погоди, Леонид, проблема ж важная, – сказал Камаев.
– У нас нет мелких проблем. Все проблемы огромадные, эпохальные.
– Прекрати клоуна из себя строить.
– Ты без окрика, знатный Камаев. Ты шибко серьезный, а я шибко
несерьезный, ты шибко правильный, а я шибко вольный. Все для тебя важно, а
для меня смехотворно. Равновесие!
– Сын, неужели ты из-за Томки? Одно дело чувство, другое – труд. Одно,
может, на месяц, в крайности на годы, труд – на всю жизнь.
– Я едва через порог, ты не вгляделся, что мне по нутру, и сразу
предписывать. С меня армии довольно.
– Круши, Славка, уставников.
– Если в чем пережал – давай не сердись, сын. Мы должны блюсти народную
мораль, а не какую-нибудь шалопутно-европейскую.
– Во, откровенность! – вставил Леонид. – Шито-крыто не по мне.
Противоречия не позволяют уныривать от правды. Ты давил на Славку,
заслуженный Камаев. Он мне говорил: не по духу ему тиранство. И как ты еще,
Славка?... В тебе кто просыпается под нажимом?
– Дядя Лень...
– В ём просыпается тираноборец.
– Ерник ты, ерник, Ленька. Ну так что, сын? Переоформим тебя из копрового
в доменный?
– Ты что? Меня за ничевоку сочтут. Я бегал с ним, унижался, устроил. Блажи
в меру, – запротестовал Леонид.
– Сынок... А ты, Леня, сейчас шаляй-валяй относишься к его будущему. Ты
утихни. Сынок, ты нам с матерью очень трудно дался. Ты не помнишь всего, по
малым своим летам не мог запомнить. В природе человеческой забывать, не
ценить великую заботу, еще и обостряться за то, что она была. О родительской
заботе нечего и говорить. Она воспринимается как положенная, с привкусом
господствования: дань русских, что ли, князей татаро-монголам, оброк крестьян
помещикам... Леонид, помолчи. Получать с ясновельможной благосклонностью.
Получать, не делая попытки оценить, каким усилием и страданием дались
«дань» и «оброк». Получать не без пренебрежения.
– Во, люблю умственный анализ! Что водится, об этом надо заключать. Я
редко встречал благодарных людей, детей – тем паче.
– Не о благодарности я. Это раньше, когда на старости лет родители
попадали в закономерную экономическую зависимость от детей, о
благодарности пеклись.
– Прославленный Камаев, я про душевную благодарность... Скажи проще:
угрохали себя Славке в удовольствие. Вы думали вывести на орбиту новое
солнце. Пусть светит на всю страну, а то и на весь земной шар? Что получилось?
Ничего Славке не надо, лишь бы женихаться...
– Дядя Лень, утрируешь! – обиделся Славка.
– Не утрирует, сынок. Мы мечтали...
– Не все достигают, чего ты достиг. Хочу приносить рядовую пользу, как
большинство солдат, рабочих, крестьян.
– Он не думал, Славка, что все, что они тебе дали материально и духовно,
что оно целиком замкнется на бабе.
– Грубо, дядь Лень.
– Ну, на чем еще замкнулось, сынок? Назови стремления.
– «Стремления», «мечтал»? А ты, папа, мечтал о работе на домнах? Нет.
Случайно пристроился. Дядь Лень, у тебя-то какое стремление?
– Я твердо стою в рабочем звании. Мечтал сделаться газовырубщиком.
Сделался. Правда, незадача получилась, да истинной вины за мной нет. Служу
верой и правдой черной металлургии. И занятие голубями считаю красивым.
Мы, городские человеки, оторвались от своей матери – от природы.
Возгордились, презираем, почти все извели у ней. Голуби – тонкое звенышко
между нами и природой, и я его сохраняю. Без нас, чуадиков вроде меня, люди
давно бы с голой землей остались, дохли бы миллионами от собственной спеси,
от атома, от ядов да газов. Чистой бы воды даже б не было в горных ручьях,
щеглы бы не запузыривали в лесу. . Не серчай на меня, депутат Камаев, но на
домнах я бы ни за какие деньги не стал работать. Вы же грабите природу. Ради
чугуна вы миллионы тонн серы – в воздух, в газ переводите, в отвалы спускаете.
Вы одних гранатов видимо-невидимо в шлак перевели. Всех женщин на шарике
можно было бы гранатовыми браслетами и ожерельями обеспечить, а вы – в
шлак. Ты меня, Славка, не подшибешь ни ногой, ни мозгой. Я придуриваюсь,
ерничаю, хохмлю, но я твердо определил цель. Ты вот думаешь: коль я хохмач,
то не задаюсь строгими вопросами, не делаю себе переоценку. Хохмач, шкодник,
но живу по закону совести: чисто живу. Нехорошее рядом происходит -
вмешаюсь. Где нарушение закона и свободы, не могу быть там посторонним.
– Дядь Лень, я сглупил.
– Сынок, дело не в «сглупил». Чтобы оценить, каков человек, надо его
осознать. Дядя Леня, сколько ты его знаешь, интересуется всем живым. Да что
интересуется – любит, охраняет. Помнишь, тебя маленького удивило, как он рой
пчел поймал. Мы идем к нему в сад, а он по ведру стучит, приманивал рой.
Помнишь, ты гусеницу хотел раздавить? Он хвать тебя за руку: «Не знаешь, для
чего она в жизни, не трожь». Извини, мы удалились от корня. Общее здесь в
одном: каждого человека обязательно обдумай, чтоб увидеть последствия твоих
отношений с ним. Себя анализируй, задавай себе вопросы. Какое, к примеру,
чувство тобой владеет? Может, за всем – только плотское наваждение? Ты-то
думаешь: «Любовь!» А что такое любовь? Взять родник – вода, океан – тоже,
стоки с коксохима, с фенолами, со смолой, с цианистым калием – опять вода.
Под оболочкой этой любви разные качества чувств – от низменных до самых,
почитай, ангельских, разнебесных.
– Ты усек, Славик, плоть имеет силу похлеще атомной. И еще: постельные
игры – не самое главное. Чуть схлынет первая молодость, сразу и обозначается -
духовное первей всего.
– Дядь Лень, слушая тебя, я вдруг догадался, почему католические
священники страшно влиятельные. Их проповедям телесного воздержания
верят, потому что они хранят обет безбрачия. «Духовное», «плотское»... Да я на
общем фоне, дядь Лень, святой дух. Ты интересуешься зависимостью яблони от
какого-нибудь паука, а мне любопытна зависимость тела и духа, их разобщение
и совместимость...
Над тем, о чем он говорил, Вячеслав задумывался лишь вскользь, но
старался изменить впечатление отца и Леонида и, чем больше вкручивал им
мозги, тем сильней страшился собственной безотчетности. Действительно, ни
на чем не фокусировались его чувства и раздумья с таким притягательным
постоянством, как на женщинах, и особенно на Тамаре. Грезы о Тамаре,
неотступные, сладострастные, как мнилось Вячеславу, испепеляли его: в них он
свивался с Тамарой, летел где-то среди голубой невесомости, овеваемый жаром.
И не нужно было ничего, кроме грез, а теперь не нужно никого, кроме Тамары.
Она, и только она! К отцу, матери, брату, сестрам он привязан, а без Тамары
немыслимо существование. Возвратись она к мужу – он не станет жить.
К Вячеславу, бродившему по комнате, присоединился Леонид.
– Че ты там кумекаешь? Небось у тебя на чердаке полное затмение надежд?
Не будет крушения мира. Сейчас Тамара действует на тебя, как магнитная
аномалия на компас. Не пытайся выбрать направление. Повращаются твои
чувства туда-сюда, и уравновесятся, и укажут, глядишь, не в сторону Эфиопии, а
за Полярный круг, в сторону какого-нибудь Канина Носа. И влюбишься ты в
эскимосочку или эвеночку, а то и в нерпочку. Утихомирит север холодом да
вечной мерзлотой твою молодецкую пылкость.
Вячеслав посмотрел на лицо Леонида, детски-лукавое от невинной хитрецы,
и улыбнулся, а мгновением позже чуть не заплакал.
8
Он пошел проводить Леонида.
Камаев шагал по залу, обдумывая разговор с Вячеславом. Вместо доводов,
высказанных в споре, придумывал новые, точные, разящие доказательства,
произносил их про себя. Потом спохватывался: сам с собой копья ломает. Через
минуту-другую вновь подправлял для пущей убедительности то, что говорил
сыну, и опять спохватывался, но успокоиться не мог и мысленно продолжал
убеждать и уламывать сына.
В квартиру позвонили. Устя открыла и закрыла дверь, Камаев прислушался.
То ли кто-то из ребятни поозорничал звонком, то ли Вячеслав вернулся и сделал
матери знак, чтобы она не обнаружила для отца, что он возвратился.
А, Вася явился. Его походка напоминает цокоток козленка: мелкие шажки,
наступает на углы каблуков. Над походкой жены Камаев подтрунивал, называл
ее «кувыль да шлеп»: она шаркала правой ногой, левой ступала с прихлопом.
– Чего глаза красные? В нырялки играл?
– Обязательно в нырялки. Никто уж не купается.
– Ревел, значит?
– Ревел.
– С кем дрался? С боальшим, наверно, себя? Ну-ка, с кем? Пойду сейчас
всыплю ему.
– С Тамарой ревел.
– Плакать нельзя – сердце спортишь. Тебе-то бы с чего плакать?
– Она заплакала, и я заплакал.
– Не заплачет же ни с того ни с сего?
– Любит ее Славик.
– Коли любит, никуда не денется, и незачем плакать. Я глянцу, вы с отцом
слишком суетесь в их дружбу. Отец размолвку устроил, ты хочешь помирить. Не
ешь ничего. Покушай-ка.
– Растолстею?
– Толстые здоровше. Вон у Выродовых мальчишки сатюки какие!
Устя не умела сказать слова вполголоса или нормальным тоном. Она
выросла в огромной семье. В городе долго жила в условиях шумливой барачной
скученности, к тому же была на редкость восприимчивая, потому и
разговаривала на крике, словно цыганки между собой. Вася усвоил ее
крикливость. Камаев слыхал полностью разговор Васи с матерью, не утерпел,
позвал сына.
Он снял с головы младшенького фуражку, стекленеющую черным
козырьком, ласково потрогал гнездышко волос надо лбом.
– Не ходи ты покамест к Заверзиным.
Вася отшатнулся, и отец увидел в зеркале шифоньера угрюмую фигурку с
костлявыми плечиками, вскинутыми протестом.
– Не желаешь слушать папку?
Из зеркала глянули налитые укором глаза. И такая была пронзительность в
них, что Камаев потупился. Вася воспользовался его замешательством,
выскользнул из зала.
Вася рос настырным, и в том, что он проявил непослушание, не было ничего
неожиданного. Но сегодня Камаева ошеломило бегство сына. Что происходит?
Ишь, курносый стручок! Готов лопнуть от непокорности.
Камаев приник лбом к стеклу. Оно успокоительно холодило. Внизу сквер.
Желтые ясени охвачены предвечерним оцепенением. На асфальте дорожки
начерченный мелом «класс». Из клетки в клетку перескакивает девчушка, пиная
шестеренку. В сквере кроме девчушки – старик и старуха. Приехали за
покупками из горной башкирской деревни, ходили по магазинам, теперь
примостились в тени у парапета отдохнуть. Старик высасывает сырые яйца,
потряхивая прозрачной бороденкой, старуха лижет мороженое, откусывает от
белой пузырчатой лепешки.
Оттого что увидел пустынный сквер, девчушку, кажущуюся неприкаянной,
старых людей в пропотелых архалуках, Камаев больней ощутил свою
оскорбленность.
9
Странный человек Леонид: может подолгу улыбаться и скрывать, что его
распотешило. Вот и сейчас чему-то улыбается, пришлепывая мясистыми
губами. Вячеслав трижды толкнул Леонида: чего, мол, ты? – а тот лишь охнет и
помалкивает.
В трамвае пахло туманом и сернистой гарью. Прибрежные воды отражали
красные вагоны. Клинья ряби летели по пруду на город, облепленный серой
дымной мглой.
Вячеслав забыл о Леониде и о том, что сегодня впервые в жизни будет
работать на заводе. Все, чего касался его взгляд, время от времени истаивало,
потому что он то видел знойные глаза Тамары, то терся подбородком об ее
склоненную голову, то, положив ладони на ее шею, прикасался локтями к ее
груди, обтянутой тафтой.
Выпрыгнув из трамвая, он заметил, что держит сцепленные руки у себя, на
шее. Когда шагал за Леонидом к проходной будке, оглядывался на дамбу, как
будто мог увидеть Тамару там, откуда прошлой субботой она кричала вместе с
Васей, что любит и прощает.
Грохот и мелькание цистерн с надписью «пропан», гигантские самосвалы,
ринувшиеся через переезд, едва шлагбаумы всплыли в небо, грузный взрыв на
пустыре – все это забило воображение Вячеслава, как протоку льдинами, и ему
больше Тамара, но сладкое, почти осязаемое волнение, вызванное ее образом, не
стушевалось.
Оба здания копрового цеха – кирпичное, закопченное, и вздымающееся
выше его, узкое, из листьев гофрированной стали, – были окраинными в южной
части металлургического завода. От них чуть ли не до самого моста, над
которым чертежно чернели трамвайные провода, тянулись железнодорожные
составы, нагруженные металлическим ломом, туда же тянулась гряда
бракованных прокатных «досок».
С любопытством Вячеслав остановился перед горой скрапа. Чего только не
было в ней: бетономешалка, якорь с разорванным ушком, лапы шагающего
экскаватора, автомобильные тележки, стрелы кранов, балки, колеса. Сбоку, у
подножья горы, валялись пушки, башни танков, снаряды, артиллерийские
гильзы, корпуса авиабомб, пулеметы.
– «Гостинцы» в отдельную кучу складывают, – пояснил Леонид, – режем в
стороне, ибо, если подорвешься, другие не пострадают. Годика полтора назад
резал я броневой лист прямо на скрапе. Вдруг как шандарахнет! Я кувырком.
Под броней очутился снаряд. Дремал он, дремал, терпел он, терпел, огонь бок
ему лизал, и лопнул от злости. Благо, хлопцы спустились с кучи покурить, на
полянке лежали, а то скосило бы. Самого-то меня броня спасла. С месяц
плоховато слышал.
Вячеслав смекнул, что веселое молчание Леонида и его шутливый рассказ
связаны одним чувством: хотел удивить и пощекотать нервы.
– Наконец-то я начинаю понимать, какую интересную работу выбрал.
Вдобавок чрезвычайно мужественную.
Ни голосом, ни видом Вячеслав не выказал насмешки.
Леонид просиял, по, чтобы не попасться на удочку, шутейно подтвердил:
– Работа романтичная.
Одновременно расхохотались: каждый раскусил уловку другого.
Леонид получил резак со шлангами, свернутыми кольцом, и привел
Вячеслава на площадку между стальным и кирпичным зданиями. Он проходил
мимо рабочих ночной смены, рассекавших пламенем коленообразные трубы,
зычно выкрикивал:
– Жив-здоров.
Возле приземистого мужчины – он курил, привалясь спиной к баку,
зиявшему рваными пробоинами, – Леонид задержался.
– Жив-здоров.
– Мужик ты не промах.
– Нет, Ион, я-то сплошь промах! Вот ты у нас... Вот ты у нас... Восьмого,
кажись, жена понесла?
– Восьмого планируем.
В разговор вклинился рыжий впалощекий резчик лома Бриль:
– На молодую позарился, она ему и насыпала.
– От русской бабы, товарищ Бриль, да чтоб у меня не было дюжины
детишек?!
– Имеются рыжие?
– Золотистые да черные, поскольку самодельные.
– Одного бы рыжего для моды.
– Теперь мода больше двух детей не заводить. Мне все равно, даже если бы
завелась мода на гибрид павлина с электровозом.
– Ион, говорят, рождаются у вас детишки до пяти килограммов?
– Правду говорят.
– Как это у тебя получается?
– Машинка с витамином.
Леонид нагнул голову, будто обдумывал ответ Иона. Переносица взгорблена
сомкнутыми бровями, воловье око мерцает.
Вячеслав заулыбался, когда увидел сквозь махорочный дым излучающие
радость янтарные глаза Иона. И здесь, как и среди солдат, шутки в почете, пусть
зачастую и забористые, грубые. Отменно! Живительно!
– Прививки от оспы есть, от гриппа есть. От бескультурья, к сожалению, нет,
– промолвил Бриль и отошел.
10
Он оказался оригинальным учителем, Леонид: дал Вячеславу блокнот и
карандаш, велел сесть на стальной, в ссадинах и вмятинах, шар и
присматриваться, как газорезчики кромсают скрап. Вячеслав присматривался,
делая заметки. Леонид читал его записи, прибавлял к тому, что Вячеслав усек,
краткие инструкторские замечания.
Леонид резал трубы, покрытые внутри черной жирной накипью. Едва
соломенно-тяжелая струя огня пробадывала стенку, Леонид почти неуловимым
движением наклонял голову горелки и тем самым не давал запекшейся нефти
пыхнуть вверх, в прожженное отверстие: нефтяной огонь, подстегиваемый
летящим факелом, прополаскивал коварный туннель трубы, длинно
выметывался наружу.
Мало-помалу к Вячеславу стала приходить уверенность, что он тоже сумеет
членить трубы без риска обжечься.
Идти обедать не пришлось: хлынул дождь. Газорезчики сбежались в
стальной куб с узким проемом. Впалощекий Бриль накидал в печку картофелин
и завалил золой.
Мужчина с усами кусал краюху, накрытую пластом сала, прожевывая,
говорил, что печеная картошка, конечно, великое лакомство, но ежели во время
смены кормиться в основном ею да ржаниной, то наверняка наденешь
деревянный бушлат.
Наискосок от Вячеслава лежала на боку, подпирая кулаком голову, могучая
женщина. Она курила папиросу, звонко щелкая ногтем по мундштуку. Ее
крупному телу было тесно в брезенте спецовки.
– Не щипи Бриля, – сказала она усачу. – Нашел гусенка для жаркого.
– Прокушать все можно, – сказал Бриль.
– Погоди. – Женщина придавила папиросу ко дну тарельчатого изолятора. -
Ты, Кузьма Демидыч, шестой десяток распечатал, а где ты, собственно, был? Ты
не то что Москвы или Кавказа, ты областного центра не видел. Бриль хочет свет
повидать. Купит машину и покатит по нашей земле, а после по зарубежным
странам.
– Вечно ты, Антонина, возвеличиваешь людей. Думаешь, ему
путешествовать не терпится. В частники не терпится. Машины еще нет, гараж
уже сварил.
– И правильно. Бесшабашный крестьянин и тот сначала конюшню строил,
после лошадь заводил.
– Черта в нем, Тоня, натура... Ему позволь забегаловку открыть, он гараж в
ту же минуту загонит втридорога и все деньги вложит во всякие пива-вина.
Через годок грузовик или пикап купит для быстрого торгового оборота. Чхал он
на твои путешествия. У него коммерция в мечтах.
– Он ведь рабочий около двадцати лет. Вот его натура, Кузьма Демидыч.
– Можно весь век рабочее место занимать, а рабочим не стать. Планеты
летают круг Солнца. У нас на Земле развилась жизнь, на других – или нет, или
под вопросом. Положение одно: все круг Солнца. На поверку: Земля планета
истинная, другие – непригодные и сомнительные. Стало быть, Земля Солнце
любит, сильно всасывает свет, дает всему рост. Истинный рабочий такой же.
Бриль, сидевший на корточках перед дверцей печки, бросился из куба. Он
скакал с железяки на железяку, струи дождя секли по тощей спине, по
штанинам, к которым заплаты были прихвачены медными жилками, по
ботинкам, подбитым транспортерной лентой.
– К начальнику побежал.
Ион вздохнул, достал из авоськи завернутые в газету помидоры, поленце






