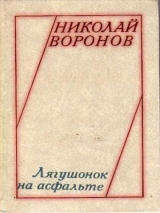
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Коняткин был во дворе. Он ошкуривал лозу. Только сосредоточенностью, с какой он
вставлял в ивовый расщеп каждый прут и тянул его, сдергивая гибкую кожицу, пахнущую
сон-травой, можно было объяснить, что Коняткин не слышал, как раздалось кваканье
мотоцикла, заглушенного Леонидом.
Он заметил Вячеслава, беря в охапку белую лозу.
– Приехал!.. Мирово!
В его голосе была молочная, телячья теплота, словно у мальчишки, который
разнеженно спал и очнулся всего мгновение назад.
Коняткин нагнулся, собравшись положить лозу обратно на козлы, но передумал и
мотнул всклокоченной шевелюрой, приглашая Вячеслава последовать за ним.
Они прошли в сени, поднялись оттуда на чердак сарая.
Кроме лозы, приносимой охапками и перевязываемой лыком, Коняткины запаслись к
зиме всякой всячиной: вениками из березовых веток, шишками хмеля («Бражку будем
варить»), гроздьями сушеной калины («Мой дед, Павел Тарасыч, по-деревенски Паша
Белый, для укрепления сердца заваривает»), кленовыми баклушами, снопами
можжевельника, берестой.
– Наше крыло, Коняткины, испокон веку занимается рукомеслом. Все мы – лошкари да
игрушечники. В последние годы, правда, разброд получился. Отец корзинки плетет.
Сегодня на его инвалидском драндулете ездили по лозняк. Самая пора лозняк рубить.
Подкорье водянистое. Легко идет раздежка. Дед режет фигурки, барельефы, палки. Летом
больше широкополые шляпы плетет. Как рожь начнет наливать зерно, трубка у нее еще с
зеленцой. Дай пожелтеть, ломкая станет. До армии я ударял по части бересты. Туеса и
пестерки делал, роевни.
Пока спускались по лестнице, Вячеслав спросил Коняткина, остановил ли он выбор
на определенной работе. До армии Коняткин успел поработать на дизеле мотористом,
слесарем, в механической мастерской, бортничал неподалеку, в горах, там же последнее
лето рубил башкирам дома. В госпитале, где он и Вячеслав находились долго на
излечении, Коняткин и рассказал ему о своих работах.
Коняткин ухмыльнулся:
– Какой выбор? У меня небывалая должность: пахарь-стекольщик.
– Балуешься?
– Болото, деревни не знаешь. Где требуется рабсила, там и ломлю. Славка, кто это с
тобой?
– Муж сестры. Леонид. Друг и наставник.
– Учусь, у кого нахожу необходимым, наставников – побоку. Больно много охотников
душу захомутать, в оглобли запятить, вожжами править, кнутом заворачивать.
Леонид смотрел, как в небе вращалась свиристливая ласточиная карусель.
Они подошли к Леониду, но он продолжал наблюдать за ласточками, сбивающимися в
стаю, потом, как будто не замечая их присутствия, подался с задранной головой к плетню,
где Коняткин только что занимался раздежкои лозы.
– Придуривается, – шепнул Вячеслав Коняткину. Коняткин ответил веселым
подмигиванием: дескать, ему занятно поведение Леонида.
Налетев на плетень, Леонид чертыхнулся, словно на самом деле брел за стаей
ласточек на зрительной привязи. Едва Вячеслав познакомил его с другом, он обратился к
Коняткину:
– Товарищ крестьянин, почему, скажите, ласточки, возвернувшись по весне из гостей,
не селятся в старое гнездо, а лепят рядом новое?
– Пыль за зиму насыпается с балки. Отсыреет. Микробы заведутся.
– Поважней есть постановка проблемы.
– Ого!
– Монтажное и штукатурное дело боятся забыть. С нашего комбината футболисты,
пока летают по областям да республикам, от профессии отстают. Мудры ласточки!
– Зятек у тебя шалун.
– Больше ко мне подходит «колун». Любой вопрос ставлю в вертикальное положение
и... р-рыз, в сердцевину, вопрос пополам и – нате вам готовый ответец, ибо я не слонялся в
аспирантурах.
– Слава, зятек у тебя скромник.
– Но не скоромник.
– Где там! У вас на носу написано, что по части женщин...
– Дядь Лень, Коняткин сел на своего любимого конька.
– С конька я давно слез и пересел на танк-ракетоносец. И не слезу. Эх, Славка, что
может быть лучше женщин?! Разве только художество.
– Товарищ Коняткин, теперь я знаю, кто Вячеслава изурочил. На первом месте у него
были общественные заботы, на втором – политика, на третьем – родители, на четвертом
знания... Девчонки были где-то на двадцатом. Чего ты натворил, злыдень?
– Товарищ гость, для меня сейчас на первом плане забота о рождаемости. Я читал
книжку о миграции населения. Автор книги цифры приводит... Население нашей страны,
ну, доля наша к населению мира в тридцатом году составляла около девяти процентов, а в
шестьдесят пятом уже около семи. Теперь у нас приплод единица, а во всем мире – два. О
приплоде у нас в России я уже не говорю. Приплод от деревни сильней всего был, сейчас
снизился. Население деревни убыло, постарело. От городов, крупных особенно, от
Москвы, много не возьмешь: рождаемость малая.
– Пробивайся в столицу. Развернешься. Мощный приплод устроишь.
– Дядя Лень, он серьезно?
– Ладно, ерничаю.
– Меня в столицу, хоть она и светоч социализма, с помощью тягачей не утащишь. В
городах верхушками легких дышу. Не воздух – газовая камера. Прошлой весной ездил в
Москву на медицинскую комиссию. Подарок родственникам от майора Пуркаева привез.
Окраина, Юго-Запад, мало еще зданий, а земля, верней, ледяная корка на ней голимый
бензин, или, как бы сказал мой дед Паша Белый, один нефтепродукт. У себя в Слегове во
всю грудь дышу. Овощи ем без ядов. Молоко пью без всяких химий.
– В молоке и рыбе химия есть.
– Нет. Табун пасется на горных лугах. Зерновые удобряются только навозом. Мужички
у нас едины вот в чем: электричество и механизмы не тянут без земледельческого опыта
пращуров.
– Идейный человек! Не ожидал. Не очень часто встретишь. Рад знакомству.
17
Коняткин вел их к избе Паши Белого через огород, где еще не был выдернут из грядок
лук, не срезаны капустные кочаны, не убраны медношкурые тыквы.
На задах огорода черными култышками торчали ивы. Над их срезанными плоскими
макушками топорщились побеги этого лета. На побегах, виляя ромбическими хвостами,
покачивались сороки. Они стрекотали как бы взапуски: кто кого перекричит.
Ивы и плетни меж ними заслоняли клеверище, горстку изб на отшибе от деревни,
озеро, холмистые горы, выгоревшие под цвет верблюдов недалеких отсюда жарких
казахстанских степей.
Всем стало отрадно от раздолья, просветленного осенью, и они, довольные тем, что
их жизнь продолжается, а могла бы уже и оборваться, если б не везение, дошли до
подворья Паши Белого.
На их счастье, Паша Белый только что подоил возле озера коз и нес полным-полный
детский эмалированный горшок с молоком. Каждого по отдельности он заставил отпить из
горшка, дабы не сплескивалось молоко во время ходьбы, и готовно слушал похвалы
густоте, аромату, сытности козьего молока, веселея и в знак самоодобрения вкусно
прищелкивая языком.
У Паши Белого, как в обычной русской избе, была после сеней тесная темноватая
прихожка, загроможденная печью, кадкой с водой, сундуком, на крышку которого
складывалась одежда, не уместившаяся на вешалке, а горница (сам он называл ее
светелкой) – просторная, четырехоконная. Окна были не совсем обычные: нижнюю и
верхнюю часть составляли звенья, собранные в орнаменты из разноцветного стекла. В
свете предзакатного солнца орнаменты горели кристаллически ярко. Их слаженная
калейдоскопическая пестрота четко, увеличенно передавалась на стены, пол, потолок,
поэтому мнилось: здесь живет чудодей. Впрочем, такое впечатление было продолжением
того, которое вызывал облик Паши Белого: зубы с неизносимой, не задетой прожелтью
эмалью, снежно мерцающие усы, на концах завязанные узлом, лазурно-синие, какими они
бывают лишь у стрекоз, глаза.
Коняткин достал из-за комода палку. Блудливым восторгом сияло лицо, когда он,
державший палку за спиной, выставил ее перед собой на обозрение Вячеславу и Леониду.
Набалдашником палки являлась гривастая, бородатая голова, отполировавшаяся до
стеклянистого лоска. Пальцы и ладонь Паши Белого, который, как потом узналось, ходил
раньше с палкой, реже дотрагивались до физиономии, поэтому она, неполированная,
темная, грубая, ясней смотрелась в охвате глянца.
Приглядевшись к этой физиономии, Вячеслав удивился, что в ней запечатлен
сложный сплав человеческих свойств: проницательность, дремучесть, благожелательство,
вероломное беснование плоти.
Скользнув взглядом чуть ниже, Вячеслав ахнул от удивления и рассмеялся. Тот,
физиономия которого выражала хитромудрую оголтелость, был вырезан дерзко – с
мужским орудием, направленным на зрителя; хлесткое, уморительное озорство Паши
Белого было и в том, что своего голого гигантоподобного мужика он сотворил в сапогах.
Мужик стоял на голове женщины с высокомерно вскинутым личиком. Между ее гордыней
и растоптанной прической, съезжавшей на плечи, было такое смехотворное
несоответствие, что Вячеслав хахакнул в ладони. В глотке Леонида, забивая его дыхание,
толокся смех, поэтому, едва хахакнул Вячеслав, он заряжал с освобожденной
оглушительностью.
Женщина, тоже голая и обутая, стояла на голове человека в фуражке и мундире
военного. Носки ее туфель торчали вверх, указывая на то, что каблуки продавили тулью и
череп, будто всадились в мозг. Ноги военного, почему-то босые, не без застенчивости
примостились на голове балерины, если судить по волнистым оборчатым юбочкам и по
тому, что стояла она на кончике ноги, а кончиком другой, соблазнительно вскинутой,
касалась колена той, удлиненной напряжением.
– У нас дедушкины палки называют охальными, – сказал Коняткин, сияя от
впечатления, произведенного деревянными фигурками на Вячеслава и Леонида. – А между
тем...
Кивком ладони Паша Белый остановил внука: захлопнись.
– Стриг черт свинью, – промолвил он и замолчал: пресекло голос волнение. – Стриг...
Визгу много, шерсти нет.
– Мастак ты прибедняться, дед.
– Не прибедняюсь. Кумекаю над своим трудом. Вверху палки, значится, Гришка
Распутин, под ним царица, она на Николашке, Николашка на Кыш... Дворец он ей
преподнес. Главной дрыгоножкой числилась. Ну, театр, где поют.
– Балерина Кшесинская. Из ее дворца, с балкона, Ленин выступал перед моряками.
– Верно, молодой человек, Кыш... Замахнулся я широко. Просмеять хотел шайку-
лейку-царскую семейку. Коряво вышло.
– Здорово, дед! Слыхал ведь – люди покатывались от смеха. Вышла палка. Резал ты ее
со страстью, точно хмельной.
– Во хмелю что хошь намелю, просплюсь – отопрусь.
– Я, Павел Тарасович, любопытствую, каким манером вы подобрались к Распутину и к
шайке-лейке-царской семейке?
– Издалека тянулось. В третьем, поди-ка, в четвертом году служил в Казани. Книжки
читал по складам, чаще картинки рассматривал. Однова толстучую книжищу пришлось
полистать. Про чего-чего там только не было. Попалась про императора Николашку, про
евонную супругу Александру Федоровну, про их дочек и про всю их царскую шатию-
братию с фрейлинами и гоп-маршалами.
– Гоф.
– Промеж себя, солдатней, мы гыгыкали над придворными чинами. Танцмейстер,
церемо... Тоже чины. Портреты-то его и самоай до того мне глаза промозолили... Тут
форменным образом я аж взвился. На каждом шагу самих выставляют, от кого они
зародились, братьев и сестер... Четырех ссыкух сделали, еще копейка им цена в базарный
день, про этих уж расписывают и тоже отпечатывают. Форменное надругательство. Заело
меня. Унижение. Года, поди-ка, за два до революции приехал на ярмарку в город Троицк.
Пшеничку привез, гусей, козий пух. Сидим с деверем в розвальнях, пьем-закусываем.
Жареное мясо, соленые огурчики на газетке. Как раз в газетке карточка: Гришка Распутин
чего-то распинается, а государыня Александра Федоровна рот до ушей развела,
посмеивается. Оба с деверем поглядываем на снимок. Деверь вдруг и говорит: «Ловко
наша царица: смехом-смехом – и кверху мехом». Опосля как пужанет в дугу, в Христа, в
богородицу... Вот откуда оно тянулось.
После распутинской палки Коняткин показал гостям дедовы работы из бересты:
жокейку, фуражку и калапарэ – башкирский крылатый головной убор, напоминающий
голландскую корабельную шляпу. Готовых сомбреро в избе не оказалось: накануне
выпросили туристы из Перми.
Пока Вячеслав и Леонид разглядывали бересту, Паша Белый сварил на дворовой
печурке куриных яиц, нарезал свежепосоленного свиного сала, намыл огромных
помидоров, слазил в погреб за водкой, где она стояла на льду.
Когда стукались стаканами, мимо окна мелькнула фигурка в цветастом платье.
Вячеслав, которому внезапно захотелось спастись от Тамары, ждал, что в светелке
появится молоденькая девушка и сразу погасит своей красотой его первую, мучительную,
почти роковую любовь. Но появилась женщина лет двадцати трех, а может, и постарше!
Вячеслав еще не умел определять женского возраста за пределом двадцати лет. Он было
подумал: «Никто, наверно, не заслонит собою Томку?» Но едва она присела к столу и
сказала: «Обплясалась сегодня. Сил нет», – к нему вернулась освободительная надежда.
Он ощутил тревожную ослепительность, как случается при сплывшихся для дождя тучах,
но отворить небо может только молния, и вот она сверкнула, да очень близко, грозя
достать до тебя трескучим ветвистым зарядом.
Не лицо нежданной женщины при его милой смуглоте и приятных чертах было
причиной этого ощущения, не статность ее и не то, что ей шло платье, сшитое из
сливочно-желтых, с красными и голубыми цветами платков, а то, что излучали ее черные
глаза, что слышалось в голосе с манящими интонациями, что вызывал блеск и трепет
шелковых кистей, которые обвивно стелились по высокой груди.
– Обплясалась сегодня, – повторила она. – Кого вызывала, все выходили на круг.
Старуха Петелина (под сто ведь!) и та дробь отбила.
Говоря, она счастливо придыхала, и Вячеслав, глядевший на нее восхищенным
взором, думал, что не помнит и себя и многих, с кем в родстве и знакомстве, чтобы они
плясали не стесняясь, без самолюбивого мучения о том, как будут судить об их стати,
присядке, притопах, кружении... Исчезни люди, ей подобные, которые так же естественны
в пляске и в доверительности («Обплясалась сегодня!»), как в состоянии думы наедине с
собой или во время безмятежного сна, исчезнут и высшие человеческие начала:
искренность, совесть, не подверженная страхам, бескорыстие, благородство, мужество,
чуждое какой бы то ни было мысли о хвале и наградах.
– И хмельная сегодня!
– Чать, и стопки не выпила, – промолвил Паша Белый.
Старик – Вячеслав не мог этого не заметить – смотрел на женщину с такой нежной
любовью, словно она была его родной внучкой.
– На свадьбе не считают, сколько пьют.
– Ты совсем тверезая. Хмельная ты от самой себя.
– Характер.
– Твой характер тропический. По телевизору, кажись, слыхал: цыганы родом из
Индии.
– У ней без мужа кровь играет.
– Павел Тарасыч, скажите, кто ваши гости?
За Пашу Белого ответил Коняткин. О Леониде он знал немного, поэтому не
славословил. Зато Вячеслава стал восхвалять: честняга, смельчак, скромник. Слушая
Коняткина, Вячеслав испытывал душевное неудобство. Едва Коняткин стал
распространяться о его целомудрии, возмущенный, погрозил ему кулаком. Коняткин не
унялся, пока не сравнил Вячеслава с нею же, Аленой-Лёнушкой: она, мол, хоть и
женщина, притом соломенная вдова, тоже исключительно целомудренная, аж скучно и
жалко. Ты все, дед, толмил: «Девки – сливки, бабы – молоко. Бабы – близко, девки -
далеко». У нас в деревне наоборот получается. Прельстительней и недоступней Алены
никого не найдешь.
Было постоянство на лице Алены: солнечность душевного состояния. Но лишь только
Коняткин проговорил последние слова, вид ее лица сделался пульсирующим, как вид дома
с газовой рекламой, где что-то слегка нарушило цепь и ее свет стал прерываться, то
затухая, то ослепительно вспыхивая.
Вячеслав догадывался: ее покоробили слова Коняткина, сквозь которые пробивалась
развязность, и она сбилась с настроения, полного свадебной отрады. Однако ее смятение
не продолжалось и минуты.
– Прельстительная в моем понятии – прелесть. Ну, и со мной лестно общаться?
Вячеслав, правильно я понимаю?
– Тоньше не придумаешь.
– И вам нравлюсь?
– Лёнка-Аленка, кому ты не нравишься?! – закричал Паша Белый.
– И вам нравлюсь, Вячеслав?
– Нравитесь.
– Чем?
– Колени как церковные купола.
– Слушай, Колька, вопрос ведь ко мне.
– А я непутевый, я низкопробный.
– Ты совсем другой. Зачем-то в армии прикидывался сердцеедом и грубияном. Вовсе
ты...
– Самозащита, Славик.
– Лёна, вы естественный человек.
– И ошиблись: мать купила меня в магазине «Синтетика». Чем еще нравлюсь?
– Необъяснимо чем.
– Как приятно нравиться! И как приятно встретить восторженного человека. Павел
Тарасыч, понаведать забежала. Обратно побегу. Чеканить буду до безума, каблуки пока не
расшибу.
– Гляди, пропляшешь счастье!
Лёна быстро пошла к двери. Оборку, пущенную по груди, откинуло воздухом.
Шелковые кисти бились возле высокой шеи, запутывались в золотисто-русых волосах.
Вячеслав невольно встал. Коняткин, внезапно ожесточаясь, гаркнул, чтобы он не смел
увязываться за цыганкой, а Леонид схватил его за руку и тянул вниз – заставлял сесть на
место.
Если бы они не придали значения тому, что Вячеслав поднялся, он, вероятно, остался
бы в горнице, всего-навсего проводил бы ее огорченным взглядом. Но они посягали на его
волю и тем самым упрочили в нем бессознательное желание кинуться за Лёной.
Он вырвался и вон из избы.
Лёна стояла перед огородной дверцей, словно ждала кого-то. Едва Вячеслав спрыгнул
с крыльца, она мгновенно распахнула дверцу, подалась вдоль плетня.
Он догнал Лёну. Шагал рядом, но она даже не взглянула на него.
Немного погодя, все так же не глядя, она спросила, куда он направился. Он ответил,
что с нею, потому что ни разу не был на деревенской свадьбе. Она печально покачала
головой. Замужней женщине явиться на свадьбу с чужим мужчиной, притом никем не
приглашенным, стыдобушка.
– Вам обязательно на свадьбу?
– Обязательно.
– Вернемся? – Его сердце сбоило, охваченное тревогой.
– Единственная среди мужчин? Да еще в застолье?
– Паша Белый вам как родной дед.
– Слыхали: прельстительная.
– Беру вас под свою защиту.
– Негоже ярочке идти под защиту волка.
– Я волк?
– Хмельной мужчина – волк. Вам ведь, чуть выпьете, все равно за кем гоняться.
– Я каплю выпил.
– Мною любовались?
– Вашей непосредственностью.
– Ну, я на свадьбу.
– Вернемся, Лёна.
– Приятный разговор, да ни к чему. Счастливо оставаться.
– Сейчас мы уедем. Погодите! Можно я помолюсь... на вас?
– На солнце молитесь.
Лёна бросилась бежать, но вскоре вернулась.
– Молитесь, – сказала она.
Вячеслав боялся, что Лёна передумает, бросился на колено, приложил ладонь к
ладони. Вспомнил, что это жест намаза, поэтому скрестил пальцы и так их и оставил,
держа руки перед собой.
– На оба колена встаньте.
В голосе Лёны были строгость и ласка. Вячеслав подчинился.
– Я молюсь минуте, когда наперекор душевному безразличию заехал к Николаю
Коняткину. За это я Кольке молюсь, потому что не он бы, так в жизнь бы не увидел
прельстительную Аленушку. Я молюсь вашему биомагнетизму или... Не знаю, как его еще
назвать? Он притянул меня, и я себе неподвластный. Я молюсь, чтоб вы отклонили меня
от беды, а может, от катастрофы. Я молюсь за чистоту в природе и людях. За вашу чистоту,
Лёна.
Вячеслав замолчал, уткнулся лбом в перекрестье сцепленных пальцев.
– Складно. Мой муж цыган. Цыгане – артисты, и все же он... Мне приятно было
слушать... И все же... Вы посещали в школьные годы драматический кружок?
Вячеслав не отозвался.
Она чиркнула ладонью по его вихрам. Жест сомневающегося приятия и
снисходительной грусти: хоть, может, ты и прикинулся, я не сужу тебя, но и ты не сердись.
За избой Паши Белого, обращенный в небо, прозвучал в закатной притихлости
Леонидов расстановистый зов:
– Славка, подь сюда. По-ра вы-ру-ли-вать на большак.
– Да не хочу я выруливать на боль, – прошептал Вячеслав.
– Не притвора ли? Ну? Подымайтесь, пока не увидел. Зовет Славой, как бы не начал
звать блажным да бескорюжником, а то и ветродуем.
– Обо мне он плохо не подумает.
– Деревенские увидят. После опозорят вас, да и меня к вам пригребут.
– Не за что меня позорить.
– Унижался, скажут, нежничал до потери достоинства, городскую ухватку применял.
Потешаться у нас умеют.
– Пускай.
– Подымайтесь.
– Я хочу остаться.
– Дерзкий какой!
– Навсегда.
– Тогда вы приставака.
– Не ходите на свадьбу. Спасите меня. Я гибну.
– Совсем раскис мальчик. Вон ваш приятель. Не затрагивайте меня больше.
– Я не затрагивал.
– Как же не затрагивал? Передо мной муж на колени не вставал. И молитва. Никто...
Легче оскорбление перенести... Зачем вы?! Городская ухватка... Вам драмкружок...
– Я... У меня... По искренности.
– По искренности – молчали бы. Не поддамся никому. Ненавижу мужчин: вруны,
юбочники, подкорюжники, соблазнители. Вся пакость от вас. Вы сильней! Хитрые.
Деньгами вертите. Кровожадные. От злобы, от насилия вам удовольствие.
Лёна побежала вдоль пепельно-сизого плетня. На повороте в проулок стоял
желтокронный тополь. Низ тополя был разбухший, в наростах землистого цвета. Из
наростов иглились свежие побеги. Сквозь эти побеги, почти скрывшись за стволом, по
надежде Вячеслава, Лёна должна была глянуть на него, прежде чем метнуться за плетень.
Не глянула. Волосы ее, мелькавшие поверх плетня, пушисто сияли, просвеченные
закатным солнцем.
Вячеслав поднялся с колен. Он ощущал присутствие Леонида и Коняткина.
Неловкостью охватило душу. Намеревался выразить чувство какого-то небесного
обожания, а получилось, что ожесточил Лёну, наверняка оскорбил Коняткина: похоже, что
он небезразличен к ней. И конечно, вверг в грустное недоумение Леонида. Страдать о
Тамаре, не простить ее ошибки, допущенной по девчоночьей безответственности,
неискушенности или из-за чего-то подобного, и самому сорваться с таким шквальным
легкомыслием, какое простительно лишь безвольному хлыщу.
Терзаясь недавней слабостью, Вячеслав продолжал топтаться на месте, пока не
ощутил, что напряженное внимание, исходившее к нему со стороны коняткинского двора
и державшее его в своем досадливом поле, не ослабело. Не желая оборачиваться, дабы
проверить, что Коняткин убрался в дом, а Леонид ждет, он сосредоточил внимание на
части того малого пространства, которое находилось за его спиной. Телепатическая
локация, как с армейской поры Вячеслав называл это свойство собственного восприятия,
подтвердила, что позади находится только один человек, и не какой-нибудь, а Леонид. Не
стал больше медлить, словно по команде повернулся кругом. Неподалеку в позе печально
ждущего человека – опущена и слегка наклонена к земле голова, да и корпус отклонен к
земле – стоял Леонид. Надо идти к нему, но не хочется. Балагурить будет. Начнешь
оправдываться. А в чем оправдываться? В отчаянии? В срыве совести? В несуразном для
самого себя и для Леонида, тем более во мнении Коняткина, падении на колени, в
наборматывании молитвы? Несусветно, вздорно, чудовищно! Однако не приставака он, не
актерствующий нахалюга. Был чист и остается чистым, хотя и не мог предположить в себе
такой н е л е п о й в о з м о ж н о с т и и понять не в силах, где, в каких пропастях
подсознания таилась эта в о з м о ж н о с т ь , воспринимаемая как глумление и
сумасбродство.
Ушел Леонид. Освободил от необходимости... Да просто передалось: надо уйти.
Остаться для укора, когда ты сам себе укоризна, равносильно надругательству. Только
озлобишь... Он-то не озлобляется, Вячеслав, но, пожалуй, взвился бы. А Коняткин, из-за
чего он ушел? Ревность? Возмущение? Да что же это? Что же? Зачем жить, если
докатываться до поступков, кажущихся постыдными, невообразимыми самому себе?
18
Зубы Леонида гляделись как зубы счастливчика: все до одного целы, эмалево-белые,
точно он только тем и занимался, что надраивал их самоновейшими пастами,
придающими им блеск и прочность. Как-то у него нарвала десна, и врачиха, дабы
вылечить ее, просверлила с испода верхний резец. Потом она заделала норку в резце, но
пломбы там плохо держались. Из-за этого Леонид говорил с пришепеткой, а когда свистел,
шугая голубей, то свист получался жужливый.
И теперь, хотя всего лишь звал Вячеслава к мотоциклу, он свистнул жужливо. В
свисте зятька почудилось Вячеславу бесшабашное мальчишество, и это маленько
взвеселило его и поослабило нежелание идти во двор Коняткиных.
Что-то в нем было от безотрадного человека, когда он брел на пристальные глаза
Леонида, уже сидевшего за рулем.
– Пошевеливайсь! Бодрись! – крикнул Леонид и просигналил.
Едва собрался Вячеслав лезть в люльку, из дома вышли Паша Белый и Коняткин.
Старик обнял правой рукой один из столбов, подпиравших навес над крыльцом, и
загляделся на нефритово-зеленую вдоль горизонта дугу закатного света. Задержка Паши
Белого на крыльце заставила Вячеслава обратить внимание на столб. Он не был витым,
каковы обычно поднавесные столбы. Из него поясами выступали головы птиц: филинов,
попугаев, голубей, ворон, орлов. На другом столбе были вырезаны головы тех же птиц.
Вячеслав спросил старика, просто так он вырезал головы этих птиц или со смыслом.
– Просто так карася не съешь: косточки нужно выбирать, иначе подавишься.
Ответ Паши Белого показался пренебрежительным. В этой пренебрежительности ему
примнилось осуждение, разочарование, а как их результат – жестокость безразличия.
Собственно, другого и нечего было ждать. Кабы они считали его ч о к н у т ы м , тогда бы,
может, проявили снисходительность. А то ведь он нормальный. Коль так, значит, ферт,
бесстыдник, ветродуй и ничего, кроме презрения, не заслуживает.
Заблуждался Вячеслав, заблуждался. Из-за стыдобы, когда она наваливалась на его
душу, он подменял отношение людей к нему своим личным отношением. Ошибки
восприятия, как и самовосприятия, многоразличны и зачастую таят в себе
разрушительную для сознания опасность. Но эта ошибка восприятия, о которой Вячеслав
не догадывался, была спасением для него, как и спасительна она для большинства чистых
людей, потому что ее обусловливают муки совести, противодействующие нравственной
порче человека.
Паша Белый думать не думал о том, что вообразилось Вячеславу. Он, в отличие от
многих стариков, помнил себя парнем и все еще сохранял способность судить о молодости
по свойствам, присущим именно ей. Паша Белый, которого огорчало, что Лёна живет
соломенной вдовой и что никак ей не встретится моалодец, какой бы перешиб безнадежное
ее ожидание, обрадовался влюбчивости Вячеслава. Когда-то он сам был влюбчивым: «Как
что, так втрескался!» Шалел при этом, по его же определению, ально марал осенью, во
время гона, и устирывали его парни-соперники до полусмерти, и он бил их в подрез чем
попадя: кол подвернулся – колом, палка для игры в лапту – палкой, чересседельник -
чересседельником. До недавней поры Паша Белый надеялся: отслужит армию Колька,
глядь, и завяжется промежду ним и Лёной узелок, а там и поженятся. Хлестать за Лёной
Колька хлестал, поди-ка домогался, да без успеха, а супружество в башке не держал: я-де
гулеван, не отшастал свое. А на самом деле, по догадкам Паши Белого, ни у Кольки, ни у
Лёны не было друг к дружке стремления, которым, если кто им обуян, тех не обуздать, а
коль это стремление их спаруает, то навсегда. Жалковал Паша Белый, что не этак деется,
как он желает, а положения не исправить: умом да благим намерением страсть не
заменить.
«Куда как ладно Лёнушка подвернулась! – думал Паша Белый, опять завораживаясь
закатным светом над горизонтом. – Должно ж и золотенам везти. Как мокрохвостка -
счастливица. Должна ж справедливость быть».
Резкий уход Вячеслава от крыльца и твердое таханье мотоциклетного мотора
оборвали стариково созерцание. Он поспешно спустился по ступенькам, чтобы проводить
отъезжающих.
– Я чё-т не так про столб разъяснил? – прокричал он в ухо Вячеслава.
– Слишком обще, Павел Тарасыч. Головы птиц... в них есть обозначение?
– Простецкое. Лебедь ли, голубь, по-нашему, по-народному, – любовь и верность.
Попугаи. Дак, известно дело, они чё услыхали, то талдычат, и я от себя тоже дополнял. И
не согласен кое с чем. Совы считается – мудрость. Мой опыт: оне обыкновенные, днем -
даже глупые. Сидит на копешке, вертит башкой навроде беспонятливого дедушки, от
старости беспонятливого. Совы, они у меня с другим: тайны во время темени, уловки,
нападения. Все спит, они шныряют. Сонных когтями цапают. Вороны – во кто умен!
Промзительно! Об нас все соображают. Этих не замай. Держись около, кормись, дальше -
ни в коей мере.
Леонид да чтоб не навострил слух, когда речь идет о птицах, да чтоб не вставился,
такого не могло случиться.
– Автономное существование, – подвел он итог. – Павел Тарасыч, у меня в саду
голубятня.
– Славно знать.
– Я с голубями с малолетства. Выражусь не ради бахвальства: психологическую
структуру голубей по полочкам разложу. Моя практика позволяет заключить вывод: голуби
– люди в перьях. Домашние прежде всего. Но это сгусток вывода. Как там в операх?
– Увертюра.
– Правильно, шуряк. Увертюру я проиграл один за весь симфонический оркестр.
Значится, Павел Тарасыч, дикий голубь опять же к нам, к людям, лезет. Навязывается
силком под нашу опеку, в нахлебники. Вороны, вороны, галки – нет. Около, возле, в
сторонке. Ваше наблюдение – вполне точное. Мы, мол, рядом, но в независимом
суверенитете.
– Согласен, ни в коей мере не мешаются. Правда, падаль учуют – тут...
– Закон, Павел Тарасыч, природного предназначения. Хочешь не хочешь, что сидит в
тебе, от того не отвертишься. Это прибавка к увертюре. Сама опера в таком наблюдении.
На окраине садов ведется воронье. Хожу наблюдать. У нас система жизни, у них не в том
ракурсе, но, конечно, система отношений. Прошлой весной выглядел. Они моногамией
держатся: муж – жена. Холостяки в стае вместе, промышляют в повседневности отдельно.
Здесь самая опера и содержится. По моим заключениям, женского пола у них меньше.
Самцы соперничают из-за самок, по двое. Самка сидит, наблюдает. Они взлетят,
выкручивают своего рода фигуры высшего пилотажа. Иной раз не то что бочку, дроссель
какой-нибудь вымудрят в полете. Голуби – летчики, точные фигуры выполняют, вороны
фантазируют. Не сразу, после турнира. Смелое состязание выбрали: с выси, из зенита,
камнем падают и должны сесть на макушку столба. Кто ниже распахнет крылья, ловчей
торкнется на макушку – тот победил. По нескольку раз состязались. Победил, у которого
штаны длинней да космаче. Который в мини-штанах на него кинулся. Самка встала на
сторону победителя. Трепку ему задали – будь здоров. Рыцарская честь не хухры-мухры, а
мухры-хухры.
– Лень, ты увел Павла Тарасовича от резного столбика к электрическому столбу.
– Увел? Найн, как шпрехают немцы. Подкрепил Павла Тарасыча: врановые – мудрый
народ, значит, они выражают один из ракурсов ума природы и всемирного существования.
Поехали, Слава. Собирались ведь засветло вернуться.






