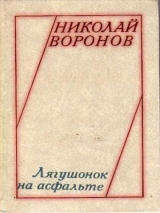
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
отправлялся далеко за полночь. Решила ехать на нем. К дивану, на который села,
чтобы скоротать время, подошел мужчина с усиками. Манерно поклонился.
– Могит босточный человэк сесть рядом вами?
Он был выпивши и притворно коверкал речь.
– Прочь! – крикнула Маша. Так однажды крикнула англичанка Татьяна
Петровна, когда возле нее и Маши, улыбаясь, остановился пьяный пижон.
– Босточный человэк – деликатный человэк, – гордо промолвил мужчина и
торопливо ретировался.
Она развеселилась, но скоро ей стало страшно: погаже еще «фрукт» может
попасться в дороге.
Она пригрелась к спинке дивана, думая о минувшем дне. И тут появился
Владька, хмуро махнул ей рукой от междугородного телефона-автомата, и она
встала и поплелась к нему. Поравнявшись с той березой – темные ромбы на
белой коре – где в кругу велосипедистов впервые увидела Владьку, Маша
предупредила его, что ночевать к отцу не пойдет, и он, не оглядываясь, кивнул и
обещал устроить ее у своих родственников.
У «французов», конечно, знали, что она сбежала. Может, они и надоумили
Владьку вернуться за ней? Все они высыпали в прихожую. Она перетрусила:
сейчас начнут совестить. Но, к ее изумлению, никто и не заикнулся о том, что
произошло. Были приветливы, особенно смуглая, миниатюрная Наталья
Федоровна. Она выпроводила из кухни всех, даже Владьку, заставила Машу
выпить кружку молока и уложила в комнате, где стояли два раскладных кресла и
секретер, а на стенах висели огромные фотопейзажи с деревьями и реками. И
совсем она не походила на бывшую миллионершу. Разве что халат на ней был
очень дорогой: из какой-то эластичной ткани с нежными розовыми, как у
шиповника, цветами.
Рано утром Машу разбудила Лиза. Из-за Лизы выглядывал суровый
Игорешка. Лицо у Лизы осунулось, поблекло. Должно быть, не спала ночь. Лиза
отдала Маше ключи, умоляла ее не дурить. Маша оделась и украдкой
выскользнула из квартиры. Возвратилась на улицу Верещагина. Вспомнила
родной Железнодольск. Он представлялся ей как что-то давнее, однажды
виденное и нечетко осевшее в памяти. Это обеспокоило ее. Но еще сильней
встревожило то, что и мать, и учительница Татьяна Петровна, и Митька
Калганов казались какими-то призрачно-зыбкими пятнами, словно никого из
них уже не было на свете.
В комнатах была чистота. Убрала, конечно, Лиза, пока они вчера ужинали на
дебаркадере.
Дома уборка квартиры лежала на Маше. Сейчас бы она уже возила тряпкой
по полу, чтобы отчим не цеплялся к ней за завтраком и не обзывал грязнулей.
Очень это было непривычно, что чистоту в комнатах навел кто-то другой, и в
сердце Маши из-за случайной праздности возникло чувство вины.
Она пересилила эту непрошеную вину: безделье ее гостевое, законное. И
весело вспомнила, как Владьку корежило ее вопросничество.
«Тютя ты тютя! Слишком культурно ты рассуждаешь. Мама с папой
служащие. Какие-нибудь экономисты-финансисты сюсюкают: «Владичка-
гладичка...» Вот ты и сделался тютей. А я жизнерадостная. И хочу быть
выдумщицей. И хочу задавать вопросы. А ты влюбишься в меня. И будешь
ходить за мной, а я буду подсмеиваться над тобой».
От избытка чувств она попрыгала по комнате, проверяя, нет ли в углах
паутины. Потом поставила варить картошку в мундире. Ничего вкусней все-таки
нет. Та же осетрина на вертеле быстро надоест, а картошка в мундире – никогда.
Сегодня не завтрак – объедение: к картошке стрелки лука, холодное молоко,
черный хлеб.
Накрывая на стол, она пела «Аве, Мария», подражая Робертино Лоретти. В
квартиру вошел отец и замер. Маша будто не слыхала, что он пришел, стала петь
громче: пусть слушает. Он долго оставался в прихожей после того, как она
кончила петь и сливала из кастрюли зеленоватую, терпко парящую воду.
В кухне он сказал ей, что его мать была песельницей и способность у Маши,
стало быть, от нее, от бабушки.
Озабочен, даже словно бы пришиблен.
Он сказал, что встретил Колю Колича в подъезде. Коля Колич ходил в
подвальчик выпить пива. Туда же ходил отметиться машинист двересъемочной
машины с их блока коксовых печей, отработавший ночную смену. Он и сообщил
Коле Количу, что старший мастер Трайно, временно исполняющий обязанности
начальника блока, сорвал утром со стенда стенную газету.
Корабельников с неприязнью относился к Трайно, потому что больше всего,
подобно своим товарищам, почитал в человеческих отношениях правду,
непреднамеренность в поступках, скромность. Трайно же скрытничал, хитрил.
Важничая, он высоко драл голову, поворачивал ее вместе с туловищем.
Изображал перед собеседником, будто бы он сосредоточенно мыслит.
Вчера на пути к морю Корабельников пообещал сводить Машу в
краеведческий музей. После встречи с Колей Количем он раздумал идти в музей.
Отказаться от обещания стеснялся. В кои-то лета свиделся с дочкой и вдруг
уйдет в цех, оставив ее на собственное попечение. Однако вместе с тем он не
мог подавить нетерпения, ему хотелось встать и – на трамвай, от проходной, по
заводу, бегом, разыскать Трайно и потребовать, чтобы он вывесил газету.
Он сказал об этом дочери.
– Папа, ты разнервничался... Он что, имеет право?..
– Шиш! Вакуум у него под черепом. Возомнил... Четыре коммуниста в
редколлегии. Редактором Бизин, майор в отставке. Служил в ракетном
подразделении. Трайно с ним не сравняться. Бизин, стало быть, газету написал с
тремя коммунистами, я проверил, как замещаю парторга – как и начальник, он в
отпуске – профорг проверил. И вывесили. А Трайно содрал. Думает: «Ничего,
проглотят». Расколочусь, а добьюсь справедливости.
– Почему он самовольничает? Не уважает вас?
– Уважает?! Да знаешь ли ты, что уважать умеют только люди?
– Не знаю.
– Он на что надеется... Ничего, мол, мне не будет, а начальнику блока угожу.
И вообще, мол, проявлю руководящую бдительность. Кому-то не понравится, а
кто и положительно оценит. .
– Ты не горячись. Ты, папа, успокойся.
– Отпусти ты меня, Маша.
– Почему ты у меня отпрашиваешься? Ты свободный человек. Если от нас с
мамой уехал без спроса, чего в таком-то случае спрашивать.
– Мы же собирались в музей.
– Мама, когда дождалась тебя с войны, собиралась всю жизнь с тобой
прожить... Мало ли на что мы надеемся. Ты как хочешь, так и делаешь.
– Раз я обещал...
– Меня только удивляет. . Ты захотел – уехал, стремишься в цех – уйдешь.
Удивляет только, почему ты возмущаешься против Трайно? Он захотел снять
газету – снял. Чего возмущаться?
– Не одинаковые положения. Я не собирался уезжать. Неожиданная причина
заставила.
– Значит, ты справедливо нас бросил?
– Может быть, справедливо, а может, и по ошибке. Ты-то, ясно, пострадала
ни за что.
– И мама ни за что.
– Ты же ничего не знаешь.
– Я уверена.
– Ты хорошо думаешь о матери. Так и должно быть. И плохо думаешь обо
мне. Иначе и не может быть.
– Я думала плохо о тебе... И не хотела бы больше.
– Я нуждаюсь в твоем уважении.
– Больно быстро ты стал нуждаться в моем уважении. Ты вот не думаешь об
этом, а, может, я здесь, у вас, как в сказке, вышла на развилку трех дорог. На
двух ждет горе, на одной – счастье. Какая дорога счастливая – нет указателя.
– Ты права. Я не думал об этом.
– Обо мне и вообще о нас...
– Каждое поколение в общем-то похоже..
– Верно, но только до нашего поколения.
– Вы что – особенные?
– До нашего поколения люди думали, что они всегда будут жить, а мы
думаем, что на нас может закончиться жизнь.
– Знаю.
– Ты мысль знаешь, а не переживания, не то, как мы думаем и поступаем.
– Пожалуй. Почти не приходится общаться с молодежью.
– Ну, хорошо. Иди в цех, если очень нужно.
– Еще как нужно. Начальник у нас на блоке неудачный. Газета и выступила.
Менять необходимо. Трайно не назначат начальником. Он это понимает. А при
этом начальнике он по существу заворачивает всем блоком. При головастом
начальнике наверняка выйдет ему укорот. Будь воля, Трайно бы за сотню лет не
допустил никаких перемен в коксовании.
– Чем же, не понимаю, плох ваш начальник?
– Обижен природой. Верно, добряк, не наорет на подчиненного, но
производству от этого не легче. Можно бы и не замечать: пусть сам по себе, мы
сами по себе. Не получается. В общем, Бизин расчихвостил начальника в
стенгазете. Ты меня извини, Маша. Я к майору и с ним на блок. Еще сходим в
музей. Не сердись.
По дороге в кинотеатр (Маша обожала первые сеансы: билеты дешевые,
садись где захочешь и не душно) встретила Владьку. Подумала о нем, проходя
под дворовой сосной, и вот он сам. Стоит подумать о том, кого желаешь
встретить, и встретишь!
Владька не подошел к ней, только помахал, как крылышками, полами
куртки.
– Телеграмма. Спешу дать ответ.
За последние годы к Маше на квартиру приносили только, как говорит мать,
смертные телеграммы: замерз дядя Родион и застрелился в армии племянник
Хмыря, которому Хмырь за рюмкой обычно внушал: «Кончай, Семен,
задумываться. Я с одним в школе учился. Он задумывался, задумывался и руки
на себя наложил».
Машино воображение повторяло Владькино лицо. Оно было тревожно. Не
от горя. От чего-то очень радостного, во что не совсем поверилось.
Владька уходил по шоссе. Тротуары были широки, но он шел посреди
шоссе, как милиционер, и автомобили проносились у него с боков.
Внезапно Маша почему-то устала. Ткнулась лбом в ствол березы, теплый,
шершаво-ласковый. Глядела вполглаза на удаляющегося Владьку.
Что с нею? Грустно. Отец? Он, наверно. Она ему сочувствует и вместе с тем
не уверена, что правильно сочувствует, потому что когда Хмырь возмущается
кем-нибудь из цеховых, то и Хмырю сочувствуешь: получается – он во всем
прав, он прекрасный, а цеховые несправедливы, плохи.
Впереди Владьки над асфальтом радужным крылом сверкнула вода. Из
переулка выехал поливальщик, желтая кабина, синяя цистерна. Движется на
Владьку. Удирай! Окатит. Не удирает. Да еще кинулся навстречу поливальщику.
Влетел в перистые струи. Затанцевал. Отряхнулся. И – дальше. Вот тебе и тютя!
Оттолкнулась от березы. Было пошла во двор, но остановилась возле ворот,
крутнулась на каблучке, пошла за Владькой. Не понимала, почему идет за ним,
думала, что он худо подумает о ней, а сама спешила, на мгновения пускаясь в
бег: свернет куда-нибудь и потеряется.
С виду Владька не был удивлен, когда она появилась рядом с ним.
Он показал глазами на табурет, и Маша села.
Владька вел себя так, как будто еще давеча догадался, что она придет на
почту, и как будто ему было все равно, что она пришла.
Поведение каждого человека Маша сопоставляла со своим, и если он
поступал не так, как поступала она или бы поступила, то этот человек вызывал у
нее настороженность. А если же он поступал, по представлению Маши, плохо,
она, мигом теряя к нему уважение или привязанность, начинала думать, что он
таким и будет всегда. Механизм ее сознания сработал по-обычному, как только
Владька нагнулся к оконцу. Если Маша чувствовала себя оскорбленной, она как
бы впадала в полузабытье: все ей виделось в дымке, звуки докатывались пухово,
хотелось, чтобы отчужденность, наступившая в тебе, продлилась подольше.
Чаще всего это состояние овладевало Машей, когда Хмырь, придравшись к
чему-нибудь, лаял ее, а мать защищала, и оба то и дело обращались за помощью,
доказывая свою правоту, к свидетельской половине семьи (старуха, деверь,
сестра Хмыря), те втравливались в препирательства, и заводилась свара, от
которой только и спасенье было, что в дремотной отстраненности.
В такой же отстраненности Маша поднялась с табурета, едва Владька
приблизился к столу, обклеенному черным пластиком, а потом брела сквозь
марево над тротуарным гудроном. Владька заговорил. У него был
торжественный тон, даже ликующий. Зимой он занял третье место на
Всероссийской математической олимпиаде, и потому сегодня телеграммой из
Московского университета его вызывали на общесоюзный семинар самых
талантливых математиков-школьников. Ему посчастливится слушать лекции
академиков и профессоров о дифференциальных и интегральных уравнениях, по
топологии, по теории вероятностей, теории групп, возможно, и по теории игр.
По характеру Владька Торопчин был молчалив. Он предпочитал сдержанно
относиться к собственным успехам, несмотря на то, что слыл в родном городе
вундеркиндом. Сказывалось влияние бабушки, Ольги Андреевны, нет-нет и
замечавшей, что его морочит гонор. Привычка окорачивать себя: «Ишь,
выпячивается» – не всегда доставляла Владьке удовольствие. Время от времени
он стервенел от потребности в похвальбе и до того хвастал своей якобы
гениальностью, что смущал сестру Лену, любившую поговорить о том, что ее
старший брат будет великим ученым.
Возвращение из состояния самохвальства обычно стоило Владьке тяжелого
раскаяния. Теперь он еле сдержался, чтобы не закричать от презрения к себе.
Ведь до чего разбахвалился перед девчонкой: утверждал, что будет двигать
одновременно, подобно Канту, развитие математики и философии, а возможно и
космогонии. Не мечтал, не выдвигал в качестве идеала – утверждал. Чем сильнее
Владьку коробила собственная недавняя похвальба, тем острей он испытывал
свою вину перед Машей. Он был слишком чист, чтобы в минуты раскаяния
оправдывать себя.
Когда он осекся и замолчал, Маша в недоумении от его перемен посмотрела
в покаянное лицо Владьки.
– Я виноват, – сказал он, – виноват. . Я о себе да о себе. В сущности, я
оскорбил всех способных людей. Все думают, что я счастливый. Я больной. У
меня мания величия. Однажды вот так же хвастал, Лена расстроилась. Кот на
софе сидел. Рыж звали его. Лена наклонилась к нему и сказала грустно-грустно:
«Хорошо тебе, Рыж, ты не думаешь, что ты гениален!»
Маша улыбнулась. Теперь ей казалась блажью обида на Владьку за то, что
он, торопясь на почту, не остановился. Она сама, получив письмо отца, бежала к
матери, не замечая никого, а вот Владька ее заметил.
– Маразм. Самому странно. Был я, и вдруг словно не я. Находит. . Ты пришла
на почту просто так?
– Не просто так.
– С отцом опять повздорила?
– С ним у меня уже почти шоколадные отношения. Я за тобой пошла.
– Из-за чего ты обиделась на отца?
– Вопросничество?!
– Отомстила.
– Мне неприятно, если кто сильно кается.
– У тебя феноменальная доброта.
– А я на теплоходах не ездила.
– Вверх по реке или вниз по морю?
– Ни вверх, ни вниз. А где красивее?
– На реке.
– Поехали.
– К обеду возвратимся?
– К вечеру.
– В семье Торопчиных принято докладываться, куда идешь и едешь.
– А у нас в семье, я про железнодольскую, не принято докладываться. Долго
проходишь – взбучка. Поехали. Потеряют, а мы найдемся.
До того счастливой почувствовала себя Маша, оказавшись на теплоходе, что
ее даже оторопь взяла. От природы Маша была боевая девчонка, поэтому она
быстро преодолела радостное замешательство и пустилась в путешествие по
теплоходу.
Владька весело сновал за ней вдоль бортовых поручней, по салонам смеялся
в ладони, когда она, округляя глаза, дивилась разнице между магазинными
ценами и теми, что были в буфете.
Владька разыскал ее на носу. Маша наблюдала за мальчишкой. Мальчишка
таился среди механизмов для подъема якоря, целясь пластмассовым пистолетом
по объемистым деревянным домам, осевшим на косогор и казавшимся
брюхатыми.
– Мило играет, – шепнула Владьке Маша.
– Инстинкт убийства, – возразил Владька.
– Чего?!
– Удовлетворяет инстинкт убийства.
– Не надо, Владик.
Появившаяся на носу старуха с похрюкивающим в заспинном мешке
поросенком тыкала мальчишку взашей, приговаривала, гневливо придыхая, что
он, лешак картофельный, так и норовит накликать войну.
Наползал холм. По краю он был обвален волнами. Ярко желтел яр. Под ним
колготились бревна.
Прибежала приземистая женщина в комбинезоне, вращением лебедочной
ручки начала опускать тяжелые сходни. Теплоход вкрадчиво толкнулся в дно,
сходни – в зыбящиеся бревна. Мальчик и старуха, сбежав по сходням,
проскочили по бревнам на тропинку, состругивали глину каблуками, карабкаясь
в небо. Маша вдруг огорчилась, что старуха и мальчик, поднимающиеся в свой
крутой поселок, сошли, будто они были ей родные и теперь она никогда не
свидится с ними.
Судно отплыло от яра. Женщина принялась крутить ручку лебедки,
покряхтывая. По мере того как сходни поднимались, Маша заводила их на
палубу.
С этой минуты она не уходила отсюда, на остановках помогая юркой
женщине.
Река, взлохмаченная ветром-понизовиком, норовисто разрезалась о
теплоход. Осклизлые топляки выставляли плоские макушки, иногда колотились
боками в днище. Как бы утаскивало за корму берега с полосатыми маяками,
высоковольтными мачтами, с церквушками, табунами, бензоцистернами. Во
всем этом была такая безвестность, что не терпелось сойти на берег, податься,
куда ноги понесут, узнать про эту землю что-нибудь сокровенное, чего не
выглядишь с теплохода.
Внезапно для себя Маша потащила Владьку к трапу, опущенному под
обрыв; вскоре они уже выбирались на кручу за рыболовами, шуршавшими
раструбистыми сапогами. Владька было разинул рот, чтобы спросить у рыбаков,
где они находятся, но Маша запретила ему спрашивать, притронувшись
кончиком пальца к губам. Рыбаки были седые, с хмельной осоловелостью в
глазах.
Навьючивая на себя рюкзаки, ворчали, сокрушаясь по поводу легкодумности
молодых людей, которые явились простоволосыми, неприспособленно одетыми
в места, где можно подцепить энцефалитного клеща.
И Маша и Владька знали, что от укуса энцефалитного клеща трудно
уцелеть: два дня – и умрешь, а если выживешь, то будешь калекой и шарики
станут заходить за ролики. Расстроились, но потом Маша скорчила рожицу,
передразнивая рыбаков, бубнила вслед им, грузно восходящим на бугор.
Этим она развеселила и себя и Владьку, и они тоже пошли берегом, держа
направление на хвойный лес.
Летом Маша обычно отдыхала в городе. Перед каникулами мать начинала
просить для нее путевку в пионерский лагерь. При разборе заявлений всякий раз
оказывалось, что на Машу путевки не хватало. Не попала в первую смену,
мечтала о второй, затем прохладно ждала (ни к чему обольщаться), что поедет в
третью, а когда в третью не попадала, даже переставала ходить за цементный
завод на озеро, уверяя себя в том, что она обречена пропадать в городе, где
воздух прогорк от сернистого дыма, асфальтового чада и автомобильных газов.
В прошлом году повезло. Англичанка Татьяна Петровна закабалилась в
начальницы лагеря, как повторял ее муж, и взяла Машу на все лето с собой.
Маша и не подозревала, что близ Железнодольска (каких-то шестьдесят
километров) может быть потрясающая природа. По окраинам Железнодольска
холмы, покрытые свиной щетиной травы, которую и козы не дерут, кучи
металлургического шлака, утыканные верблюжьей колючкой, возвышенности,
засаженные картофелем. Пруд, который делит город на азиатскую и
европейскую половины, приятен на вид лишь в затишье. Едва осядет
взбаламученная непогодой рыжая глинистая муть, принесенная
рудопромывочным ручьем с Железного хребта, он становится зеркально-серым.
А ночью он еще ярче от пластинчатых отражений оконного света, от повторения
домен, мартенов, прокатов, от электрических вилюшек, красных плавочных
зарев, лунных дорог и звездного кипенья.
Во всем этом своя приятность. Как тут поспоришь против маминой
оправдательной правоты. Однако лагерь в горах!.. Тут просто очумляющая
красота. Другая планета! Копьистые от ельников склоны. На вершинах гольцы,
соткнувшиеся друг с дружкой лбами. А меж этих бодающихся каменьев – синие
бреши, и через них видать коршунов, облака. А в теснинах – летящие реки,
словно их выдувают реактивные трубы. А по падям – ирисы: желтые лепестки,
красные узоры. А на обдувах – неветреные ветреницы: только вокруг берез и тех
берез, что на отшибе и нетесно растут. Упадешь перед ветреницами на коленки.
Они покачиваются. Чашечки белые, пятилепестковые, схожие с цветами
шиповника, но гораздо изящней, без этих желтых тычиночных чуприн, белы,
как березовая кора, – чисто, тепло, вдобавок нежные до призрачности. А запах
такой тонко-тонкий, что аромат ландыша перед ними груб. Уходишь и
оглядываешься. Ветреницы смотрят с пригорка. И кажется, ждут, что ты
вернешься и снова будешь любоваться ими. Как ясельные дети на прогулке. Ты с
ними остановилась, поиграла, повосхищалась, и дальше они провожают тебя
привыкшими глазенками, недоумевая, почему ты уходишь, раз так они тебе
нравятся, что вроде бы ты совсем без них не можешь обходиться.
Шагая с Владькой по лесу, Маша радовалась – многое из того, к чему
привыкла в горах, попадалось и здесь: поляны золотели от купавок; по елкам
вились дедушкины кудри, белея четырехлопастными цветами; солнечные
закрайки сосняков вызвездило розовым пионом, в названье которого приятно
было слышать свое имя – марьин корень.
Но радостней всего было узнавать и различать узорчато-четкие травы:
вейник, вострец, костер, ежу, трищетинник и всякие (они все прелесть) мятлики.
Неожиданно позабавил Владька, как-то вскользь и спокойно взглядывавший
на то, что вызывало у Маши приливы душевного торжества: выяснилось, что его
ботанические познания на удивление бедны. Он даже путал липу с вязом, ели с
лиственницами, а все желтенькие цветы были у него лютиком едким или
куриной слепотой. Маша подшучивала над ним. Чтобы она отстала, Владька
заявил, что не хочет захламлять память необязательной информацией.
Зато Маша открыла для себя пихты. Она думала, что проходит мимо елей, но
ей показалась необычайной гладкость их стволов, разлапистость веток,
оперявшихся яркой свежей хвоей (на елях хвоя вроде поскромней), и то, что ни
на одной из них не висели грозди прошлогодних шишек. Она понюхала ветку.
Душистая хвойная сладостность, но не приторная, а такая, которой хочется
упиваться. Подняла шишку. Чешуйки еловых шишек когтисты, ромбовидны, а
эти круглы. Да ведь это пихты, пихты, пихты!
Владька ухмыльнулся, что она обрадовалась, обнаружив в лесу пихты. Он
одобрил пихтовый запах и обещал Маше, коль ей нравятся этакие ароматы,
выпросить у тети Натальи Федоровны сандаловый порошок, чтоб нюхала в свое
удовольствие.
Она была против того, чтобы рвать цветы: завянут, пока плывешь на
теплоходе. Но когда повернули обратно, не удержалась и наломала охапку
купавок и шла, обхватив ее левой рукой. И было приятно у щеки колыханье
упругих бубенцов, внутри которых, на самом донце, мнилось, плавает
оранжевый свет, и тешило лукавое предположение, что если бы ее сейчас
сфотографировали, то карточка бы получилась симпатичная и сам Владька
пожелал бы заполучить на память.
Переложив купавки с плеча на плечо, Маша заметила, что по руке, которой
поддерживала букет, ползет клещ. Хотела стряхнуть – не стряхивался, пальцами
снимать побрезговала. Попросила Владьку. Он вмиг побледнел, однако не медля
сорвал березовый лист и прихватил им клеща, а так как спичек у них не было – в
тлен развинтил каблуком свернутый лист.
Маша бы не испугалась, кабы Владька не побледнел да с дрожью не
растаптывал клеща. Она отшвырнула цветы и обнаружила в локтевой впадинке
два красных пятнышка. Наверняка прокусил клещ. Кожа тут нежная, потому и
прокусил. Она слыхала про его укусы. Какие-то молниеносные: раз – и не
больно. Да, да, слыхала, молниеносные.
Сказала об этом Владьке. Он обследовал ее руку. Красные пятнышки были и
на плече и на кисти. Комары нажалили. Если бы клещ прокусил, он бы впился и
присосался. Легко рассуждать, когда не по тебе полз клещ и не ты, в случае чего,
погибнешь. На твое зрение все пятнышки одинаковые, а на ее эти, в локтевой
впадинке, красней...
У Маши не было так, чтоб в несчастье она сердилась на человека, который
сочувствует ей. Владька опасается за нее, как, может быть, никто до сих пор не
опасался... нет, Татьяна Петровна... В позапрошлом июне всем классом собирали
семена карагачей. Она, Маша, стояла на лестнице, сдаивая с ветки похожие на
бумажные пистонки семена. Сдаивала, потеряла равновесие, ударилась головой
об асфальтовую дорожку. Татьяна Петровна невероятно переживала... и Владька
так же переживает. А она против него раздражается. Наверно, укусы клеща?
Энцефалитного? Но все равно не должен успокаивать. Не отличаешь пятнышко
от пятнышка – молчи.
Они почти что бежали через лес, будто их подгоняло ураганным ветром.
Первой очнулась от спешки Маша. Встала в колее проселка. Владька подумал,
что началось. Маша, едва он спросил, почему она остановилась, хмуро
наклонила голову. Молчала.
У себя в городе Владька слыхал про мальчишку, которого укусил клещ на
Сундук-горе в Башкирии. Мальчишка был словоохотлив, но, переболев,
сделался молчальником.
Владька стал допытываться, не чувствует ли она жара, есть ли мозговые
боли, нет ли тяжести в ногах. Она как закаменела. Он притронулся к ее волосам
с той же вкрадчивой вопросительностью, которая только что была в его голосе.
Маша не отвела головы. Тогда он принялся гладить ее волосы, слегка касаясь
щек, по которым они пушисто спадали, и от этого в ее облике была такая
незащищенность, что ему хотелось умереть.
Нежность была чувством, презираемым Владькой. Обходительный,
выдержанный, он взвинчивался, даже если бабушка позволяла себе чиркнуть
ладошкой по его челке. Сестра Лена – к ней он был очень привязан -
поддразнивала Владьку:
– Брат-тачка, сердитенький, разреши – причешу тебя.
Он, выкрикивая на хрипе, чтоб Лена отвязалась, скрывался в смежную
комнату. Сестра приходила туда. Иногда его настолько бесила шутливая
ласковость сестры, что он в остервенении долбил ее кулаком в плечо.
Когда кто-нибудь сообщал Владьке, конечно по секрету, что он нравится
какой-то девчонке, Владька зло напрягался. Случалось, что соученики заводили
при нем разговор о девчонках, а ему нельзя было уйти, и он узнавал, что Игорь
дружит с Галкой, что Инга перецеловалась со всеми мальчишками из 9 «б»
(спортивный интерес), что у Гареевой было с Даньшиным, то разочаровывался и
в тех, кто болтал и о ком болтали.
Владькину мать, специалистку по античности, сокрушала в сыне
несоразмерность между его умственным и чувственным развитием. При случае
она подшучивала над бобылями и женоненавистниками из педагогического
института, где преподавала, дабы Владька сознавал, какой неполноценностью
может обернуться некая его сегодняшняя черта.
И вот Владька гладит волосы девчонки. И сам себе не отвратителен, хотя и
утверждал, что будет в подобном случае отвратителен самому себе. Он и не
вспомнил об этом. И если бы кто-нибудь мог напомнить ему об этом сейчас,
каким он был еще недавно, то Владька показался бы себе чудаком и, наверное,
благодушно посмеялся бы над собой.
Скольжение Владькиных ладоней по ее волосам сначала было безразлично
Маше, но вскоре она ощутила, как погорячело ее дыхание, и отвела Владькины
руки. Как в лихорадке пошла травянистым проселком, но теперь ее уже несло не
отчаяние, а смущение.
Давеча Маша и Владька попали на проселок возле сосны, обугленной
ударом молнии. С правого бока от них чернела горстка избушек. К этим
избушкам они и спустились по проселку, похватали губами родниковую струю,
слетавшую с берестяного желоба. Побрели берегом моря к остановке.
Страх перед энцефалитом, слабо подававший о себе знать во весь лесной
путь, резко усилился в ее душе на береговом солнцепеке: заболели виски, адски
ломотно, аж к горлу подпирала тошнота. Броситься бы с крутояра и опускаться в
отвесную глубину, к донной студености, в безвольность. А может, не от клеща?
Просто переволновалась и жара, жара, жара?
На остановке была деревянная ожидалка. Там слышался говор. При мысли,
что она окажется среди людей, Маше стало муторней. Сразу будто несвобода:
кто хочет разглядывает тебя, и как хочет думает о тебе, и ты вынуждена
смотреть на них или слушать их, и всякий имеет право соваться в твои глаза с
улыбкой, с насмешливой гримасой, с миной угодливости, вламываться в твой
слух хохотом, умничаньем, кухонными рассусоливаниями, с матом, скукой,
притворством.
Легла в тень ожидалки. Рукой прикрыла глаза. Погружалась в темноту, где
извивались осциллограммы боли, какие-то никелево-яркие, мешавшие
установлению внутреннего покоя. Ловила, утишала их, они вырывались,
убегающе скользили и опять изгибались в черноте, куда трудно было
дотягиваться, порскали ранящим блеском.
О Владьке забыла, но чувствовала какое-то натяжение между собой,
простершейся на земле, и кем-то, находящимся поблизости, метрах в трех. Когда
отчетливо ощутила, что пропало натяжение, поняла: неподалеку стоял Владька.
И ушел. И тут же возник его басок за дощатым сводом стены, спрашивающий,
нет ли у кого случайно таблетки от головной боли. Чье-то обнадеживающее
обещание порыться в сумочке. Потом Владькино объяснение, для кого таблетка
и почему. И снова голос, обещавший порыться в сумочке, но звонкость его
притуманилась заботой. И зачем Владька сказал про клеща? А после слова все
той же, должно быть, славной женщины; из них Маша узнала, что у женщины
был энцефалит, а клещ ее не кусал, и что был он и у ее племянника, который
только снял с ее руки клеща. И у нее, и у племянника через сутки началась
высокая температура, а головная боль попозже, невыносимая тоже.
У Маши была надежда на то, что укусы комариные (пятнышки стали
точечными, не отличить), и вот надежды нет, и такая в душе пустота, как после
похорон. И ни к чему таблетка, и все чуждо и ненужно.
Да отстань ты, Владька. И она отбросила таблетку. И коренастая женщина с
яблочной рдяностью щек, журяще называющая ее деточкой, и снова облатка у
губ. И вскоре теплоход. И лежит она в кормовом салоне. Биение двигателя внизу.
Кувыркающиеся звуки татарской гармошки за бронированными туалетами, в
подтянутых на блоки шлюпках. И неостановимая жалость к себе: не будет в
городе, а то и на всей земле девчонки с пепельными волосами – для Татьяны
Петровны они лунные, – которых, наверно, не станет нигде, как и голубых и
синих глаз, из-за электрического света. И тревожная боль за мать: казниться
будет – на смерть отпустила. И досада, что не выведала, почему отец кинул их с
мамой. И сочувствие ему: без того страдает из-за случая со стенной газетой. Из-
за всего этого Маше все сильней хотелось жить. Как бы доказывая кому-то, а
также и себе, что ей рано умирать, она перечисляла, что желала бы узнать: будет
ли счастлива мама, если Хмырь бросит выпивать и драться; каются ли
Владькины родственники, что уехали из Франции; на ком женится Митька
Калганов; если Владька достигнет профессора, то кем сможет стать она, которая
интересуется кое-чем, что его не интересует, и, в общем-то, сообразительней
его...
Постепенно она сосредоточилась на мысли: раз других спасли, то и ее
сумеют спасти. Приплыть в город и немедленно в больницу. Пусть делают хоть
сколько уколов против энцефалита. А понадобится – пусть делают пункцию
спинного мозга. Мама, когда ее исследовали на вибрационную болезнь, не






