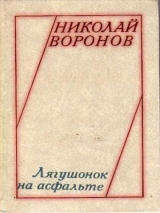
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Листопад тем, что он привлек внимание Вячеслава, прервал размышление. Среди листвы,
ворошившейся на асфальте, он приметил лягушонка. Лягушонок стремился к решетке, в
которую над корнями был забран ствол липы. Прыгал лягушонок мелко, с остановками,
метался по сторонам, чтобы не раздавили пешеходы.
Вячеслав волновался о лягушонке, и, едва тот спрятался под решетку, отрадно
вздохнул и шутливо подумал о себе, что он – лягушонок, спрятавшийся в укромное
местечко, и что его «я», вероятно, такое же наивно-беспомощное, как «я» лягушонка.
Когда Вячеслав оделся и причесывал волосы перед зеркалом, он ощутил свое
спасение как непреодолимую зависимость от Тамары. Догадался, что именно эта
сложность хочет разрешиться в нем и не находит выхода. Он грустно удивился тому
превращению, которое произошло в его чувствах. А ведь не очень давно мечтал как о
недостижимом счастье (что там зависимость?) ощущать себя рабом Тамары. И еще какое-
то нежелательное прибавление возникло в его психологии. Да-да, вот оно. Да и зачем оно?
Всегда-то был убежден, что после возникновения близости немыслимо когда-нибудь
расторгнуть возникшее чувство. А теперь что-то в нем готовится к разрушению и этой
зависимости, должно быть святой, по крайней мере для него святой до сих пор.
37
За чаем Вячеслав не переставал думать о лягушонке.
Ища лягушонка, он поднял решеточную половинку. В уголке находилось углубление,
где прострелились сквозь чернозем ростки подсолнухов. За ростками и спрятался
лягушонок. Вячеслав достал его. Лягушонок вырвался, пришлось ловить, шныряя среди
пешеходов.
Ксения наблюдала за братом сквозь оконное стекло, недоумевала, посмеивалась.
Леонид, пахнущий бензином, тройным одеколоном и еще чем-то неприятно-
удушливым, встал у нее за спиной, когда Вячеслав перебегал дорогу.
– Куда он?
– Лягушонка сцапал на тротуаре.
– Зачем?
– Теперь много пишут про акселератов. Ладу у них нет между умом и долговязостью.
– Пропорции, хочешь сказать. К Славке не относи.
– Лягушонка сцапал, неизвестно куда подался. Чистый акселерат.
– Читаешь журналистику? Ну и читай. Однако обо всем надо производить
собственные выводы. Длинных взять, коротышек, середняков – все слишком рано
взрослеют. Голубенок чем мил? Страшненький, пищит несусветно, ржавый пушок над
опереньем, к взрослым голубям лезет: покормите. Его клюют, хлещут крыльями. Он и так,
дурашка, от лупцовки вконец бестолковый. Жалко. Матерый турманюга крылом
пискунишку с лапок сшиб, а он к нему. Нашел кварцевую крупинку, трогает клювиком:
взгляни-ка, скушать хочется, но вдруг несъедобно или подавлюсь? Тем и мил! Как раз
Славка и ценный дитячьими поступками. Теперешние девицы и парни не в пример ему -
расчетливые, головастые. Старики по многим вопросам против них голубята. Если
диспропорция есть, она в том, что подростки физически еще не сложатся, но образ
отношений берут вроде замужних женщин и женатых мужчин.
– В газетах пишут по ошибке? Только ты вникнул?
– Вношу поправку: по-всегдашнему добурился до истины. Ты, Ксенюшка, сеешь муку
через густое сито, потому отруби и всякие шурум-бурум остаются в сите, отсюда я и
лопаю твои ватрушки-сдобнушки, хоть тягачом оттаскивай. Читаешь? Читай. Но просевай
факты через умственные сита.
– Мудёр ты, Лёня!
– За насмешку получай. Вы живете наподобие акул. Что вам ни подбросят: идейку,
песнешку «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно», туфли на платформе – вы
хап и заглотили.
– Кто это – мы?
– Потребители всякой штамповки. Ладно, Ксюшенька, не обижайся. Для женщины
важней чувства, для мужичков – разум. Я сейчас на мотоцикл – и за Славкой. Жди.
38
Вячеслав заключил лягушонка в ладони, держал их вверх пальцами. Тесно было
сидеть лягушонку, тряско, досада разбирала. Жил он в дворовом сквере. Место
беспокойное, зато сытое. На день прятался под куст крыжовника. Никто к стволику, где
хоронился, не мог пролезть. Пронырливым воробьям и то не удавалось: ветки иглистые
стелились по земле. Сегодня утром его обнаружил бродячий кот. Лег на спину, поднял
ветку и обнаружил. Пробовал догрестись когтистой лапой, но харю только исколол
безусую – дырки в губах. Но не ушел котище полосатый. Улегся около крыжовника, видеть
плохо видит, зато чутко слышит – при малейшем шорохе наводит под куст темные
раковины ушей. Лягушонок не волновался, что кот возьмет его на измор: привык
пересиживать дворовые опасности. Кроме людей тут собачья полно, кошек, ворон, галок.
С неделю тоненькая старушка откармливала пшеницей селезня. Вот живоглот! Пшеницы
наглотается, зобом о землю задевает и, надо же, попрется по газону шлепать. Всех братьев
лягушонка из травы повыхватывал. Клюв широкий, на конце верхней створки – загиб,
похожий на зуб. Схватит, прижулькнет загибом, повстряхивает башкой сизоперой и
проглотит. Пришлось лягушонку отсиживаться под крыжовником. Как-то едва не
сплоховал. Заслышал – червь дождевой ползет по толченому кирпичу, высунулся из-под
ветки, а селезень тут как тут. Собирался червя схватить, но пырхнул к нему, растворив
роговой свой нос. Промахнулся живоглотище. После подсовывал клюв под куст, дробил
воздух, надеясь схватить наудачу, да глаза чуть не повыкалывал. Так что кота он бы
пересидел. Ворона выручила. Хлопнулась на дорожку с куском мяса, собралась клевать, а
здесь к ней кот прыгнул. Она мясо не бросила и низом, низом по аллее. Кот за ней, орет,
будто мясо ему принадлежало.
Изо всей мочи попрыгал лягушонок к газону. Впопыхах не сразу заметил, что возле
круглой клумбы стоит бородач, собираясь срезать флоксы. По ту сторону дома находились
подоконные грядки, где тоже можно было спрятаться. На грядках росла клубника. Раньше,
пока не сорвали ягоды, жители грешили на лягушек: якобы они едят ягоды. Едят-то
спелую клубнику слизняки, а уж слизняков едят они, лягушки. С ними, случается, и
остатки ягоды прихватят. Жители и стали бить лягушек заодно со слизняками. Людишки,
людишки, неблагодарные, злобные существа.
Не повезло лягушонку. Жители разрыхляли лопатами клубничные грядки, смешивали
почву с удобрениями, поливали водой. Еле уцелел. До ночи укрылся под решеткой. Но
зачем-то взбрендилось долгому парню достать его из-под решетки. Возмутительно!
Некуда деться от них! Что хотят, то и делают. Да и нечистоплотные. Руки парня ржавчиной
разят, как старая водопроводная труба.
Лягушонок сердито подскочил в ладонях и, так как не рассчитал, падая, опрокинулся
навзничь. Начал дрыгаться, чтобы занять прежнее положение, удобное для прыжка, и
заметил, что ладони приотворились. Подрыгался еще и услыхал тихий радостный смех.
Ладони раскрылись пошире. Заметил: смеясь, долговязый крутит башкой, ужимая ее в
плечи.
Снова занял подходящее положение. Просвет между ладонями шире. Толкнулся,
взлетел, плюх на лист подорожника.
Парень присел на корточки.
– Дурашка, ты жив?
Лягушонок, пробуя его напугать, выпучил глаза, квакнул.
– У! Ты не без соображения. Коль жив, удирай в котлован. Там лягушиное царство.
Котлован находился рядом. Воды полно. Дно ребристое из-за канавок, оставленных
зубьями экскаватора.
Догадываясь, что высокий не тронет его, лягушонок неторопливо попрыгал к узорной
глинистой дороге, которая спускалась к дождевой луже. Но через минуту он невольно
принаддал: к котловану, вздувая за собой огромные, резко лопающиеся звуковые пузыри,
мчался мотоцикл. Над рулем моталась голова в танковом шлеме, яйцевидная коляска,
подпрыгивая, зависала в воздухе.
39
В мотоциклисте, который напропалую гнал по кочкарнику, Вячеслав угадывал
Леонида. Давненько на месте кочкарника было блюдце – степное озерко. Оно высохло,
затвердело, сровнялось заподлицо с жестко-тугим старником, но все-таки отдельные
закаменелые кочки выделялись над уровнем мелкой холмистости. На каждой из кочек
мотоцикл с прицепом мог опрокинуться, потому и побежал Вячеслав навстречу Леониду,
паническими взмахами рук требуя, чтобы зятек остановился.
Леонид все понял, однако продолжал гнать. Он был в состоянии задора, который не
ведает ни острастки, ни опасности.
– Ксения за тобой прислала. Боится за тебя. Все мы боимся. Смурной ты стал. Чё на
уме – скрываешь.
– Дядя Лень, устаешь ведь от многолюдья. Должен я сейчас покрутиться наедине с
собой.
– Э, не проведешь! А кто с лягушонком убежал?
– Я.
На этом их разговор прервался: отвлекли машинные взрывы, сопровождаемые
дребезжанием, бряканьем, пересыпчивым треском.
Подъехал запыленный газик. По-свинячьи хрюкнув, отворилась дверца. Тяжело
выбрался, будто ноги были свинцовые, широкий мужчина. Он свалил вперед сиденье.
Темная глубина кузова прояснела чем-то солнечно-желтым. Оба, Вячеслав и Леонид,
взволновались в ожидании женщины и оттого прищурились.
На несколько мгновений Вячеслав с Леонидом поскучнели: из кузовного мрака стало
надвигаться нечто вроде щита, обернутого в бумагу и перевязанного бечевкой. Но сразу
просияли, едва поверх заслончивого предмета глянули глазищи цвета спелой черемухи.
Не успели они опомниться – перед ними Лёна. Вокруг шеи косынка сизого атласа.
Шерстяное платье ошеломительной яркости: оранжевое, рукава зубчатые, фиолетовые,
подол, удлиненный зелеными, как озимь осенью, оборками, волнуется. Благодаря оборкам
платье раструбистое, и это неожиданным образом выявляло угловатую красоту лиловых
туфель, словно бы отлитых, редкую ужину ее талии, свободной в своей естественной
гибкости, что и гадать не станешь, что так можно утянуться с помощью пояса.
– Коля просил передать, – сказала она подсекающимся голосом и протянула Вячеславу
плоский предмет, подобие щита.
– Ну, Коняткевич, обязательно ему...
– Рано досадуете.
Лёна принялась развязывать туго затянутый узел пеньковой бечевки. Бечевка упала на
траву. Гремучая бумага пластом перевернулась, застряла меж иглистых кочек,
общипанных козами. Поднос полыхнул огнеперым костром. Но так показалось, пока Лёна
не отступила спиной к солнцу. На черной плоскости зависли два петуха: газово-голубой и
янтарно-красный. Яростные, они сшиблись друг с другом, от удара взвились и
разомкнулись, так и зависли. Гребни позапрокинуты. Клювы – каждый похож на огромный
коготь – готовы вонзаться, кромсать. Чешуйчатость ног в сочетании с медным цветом и
шпорами, находящимися на полном боевом взводе, наводили воображение на детское
время человечества, когда сражались мечами, в кольчуге, на конях и не представляли себе,
что будут танковые, самолетные, ракетные войны.
– Где Коняткин добыл этот поднос?
– Искусство?
– На подносах в основном пишут цветы. У меня есть поднос, где навалом вареные
раки, вобла, кружка пива. Или другой: арбузные ломти. А чтоб птицы – нет.
– Вы для него... Таких по всей стране горстка! По его восторгам в ваш адрес, вы -
небожитель. На облаках спите, облаком из звезд укрываетесь.
– Вот Леонид, ему бы лишь розыгрыш устроить. Вы тоже любительница высмеивать?
– Клоню к тому, что дружбу к вам Коняткин выразил очень красочно!
– Дак это сам Коняткин?!
– О чем и толкую. Он другой поднос готовил. Лиса. Лежит среди ромашек.
Задумалась.
Неожиданный сигнал газика, муторно-острый, как свист сверла в железобетоне,
заставил их замереть. Лёна, едва прошло оцепенение, досадливо покосилась на машину.
Уедет, вот-вот уедет. Широкий согнет кого угодно. Наглость несокрушима, достоинство,
каким бы оно ни было прочным, подтачивается. И в метро проникает вода. Уедет Лёна,
сейчас уедет. Задержать ее.
– Лёна, берите свой багаж. В нашем распоряжении мотоцикл. Мы можем вас свозить
хоть к богу на пельмени.
– Мой шуряк открыл конструктивный выход.
Наверно, Лёна сама прикидывала, что неплохо было бы избавить себя от широкого,
без промедления она попросила шофера выдать ей портфель. Портфель был выдан. Газик
уковылял по кочкам.
Откровенные в совместной радости, остались на пустыре три человека. Но уже через
минуту один из них ощутил неловкость в собственном присутствии. Он слукавил: якобы
забыл, что обещал свозить Ксению на тот берег за белыми эмалированными кастрюлями.
Как раз, мол, хватился в назначенное время. Они уговаривали его, хотя и поняли, что ему
передалось их желание, причем передалось тогда, когда оно было еще не совсем ясно им
самим.
Уезжал Леонид с залихватским видом, но в душе скорбел. И зачем только люди вечно
рвутся к обособленности? Почему он, вопреки своему настроению и характеру, должен
удаляться? Ему интересно узнать душу Лёны, направление мыслей. Обликом-то нравится.
Левая бровь с продольным шрамиком. Либо от бритвочки, либо от стеклышка. Груша или
другое дерево иглой чиркнуло? Пальцы рук, исключая мизинцы, как расплюснуты в
последних фалангах. Наследственное? Или с малолетства в деревенских трудностях?
Разве б помешал? Ну, понятно, молодые. Забота о семейном устройстве. Почему общение
по расчету предпочитать... Просто, что ли, нельзя общаться? Никаких прикидок, прицелов.
Бескорыстно. Общение ради него самого. Остроты. Каламбуры. Поулыбаться. Обсудить,
что ждать от востока-запада. Любовь без прикидок честная получается. Вечная. Лиса!
Сказала-то о ней как?! Задумалась. Над своим будущим? У меня с ней родственная натура.
А я уезжаю. Славка, может быть, рассердился? Он за Томкой не перестрадал... Я
вымудрил: оставил. Им-то нужно ли? Как взглянут: почему пятки смазал? Сводническая
дурость.
Когда Леонид отъехал, они озадачились.
«Эгоисты, – подумала Лёна. – Ему хотелось быть с нами. Расположен ко мне. Многим
я не по нраву. Гордячка. Будешь гордячкой. У, мужичье, липуны проклятые! Но он не
липун. И Славка не липун. Необъяснимо. Увиделись в Слегове – и полная симпатия. Всю
жизнь могут симпатизировать. Откуда такая расположенность? Другие увидят – ровно
бандиты набычатся. Ничего плохого не слыхали – ненавистничать настроились. Слава
молился мне. Неиспорченный. А эгоист. И я не лучше. Обидно за себя».
Понурился и Вячеслав. Погрустнение, даже подавленность прочел во взоре Лёны. Ну,
остолопы, без транспорта остались. А может, она думает, что он мигнул, чтобы Леонид
улетучился. Говорила ведь о ненависти к мужчинам. Значит, и в невинном факте может
подозревать подвох. Все-таки по-непривычному быстро улепетнул Леонид. Торжествует:
угодил шуряку. Вот непрошеная услужливость! Надавать по шеям. Сам того не замечая,
Вячеслав скрутил пальцы в кулаки. Собственно, кто он для Лёны, чтоб она не
опечалилась, не насторожилась? Паяц, падающий на колени, ловелас, болтающий
несусветицу. Да и кто она для него? Ну, мила, востра, оригинальна. Кто-то был в роду из
цыган. И муж, кажется, цыган. Нельзя так. Подло. Просто она – человек. Женщина, не
женщина... Нельзя. Кинулся к человеку. Молился. Выхода не было: молиться или
топиться. Корысть, прицел? Есть ведь чисто духовные отношения. Лычагину не надо было
ничего, кроме платонического. А чуть попал под поцелуйное влияние, сразу и загинул.
Выдраться из плотской тьмы к чистоте, к всепоглощающей духовности, к бескорыстию
чувств.
Легкий понизовик загремел оберточным листом. Лёна подняла бечевку, упаковала
поднос, объявила Вячеславу о том, что ей необходимо сдать в институт контрольные
работы.
Трамвайный путь был неподалеку, но Вячеслав пошел в противоположную сторону,
где находилась новая трамвайная ветка. Он повел Лёну к той ветке не потому, что идти
туда было дольше, а потому, что хотелось брести пешком в пуховом тепле солнца. В год,
когда Вячеслав призывался в армию, осень тоже выпала нежная, милостивая, и его
одолевало неосуществимое мечтание: хотя бы понадобилось двигаться к месту службы в
пешем строю, он бы подпрыгнул до неба, придись шагать по вёдреной погоде тысячи
километров. Под таким солнцем он совершил бы пешую кругосветку!
Выспрашивание не претило Вячеславу, однако редко у кого он пытался узнавать,
откуда он, как рос, с кем дружил. Получалось непроизвольно, особенно в армии: перед
ним неожиданно раскрывались.
После встречи в Слегове Лёна представлялась Вячеславу юной женщиной, которая
девчонкой училась в городе, но сохранила деревенский характер и повадки: «Обплясалась
сегодня. Сил нет». Полагаясь на то же впечатление, он был уверен: в образовании она не
нуждается, потому что для ее жизни и работы предостаточно и школьного. Не без
стеснения он признался Лёне в этом.
– Близко к были, – ответно промолвила Лёна, – но далеко от правды. Город многих на
свой лад переваривает. Мои подружки, вместе с какими квартиру снимали, старались во
всем уподобиться городским. Чтобы «деревней» дразнили – избави бог. Не сужу. Попробуй
порыпайся против природного штампа. Грачей наблюдай не наблюдай – не отличишь. На
одном штампе оттиснули. Чибисы – опять. У птиц при упорной наблюдательности
находишь легкое различие. У нас в озере красноперки. Под одно красноперки. Караси -
под одно. Язи – под одно. Оловянные солдатики озерных вод.
– А вы, Лёна, рыпались?
– Рыпалась – цветики. Дралась. «Алёнка – деревня» – ударю, пну, исцарапаю.
Нравилось быть деревенской. И нравится. В восьмом классе прозвали Барышней-
крестьянкой.
– Тут уж вы не дрались?
– Ударь меня, только Барышней-крестьянкой назови. Подружки это прозвище в
Слегово привезли. До сих пор держится.
– Чаще, наверно, Цыганкой зовут?
– По имени. Цыганкой Коняткины зовут. Им по душе, что в роду у меня были цыгане.
Диковинно для них. Мне эта диковинка дорого досталась. Польстилась на цыгана. Табор
разбили возле озера. Государство оседлости требует. Они оседают, но летом бродяжат.
Съедутся в определенный пункт из разных краев, лошадей купили, кочевать. Он обещал,
если поженимся, в Слегове осесть. Сыграли свадьбу.
– Без любви?
– Чудного мнения обо мне. В вековухах милей куковать, чем выйти не за любимого.
– Старины придерживаетесь.
– Хоть раскрасавец, а нет к нему чувства, он для меня все равно что бессердечное
железо.
– Вон как!
– Не шучу.
– А я восхищен.
– Было бы чем. Прожили до зимы. Деревня не скора на суд о чужаке. Во все глаза
наблюдает, во все уши слушает, с выводами годиат. О нем быстро по-хорошему стали
говорить. На покосе за ним никто не угонится: что косить, что сено метать. Песня – не
перепоешь, пляска – не перепляшешь. Цыгане ловко по жести работают. Жестянщики из
жестянщиков! Крыши крыл, водосточные трубы делал, лейки, корыта. Сепаратор плохо
отбивает сливки, когда тарелочки из жести поднашиваются! Целую кипу тарелочек
закладывают в сепаратор. Он подновил полуду на тарелочках, и сепаратор начал гуще
отбивать сливки. Зимой засобирался в Малоярославец, где братья осели. Отпрашивался на
неделю, вернулся к весне. Братья многодетные, купили бросовый дом. Укреплял
фундамент, менял венцы, перекрыл, веранды пристроил. Было так или нет, да так говорил.
По обмолвкам догадалась: в Малом и в округе порядком цыган. Промысел, по обычаю,
ведут женщины, преимущественно в Москве. Вернулся. Не успели отгулять сабантуй в
честь окончания посевной – телеграмма: старший брат под электричку попал. Чую -
разрывается муж между мною и родней. Наверняка брат не попадал под электричку. Тащат
к себе. Обман не с одной стороны, обоюдный. Уехал и опять долго отсутствовал.
– Цыганочку завел?
– Не из повес. Веками цыгане колесят по земле. Табор – горстка людей. Едут куда
вздумается, когда заблагорассудится. Никаких расписаний. Волюшка вольная! Огромные
народы распылились, забыты. Цыгане есть и сохраняются. Он сказал: «Мы как пальцы в
кулаке: отдельны и неразделимы». Психология складывалась тысячи лет. За годы не
изменить. Муж не в силах оторваться от цыганской жизни.
– Он против оседлости?
– Он за оседлость, но с учетом их натуры. Цыгане – путешественники.
Неискоренимые. Цыгане артисты. Пусть с официального разрешения будут кочующие
ансамбли. Пусть разводят лошадей, создают ипподромы, конные цирки. По красоте с
лошадью никто не сравнится.
– А человек?
– Да. Но лошадь благороднее.
– Вы со всей серьезностью?
– Хотя бы потому, что лошадь – травоядное существо.
– Сногсшибательно!
– Целый год он в Донбассе. Не встречались того дольше. Подала на развод.
Лёна замолкла, испугавшись, что ее стремление развестись Вячеслав воспримет как
намек. Она отвернулась, чтобы он не заметил вспышки смущения на ее щеках.
Они шли вдоль стальной, пиками, ограды, за которой берегом пруда тянулась
тополевая роща. Кроны обрушились, кое-где на вершинных ветках болтались неуклюжие
листья величиной в штык лопаты. Сквозь частокол ограды и стволов глинисто рыжел
взбаламученный пруд.
Давеча в степи, когда Вячеслав нет-нет и улавливал запах свежего снега, он думал, что
ветер наносит запах похолодалого пруда. Как ни греет солнце, все-таки осень, и земля, и
воды остывают за ночь до зимней свежести, а днем ею обвевает просторы. Волны были
привальные, дыбастые. Они падали с пышными выхлопами. Воздух, насыщенный
меленьким, как цветочная пыльца, бусом, ощущался на вкус. Стоило облизать губы, и во
рту, возносясь под нёбо, определялась пряная терпкость глины, рудная кислинка,
отдающая сладостью заячьей капусты, душная преснятина пухово-зеленых водорослей,
которыми обрастают донные камни. Забористый вкус волнового буса не мешал обонянию
замечать запахи тополевой рощи: горьковатость чуть волглой коры и лиственной прели,
по-прежнему выделяющей медовый аромат смолки. Все это глушило запах свежего снега,
но совсем устранить не могло: он продолжал улавливаться, как улавливается сигаретный
дымок среди доменного смрада. И Вячеслав усомнился в своем первоначальном
предположении: не запах ли какого-нибудь лосьона или крема он чует, а то и духов? Если
уж солдаты, прихорашиваясь, применяют всякие благовония, то женщины и девицы -
подавно.
Прежде чем выбраться на обочину шоссе, они спустились в овраг. Там, в заветрии,
потерялись все запахи, кроме запаха свежего снега, и Вячеслав притворно сказал, что из
лосьонов, на его нюх, нет приятнее огуречного лосьона, а из жидких кремов -
миндального молочка.
Лёна только что говорила о том, что заочно учится на биологическом факультете
пединститута, но в школе работать не собирается: она агроном парникового хозяйства,
пока младший, и знания ей необходимы для углубления в этот труд. Рассказом о
замужестве Лёна не уменьшила своей откровенности, потому и заговорила об институте.
Она собралась посвятить Вячеслава в тайны парникового существования растений, но он
почему-то ни с того ни с сего ринулся в косметику. Неужели приблазнило, что косметика
ей интересней агрономии? С обычной своей прямотой, за которую ее редко одобряли в
Слегове: «Больно напрямик режет, а надо бы с утюжком, сперва пооглаживай душу, после
уж таскай по ней борону», Лёна упрекнула Вячеслава:
– Я про Фому, вы про Ерему.
– Да?
– Я про институт, вы про лосьон.
– Учуял запах свежего снега, а снег не собирался выпадать. Может, парфюмеры
отличились?
– Не пользуюсь косметическими средствами. Зарок давать не стану. Войду в возраст -
авось и примусь наводить красоту.
– Алён, я окончательно сбит с толку.
– На то лето приезжайте в Слегово. Останавливайтесь у Паши Белого. Будете пить
воду из нашего родника. Купайтесь, где он стекает в озеро. Вообще наше озеро ключевое.
За месяц освежитесь до неузнаваемости.
– И в самый жар всем будет казаться, что я только что умылся снегом?
– У кого чуткий нос.
– А счастливей сделаюсь?
– Не ручаюсь. Зато счастливость счастья будете чувствовать чисто.
– Кабы чистота восприятия зависела от родниковой воды.
– Зависит. Очень. Мы, деревенские, больше радостные в радости, наше горе
горестней, песни поем песенней, пляски пляшем плясовитей.
– Заблуждение.
– Приедете, понаблюдайте. Согласитесь. Собственно, то не мои слова – Паши Белого.
Придерживаюсь.
– Алён, почему на отпуск посылаете меня к Павлу Тарасовичу? К себе почему не
приглашаете?
– В женскую избу?
– Простите. А кто еще у вас?
– Одна мама. У нее ревматизм. Тяжелый. Корову подоить не может. Иду с вами, а сама
испереживалась: сумею ли засветло вернуться? Вечером на пассажирский грузовик
немыслимо попасть.
– Не волнуйтесь. Увезем на мотоцикле. Едем быстро к вам в институт и обратно.
Коняткина повидаю и к работе успею вернуться.
Вячеслав побежал по дну оврага, покрытому стеклянистой дробленкой. Дробленка
хрупала под ногами. Впереди зернисто-черно сверкала металлургическим шлаком
автомобильная насыпь.
Лёна не побежала за Вячеславом. Он вернулся к ней. Волосы занавесили склоненное
лицо. Такая скорбная пониклость в голубой полоске кожи, обозначившейся в месте
распадения прядей, в желобке на сахаристо мерцающей шее, в девчоночьи остреньком
выступе позвонка, что где-то в области сердца ударила, разветвилась электрическим
разрядом тревога и затворяющим дыхание жаром наполнилась грудь.
Он спохватился, что не забрал у Лёны портфель, вероятно увесистый, с учебниками,
и, хотя портфель оказался легким, укора к себе не смягчил: неучтивость сродни
равнодушию.
– Живу невольницей, – промолвила она безутешно. – От мамы никуда. Мужа сколько
прождала... Куда спешить? Обратно в узничество?
– Если есть кому присмотреть за матерью, задержитесь.
– Паша Белый присматривает. Стар он. В заботах как гусь в перьях.
– Коняткин подмогнет.
– На парниках от зари до зари. Затепло надо застеклить новый корпус. Огромина! Сам
дрова пилит, вар топит, режет стекло... Да вы ж были там.
– Алён, журиться-то незачем: у всех свое узничество.
– Свое-то свое, да оно не равно.
– Мы видим лишь себя.
– Вы – пожалуй, мы – нет.
– Опять на город?
– Бесполезно. Все обуздал, захапал...
Лицо Лёны, притемненное скорбью, неожиданно переменилось: на нем возникло
выражение мечтательности, к которому примешивалась застенчивость и нерешительная
насмешка.
– Вы молились... Пьяные не всегда помнят...
– Еще молиться?
– Зачем молились?
– Душа повела за вами.
– Когда мужчину ведет за женщиной, он выдумает... второе солнце выдумает. Пусть вы
залюбовались мной... Странно: я, маленький человек, вызвала у вас желание молиться. Я
для вас ничего хорошего не сделала.
– Алён, простите, тогда, в сущности, я молился Слегову.
– Отказываетесь?
– Нет, не отказываюсь.
– Через минуту вы скажете: «Нет, не я вставал перед вами на колени».
– Вы же натолкнули меня на вывод: чувства образуются, как реки. Ручьишки, ручейки,
ручьи – река. Мы приехали с Леонидом. Коняткин занимался раздежкой лозы. Полезли на
чердак. Толкуем о туесах, расписных подносах, жокейках из бересты. Кажется, корье,
липовые чурбачки, лыко, пенька, ржаная солома. И понеслось! Впечатления – вихрь!
Павел Тарасыч! Усы завязаны узлами. Сияющие глаза. Подоил коз. Пьем молоко.
Разглядываем озорные палки! А тут – вы!
– Ага, запнулась.
– Волга без Оки прекрасна! С Окой куда прекрасней.
– Пьяное впечатление краше трезвого. Помолятся и отрекутся.
– Алён, я молился... Не подозревал... Наверно, спастись?
– От чего? От кого?
– От самого себя, может. От жизни. От...
– Эх-о!
– Я чуть не застрелился. Чудом не застрелился!
– Мама сказки сказывала. Герой, справедливец, жалельщик – он у мамы ясный сокол.
Обликом вы ясный сокол. Цыгане не унывают до последнего дыхания. Руку поднять на
себя – никогда. Живите по-цыгански.
– А кто сейчас журился?
– Облачко по озеру скользнуло. Времени, Слава, в обрез.
Теперь Лёна побежала. Он стоял на месте. Ее волосы длинно, пушисто порхали. Их
пересыпчивый блеск сливался в золотое полыхание. С детства Вячеславу больше всего
нравились черные волосы, завораживали названия: синь-порох, жуковые, смоляные как
вороново крыло, радужно-темные, антрацитовые. Русые волосы мало привлекали:
блеклые, ну прямо линялые, простоватостью похожи на рогожные кули, на помазки из
мочала. И вот открылась сияющая, жаркая, миражная красота русого цвета. Если бы
солнечные лучи, остывая, превращались в нити, то они, наверно, были бы неотличимы от
волос Лёны.
Полуобернувшись, она почему-то обрадовалась его промедлению: пустилась бежать
быстрей, прокричала, как ему послышалось, с ускользающей поспешностью, что в
институт поедет одна, что оттуда заскочит на квартиру Леонида, если на рынке не встретит
кого-нибудь из односельчан.
Напрасно они прождали возле мотоцикла: Лёна не появилась.
40
Закат был безветренным. Теплынь манила людей наружу.
Устя, которой чего-то н е м о ж е л о с ь , спустилась на крыльцо подъезда, держась за
перила и резче обычного прихрамывая. Она села на скамью под тополем, которую чуть ли
не целиком занимала жена сварщика нагревательных колодцев Федьки Чуваша. Никто не
знал ее имени. Из-за моржовой толщины прозвали Опарой, прозвище превратилось в имя.
– Нынче ты квелая, Устиньюшка, – сказала Опара.
– Неможется, – отозвалась Устя.
– Коленки ломит?
– Не пойму: то ли в теле что, то ль в настроениях?
– Настроения должны быть хорошие.
– У тебя ведь один мужик, а у меня семья.
– Полнота жизни.
– Полнота, да не та.
– Полнота – завсегда ладно. Без детей мало отрады.
– Без детей горе, с ними вдвое.
– Просто ты уходилась. Твой сам на курорты ездит. Тебя бы спосылал.
– Сам как в аду: котлы с кипучим железом, жара, угар, пылюка.
– Говорю – клушка. Так бы всю семью под крыльями держала. Береги ты себя. Не
цыплята они.
«Не втолкуешь Опаре, – обиделась Устя. – Для себя живет. Что же такое деется со
мной? Неуж что с мужиком?»
«И вот топырит крылья над ребятами, над самим, – подумала Опара. – У них небось ни
думки о ней. Никуда не возят, окромя как за ягодой. Ни разу не спосылали подлечиться.
Чего видела? Что будет вспоминать на старости лет? Я без детишек. Зато Федька куда
только не свозил в отпуска. Все магазины обходили в Риге, в Ленинграде, в самой Москве.
Устя, кажись, за Челябу не заезжала. Да что за Челябу?! На левом берегу в Центральном
универмаге не была. Погодь. Славка-то у них где?»
Спросила Опара про Славку.
Подругами они были с Опарой, но не стала Устя откровенничать: что в родной семье -
других к этому нечего приплетать. Привадишь – заместо помощи окажутся суды-пересуды.
Лично она сроду не пробовала встревать в чужую жизнь. Отец с матерью навсегда
оберегли: «Приличие во своем дворе занято, неприличие зенки пялит через соседский
плетень». Ох, Опара, Опара! Да, со Славкой-то, действительно, что деется? К Тамаре
съездил, а и словно не был. Рта не отворил. Может, у Леонида ему не совсем?.. Леониду
все бы выкамаривать. Я, говорит, что-нибудь такое отчепужу, правнуки будут за животики
хвататься.
В подъезде начали раздаваться громкие соскальзывающие хлопки. Наверно, Вася.
Взял моду, баловник: разбежится по лестничной площадке, хвать за перила и спрыгивает
со ступеньки на ступеньку, как на роликовых коньках. Благо, подошвы у сандалий
кожаные.
Да, Вася. Жигнуть бы по мягкому месту ремешком. Словами-то никак не внушить:
головенку ведь расшибет. Ох, неуж с отцом что?!
– Мамка, иди сюда.
Попятился Вася в подъезд, поманивая мать хватающим движением пальцев, будто






