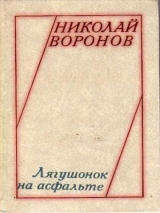
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Воронов Н.П.
Лягушонок на асфальте
ГОЛУБИНАЯ ОХОТА
Повесть
Петька Крючин был счастливчиком! Во-первых, он держал голубей. Во-
вторых, жил на конном дворе, в доме, крытом пластинами шифера. В-третьих, у
него был отец, да вдобавок к отцу – старший брат, тоже заступник и взрослый
человек. Я не завидовал Петьке. Хотя с той мальчишечьей поры прошло много
лет, я точно помню, что не завидовал. Просто становилось обидно, когда он
гонял голубей, а калитка и ворота были заперты, и ты, отираясь возле них,
страдал, как от большого горя, а над твоей маетой издевался какой-нибудь
Федька Печерников, у которого уже растут усы, и так допекал, что ты кидался на
Федьку драться, но не мог его одолеть. Вот тогда и становилось обидно, что у
Петьки столько всего: и голуби, и лошади, и отец, и старший брат, а ты -
безотцовщина, и что мать и бабушка не разрешают заводить голубей, уповая на
то, что барак против этого и что совсем плохо буду учиться.
Я назвал Петьку счастливчиком не потому, что раньше считал его
счастливчиком: я назвал его так теперь. Тогда я жил с постоянным чувством
счастья, поэтому только изредка обнаруживал различие между Петькиным и
собственным положением, но и оно тотчас забывалось: вспоминал о матери. Для
меня никто и ничто ни в чем не могло быть равнозначно ей. Если бы мне отдали
все голубятни и конные дворы города, а для защиты приставили борцов
Госцирка, лишь бы я согласился жить порознь с матерью, то я, сколько бы ни
уговаривали, не пошел бы на это.
Вероятно, еще потому мои обиды были короткими, что Петька обычно
пускал меня во двор, правда, со строгим предупреждением, чтобы я смирно
стоял в сторонке вместе с другими мальчишками, которых он выделял, покуда не
понадоблюсь.
Поднимался Петька на зорьке. Покамест въезжают во двор, сидя перед
своими грохочущими бочками, те золотари, что работали ночью, да выезжают со
двора те, которым днем орудовать черпаками, он проснется, а потом уж и не
улежит в постели: чуть свет заядлые голубятники обганивают молодых и новых
голубей, тут самый раз и ловить чужаков. И мы, конечно, поднимаемся рано. Он
привечает нас, но мы ему и нужны. Если не появишься вслед за солнцем, то он
будет покрикивать на тебя, а когда проспишь часов до восьми, то не станет
замечать. Прогнал бы, куда было бы легче. А то и прогонять не прогоняет и
словно тебя нет во дворе.
Но обычно было иначе. Ты входишь во двор – Петька подметает землю перед
будкой, поглядывая на небо. Он разноглазый, чуточку раскосый, а на редкость
зорок. Время от времени он посылает кого-нибудь из нас: меня, Саню
Колыванова (он, чуть пригибаясь за нашими спинами, курит, выпуская дым под
рубашку). Петька ненавидит куряк: Колесника, по прозвищу Генка Надень
Малахай, сивого Тюлю (он полуспит, и его синеватые веки закрываются, будто
вечером у курицы) посылает сбегать то к голубятне татаренка Мирхайдара, то к
голубятне Жоржика Мингани, отец которого был на строительстве
металлургического комбината в группе техспецов, приехавших из Италии, было
остался в городе, женившись на Кате Иванцовой, но, как повторяла она, в самый
раз спохватился и улизнул.
Прибежав обратно, мы сообщали Петьке о том, что происходит возле их
будок. Если нам удавалось подслушать, что либо тот, либо другой собирается
шугать нового голубя или пискунов из свежего выводка, мы стремглав мчались
на конный двор. Петька давал нам турманов, лебедей, рябых, краснохвостых,
желтых, бусых, и мы подтаскивали их, то есть, выдернув подол рубахи из-под
ремня, выпускали их под стаю Мирхайдара и Жоржика. Когда голуби уводили с
собой чужака и он вместе с ними кружил над конным двором, тут хмуроватый,
медлительный Петька становился проворным. Он швырял из будки нелётных
голубей, засидевшихся – выводили птенцов, отяжелели, отвыкли летать, -
обдерганных, связанных в крыльях, даже пискунов, у которых еще не совсем
отросли костыши. Потом он хватал их с земли, подбрасывал, они падали, треща
перьями. Этот треск напоминал распадение молниевых разрядов. Наверно, из-за
этого и казалось, что сам Петька, шуруя, выделяет электрический ток. Голуби,
соскучившиеся за ночь о полете, тянули вверх. Но в конце концов на них
действовало то, что Петька беспрестанно давал осадку, они начинали снижаться
и садились рядом на пол – на подметённую землю. Петька бросал горсти зерна
поближе к порогу, туда устремлялись голуби, чужак, поозиравшись, семенил к
пшенице (и он не прочь полакомиться) и оказывался в будке, куда Петька
загонял его вместе со своими голубями или забивал ладонью, когда он,
вспорхнув с порога, хотел рвануть в высокую синь.
Однажды унесли Петькиных голубей. Тихо унесли. Запора не срывали,
досок не выламывали. Отомкнули пудовый амбарный замок и опять закрыли,
сложив голубей в мешок. Аккуратисты! Никто из голубятников не мог
припомнить таких чисто работающих воров.
От зари до зари он топтался возле будки: лицо вскинуто вверх, кепка
валяется на полу. Ждет, что придут его голуби – умные, натасканные, – везде
выбрасывал их на дальних окраинах, и отовсюду прилетали. Связывай не
связывай, обрывай не обрывай – придут. Пискуны и те наверняка придут. Неделя
миновала, однако голуби не появлялись. Ни старые, ни молодые. А он все
смотрел в небо от рассвета до заката. И тогда мы, кого презрительно дразнили
«Петькиными шестерками», стали ездить и бродить по городу. Повезло лишь
мне: я обнаружил пару краснохвостых и лебедей на Туковом поселке у
голубятника по кличке Банан За Ухом (в действительности у него за ухом было
родимое пятно, крупное и продолговатое). Ни слова не говоря, я достал из гнезд
краснохвостых и лебедей и сунул за пазуху. Выйдя из балагана, я схватил
стальной прут, и, покамест с оглядкой шагал до трамвая, мне пришлось
отмахиваться от самого Банана За Ухом и от его приспешников.
Петька плакал, говорил, что разрешает мне в его отсутствие брать ключ от
будки и выпускать голубей, а назавтра, когда мы осадили сахарно-белого чужака
и попробовали схватить с пола: на пшеницу не позарился, а как только теснили к
открытой двери, взлетел на конек будки, – но не сумели, то Петька обвинил в
этом меня и толкнул плечом, чего раньше не позволял. Я ушел. Даже у барака
слышался его несправедливый ор.
Вечером я выцыганил у матери червонец. Пришлось пообещать, что в новом
учебном году добьюсь хорошей успеваемости и дисциплины, что не буду
камнями спугивать голубей с барачной крыши и переплывать пруд том месте,
где ширина около двух километров.
Поутру бабушка забрала меня и Саню Колыванова на могилки, где покоился
ее сын Александр Иванович, доводившийся мне дядей, а Сане отцом. Мы
переплыли пруд на катере и двинулись в гору. До того как Урал перегородили
плотиной, кладбище находилось недалеко от воды; чтобы не залило, его
перенесли на холм. Куда закопали прах Александра Ивановича, бабушка не
знала, но всегда садилась рядом с бугорком, на котором рос паслен. Тут она
кормила нас и, прежде чем спуститься к Уралу, выкладывала из корзины в ровик
возле могилы крендели, шаньги, яички, конфеты – для нищих, для детей и для
всякой божьей твари. Все это она посыпала серебром, вынутым из кармана
фартука, который по-деревенски назывался запоном.
Теперь, едва она начала спускаться к перевозу, мы упросили ее отпустить
нас в станицу Магнитную. Здесь было много голубей, и продавали их дешевле,
чем в городе. На околице стоял пятистенник бородатого взрывника, рвавшего
железную руду на горе Атач. Мы застали дома взрывника, и он продал нам пару
турманов: чубарую голубку, по серому – рыжий крап, и голубя, белого в черных
пятнах, как бы разрисованных коричневыми зигзагами, за свою масть
носившего кличку Страшной, но совсем не страшного, а наоборот – красавца:
розовые лапки в светлых чулочках, вокруг головы – кудрявый воротник, на груди
– темное жабо, и по тому жабо пересыпаются зеленые сполохи.
Я совершил покупку на выгодных условиях: с отдачей голубей после
первого прилета, с выкупом за половинную цену – после второго. Хотя у меня
было впечатление, что взрывник добр, я опасался и обмана, и подвоха: вдруг да
спрячет прилетевших голубей, да так турнёт из станицы, что ноги впереди тебя
будут бежать.
Когда голубятник не надеется, что голуби быстро приживутся к его дому, то
он обрывает их: выдергивает из крыльев маховые перья. Кто обрывает на одно
крыло, кто – на оба крыла. Расчет прост: пока перья вырастут – голуби
привыкнут к новому дому. Я собрался обдергивать Страшного на одно крыло, но
раздумал: вырастая, маховые перья становятся короче, и Страшной станет
косокрылить – другое крыло у него будет длинней. Я решил держать голубей в
связках. Связки портят крылья, и голуби маятся в них. Да что поделаешь? Саня
развернул крыло Страшного. Нитку, сложенную вчетверо, я завязал на крайнем
маховом пере и поочередно притянул к нему остальные маховые перья. Связали
мы и Чубарую. Перед тем как выпустить голубей на пол, Саня и я сбегали на
базар за коноплей, пожарив ее на сковороде, высыпали на фанерное сиденье,
вышибленное из венского стула. В жестяную банку с водой подмешали меду. Из
разговоров голубятников я знал: чтобы приучить умных голубей, их надо
кормить жареной коноплей, а поить подслащенной водичкой. Страшной и
Чубарая наперегонки клевали коноплю и воду пили охотно и жадно и все-таки
после этого расстроили нас: тянули вверх головы, выбирая, куда бы взлететь, а
также упорно сдвигали клювами связки, намереваясь освободиться от них.
Пришел Петька, весело ухмылялся. Потом его лицо стало жалостливым.
Мучительно вертелись турманы, каждый топыря свое стянутое крыло. Однако
едва я спросил его: «Петь, как будем жить?» – он ответил настолько жестко, что
не оставил никакой надежды на упрашивания: «Жить будем без отдачи».
– Хорошо! – с вызовом сказал я.
– Краснохвостая снесла яйцо, – вдруг сказал он, вероятно решив идти на
попятную. – Договор утвердим такой: на молодняков с отдачей, на старичков -
без отдачи.
– Нет.
– Почему?
– Обойдемся без пункта. Без отдачи так без отдачи.
– Не дам я тебе развести голубей, Колька, раз ты такой гордый.
– Смотри, как бы я не переловил твою дичь.
– До моей дичи у тебя нос не дорос.
– Еще как дорос! Хвальбушка...
– Мои откуда хочешь прилетят, хоть из Троицка, хоть из Челябы.
– Ни один не прилетел. Ежели б не я, сидел бы с пустой голубятней.
– У тебя ноги повыдергивать, ты придешь?
– Банан За Ухом и не обдергивал их. И в связках они не были.
– Он их держал в гнездах, в темноте. Понял?
– Да не знаешь ты... Ты струсил к нему сходить. Может, у него там остальная
твоя дичь. «Держал в гнездах...»
– Мы это запомним, Кольта. Буду ловить и головы рвать. Ни тебе. Ни себе.
– Голуби не виноваты. Ты мне рви башку, ежели я виноват, а их не трогай.
– Пашке скажу – он тебя через колено переломит.
– А я на Пашку поджиг сделаю.
– Конопельки нажарил...
– Иди, покуда есть на чем ходить.
Внезапно мне сделалось смешно: уж больно я рассвирепел. Я прыснул, Саня
подхватил мой смех. А Петька почему-то растерялся и юркнул за угол барака.
Скоро на другом конце барака появились Тюля и Генка Надень Малахай.
Балаганы, будки, сараи тянулись вдоль барака; между ними и бараком было
расстояние длиной в телеграфный столб. Почти от завалинки тянулись полоски
грядок чуть шире комнатных окон. Тропкой между огородиками и
хозяйственными строениями повел Генка к своему шпальному сараю сивого
Тюлю. Я не углядел, что руки у них за спиной, потому что приготовился, чтобы
схватить в воздухе Страшного: метил взлететь на стальную трубу, вогнанную в
землю вместо кола.
Когда я услышал хлопанье крыльев и обернулся, то увидел Лебедя с
Лебедкой, летевших прямо на меня. Если бы я сам таким дерзким образом не
подкидывал голубей, то пригнулся бы невольно от испуга, что голуби врежутся
в меня. Но теперь я лишь восхитился: ловко, черти, подкинули.
Лебеди промчались над моей головой. И как только утянулся за ними
ветерок, я услышал взлет Страшного. Саня прыгнул, чтобы поймать его на
трубе, но промахнулся, и Страшной пестрым взрывом перекинулся на будку.
Сидя на ней, Страшной снимет полусдвинутые связки и улетит. Этого я не мог
допустить. Я полез на крышу и порвал об гвоздь брюки. Страшной, когда я,
вытянув руки, двинулся к нему, не захотел спуститься вниз, несмотря на то, что
там сидела, охорашиваясь, Чубарая, а невероятными усилиями, казалось,
кувыркаясь, дотянул до крыши барака. Я давал матери слово, что не буду лазить
на барак, и сел на порог будки, хотя мысленно уже ступал по гребню крыши.
Саня хотел выручить меня, но я приказал ему вернуться. Он плохо
поддерживает равновесие, будет оступаться со швов между листами железа на
сами листы. Крыша загрохочет. Повыскакивают на улицу женщины, начнут его
честить, а то и выбежит отец Тоньки Трехгубого, и ему взбрендится кидать по
Сане камнями... Скандал. И прощай, голуби.
Страшной стал чиститься. Он расправил клювом перья на груди, выбирал и
вытеребливал пылинки-соринки. О связках он забыл, чем и обнадежил меня в
том, что слетит на землю к голубке. Но это было поспешное наблюдение. Потом
я заметил, что, обираясь, он осматривал местность. Он видел крыши бараков,
стоявших в одной линии с нашим, и тех, что находились ниже его на подошве
горы. Поверх нижних бараков был обзор на три стороны света. Правда, на юг,
туда, где за прудом лежала, как бы скатываясь в лог, станица Магнитная, даль
была заперта Третьей Сосновой горой и горой-полуостровом. Зато западней
горы-полуострова, за прудом, она кончалась в дымке, сквозь которую чеканился
Уральский хребет черными, синими, лиловыми, голубыми отрогами. Северный
угол небосклона, загруженный трубами мартенов, кубастым зданием
воздуходувки, домнами, угольными башнями, галереями коксохима, терялся в
бурой заводской гари.
Приглядываясь к местности, Страшной, конечно, нашел знакомые
ориентиры, потому и побежал рысью на гребень крыши, а там весело принялся
за сдирку связок, и, едва освободил крыло, тотчас взлетел, и напрямик ударился
по направлению к Третьей Сосновой горе, и скоро перескользнул через ее
макушку.
Пока мы следили за Страшным, то не обращали внимания на Чубарую. И
когда, поникло вздохнув, я хотел ее загнать в будку, она вспорхнула на дверь, а
оттуда на саму будку. Связки уже были на конце ее маховых перьев, и лишь
только она потянула в сторону учительского барака, они спали. В отличие от
Страшного, Чубарая с полчаса петляла над нашим участком – на языке
голубятников шалалась – и улетела на Магнитную.
Саша и я понуро брели к переправе. И хотя всегда мы с удовольствием
ступали по дороге, пуховой от пыли, теперь нас не обрадовала ее мягкота. И с
парома ни разу не спрыгнули за время его полутораверстового пути. А обычно -
бултых с кормы. Вынырнешь – паром уж, по первому впечатлению, далековато.
Припустишься за ним. Догонишь. Запыхался, а норовишь показать и
выносливость, и храбрость. Заплывешь в прорез между баржами. Темно:
корпуса смоленые, вода чернолаковая, лишь кое-где в настиле. который
заставлен грузовиками, бричками, таратайками, ручными тележка-ми башкирок-
ягод ниц, светятся щели. Испытывая робость, все-таки преодолеешь этот мрак,
нырнешь и появишься впереди парома. Затем выскочишь из воды, будто бы
хочешь ухватиться за стальной канат; за него катер тянет паром. Заохают
женщины: дескать, руку озорник распорет – из каната торчат жилы, под
паромное дно угодит. Заругается мужчина. Ты сверкнешь ягодицами. Через
минуту кто-нибудь из ребят, держась за якорь, выдернет тебя на корму.
Неужели это опять когда-нибудь будет?
Обманутыми, беззащитными, бесприютными мы чувствовали себя, всходя
на холм. На косогорах, любопытствуя, что за мальчишки объявились, встают на
задние лапы суслики. Мы почти не замечаем их, и они ласково посвистывают,
привлекая наше внимание. Они, как маленькие дети, доверчивы и не
соображают, что бывает не до них. И вдруг во мне поднимается такая жалость к
сусликам. Мы им интересны. А мы, случается, выгоняем их из нор и убиваем,
чтобы обменять шкурки на крючки – заглотыши, на акварельные «пуговки»,
прилепленные к картонкам, на губные гармошки.
– Постоим возле папки? – спрашивает Саша.
Я не отвечаю, чтобы не пустословить. В ровике возле могилы уже нет ни
серебра, ни снеди. Под ветром клонит паслен; звездчатки его белых, розовых по
краю цветов весело глазеют в небо, где кружат канюки. Дядя Шура любил
голубей. В детстве у него была их огромная стая. Если бы он не умер, то мы
попросили бы его пойти с нами в Магнитную, и тогда наверняка взрывник
возвратил бы Страшного и Чубарую.
Взрывник был дома. Он сидел с гостями в палисаднике. Когда мы
остановились за акациями, он рассказывал, как начальник рудника целый день
водил Ворошилова по горе Атач, показывая месторождения железняка.
– В те поры было много настоящего магнитного железняка: он еще не успел
размагнититься от взрывов. Жалко. Эдакую фантазию порушили. И я
участвовал... Кабы знал, не стал бы. А то не знал... Водил, водил, значится,
начальник, показывал, показывал, а тот к вечеру внезапно и говорит: мол, как
все же, есть руда в Магнитной или нет? Разработки на Атаче едва начинались.
Он хоть и вождь, а сквозь землю не видел. Начальник рудника с год как
сообразил, что имеются люди, из руководства, из инженеров, какие вводят в
сумление верха: железа-де в Магнитной мало, угрохает государство большие
мильоны на строительство завода, а варить чугун и сталь будет не из чего.
Смекнул он и то – Ворошилову поручено развязать это сумление. Комиссий
наезжало видимо-невидимо. Чтоб убедить их в богачестве горы, начальник
приказал выбить штольню сажен на двести и водил туда комиссию. Повел и
Ворошилова. Как завел, да как включил там электричество, да как засверкала
руда, так Ворошилов и взвеселел. Бают: успокоил он верха. Молва, похоже,
верная. Припоминается, дело на строительстве ходче пошло – поехало!
Взрывник огладил бороду, заметив нас за акациями. Мне даже почудилось,
что в его глазах блеснула радость.
– Погодите маненько, – сказал он гостям, – пришли мои товарищи по
голубиной охоте. Вы пейте, закусывайте, а я отлучусь. Задержусь, так не
поимейте обиды. Товарищи ведь!
Я опасался, как бы он не рассердился, что мы торчим за штакетником.
Возьмет и под этим видом велит проваливать. С осторожностью я отнесся к
тому, что он назвал нас ласково, неожиданно, без покровительственности -
товарищи по голубиной охоте. Некоторые взрослые из рабочих стеснялись, что
занимаются голубями, и подтрунивали над собой, а то и грубовато
выкручивались, оправдывая свою слабость тем, что не уважают ни рыбалки, ни
водки, ни карт. Взрывник, прося гостей не посетовать на его отсутствие, не
выразил пренебрежения к нашему голубятничанию. Вероятно, считал, что в
этом нет для нас ничего зазорного. И это меня насторожило
– Братовья, – сказал взрывник, обогнув палисадник, – что ж вы? А Терпения
не хватило? Обганивать вздумали? Чубарую связали, Страшного нет? Страшной
от голубки завсегда удует. У него имеется понятие о доме. У человека понятие о
родине, у голубя – о доме. Я души не чаял в жене и детишках. Временное
правительство как смахнули, я у-лю-лю с германское фронта. Посколь я был за
народ и у меня было понятие о родине, вот о Магнитной, о степи и холмах
вокруг нее, я поворотил и в Питер... Ну, выкладывайте, что у вас подеялось?
Мы рассказали. Он посоветовал связывать голубей на два крыла, ввел нас во
двор и велел лезть на чердак. Мы робко прошли по гранитным плитам,
накаленным солнцем. За углом Саша мне шепнул:
– Вдруг да лестницу уберет? – и подкрепил свой страх бабушкиной
мудростью: – Мягко стелет – жёстко спать.
– Дура! – осадил его я и прикинул, что с чердака можно уцепиться одной
рукой за край крыши, затем ухватиться другой, выбраться на скат оттуда
спрыгнуть на каменный забор, чуть пробежать по нему и сигануть в полынь.
На турнике, подтягиваясь, я легко выжимался до пояса. Саша этого не умел.
И я отменил свой ловкий побег и мараковал, как бы нам в случае чего удрать
вместе.
Я приказал Саше остаться у лестницы, сам поднялся на чердак. Разыскивая
в сумраке гнездо Страшного и Чубарой, прислушивался, не происходит ли чего
внизу. На чердаке было полно голубей. Они ворковали, пищали, укали, а те,
которых спугивал, перелетывали, звеня крыльями, при посадке хлестали ими по
балкам. Я думал, что из-за этого шума мне кажется, будто во дворе все тихо. И
действительно, там ничего ожидаемого не случилось. Саша, когда я выглянул из
чердачного лаза, стоял на прежнем месте: взрывник баловался с цепной собакой,
похожей на медведя.
Он проводил нас до околицы и уж вдогон наказал до тех пор держать
голубей в связках, покамест они не начнут высиживать птенцов.
Паром отчалил от пристани, едва мы стали спускаться к переправе. Хотя мы
ждали его долго и появились домой в темноте, мы чувствовали себя
счастливыми. Бабушка подняла ругань, грозясь оставить нас голодными, но
Саша сцепился с нею наперекрик (ему она прощала все); и она угомонилась и
дала нам по тарелке горошницы, и полезла под кровать, чтобы выпить рюмочку
за хорошего человека со старой Магнитки. По разумению моей матери, гораздо
удобней было держать водку в шкафу, притом в отделении на уровне души:
протяни руку – налей, и через мгновение выпьешь. Однако бабушка хранила
бутылку с водкой под кроватью, подле стены. Достав из шкафа прямую
граненую рюмку и поддев ложкой сливочного масла, она полезла под кровать.
Опиралась бабушка не на ладони, а на локти: в правой руке рюмка, в левой -
ложка с маслом, – поэтому вздымала кровать со всем ее чугунным весом, с
толстой периной, стеганым одеялом и с тремя сугробами подушек. Бульканье
наливаемой в рюмку водки обычно слышалось из-под кровати, а вот как
бабушка выпивала эту водку, не было слышно! И выпивала она ее насухо, если
не считать единственной капли, которая выпадала на язык бабушки, когда она,
выпятившись из-под кровати и стоя на коленях, переворачивала рюмку над ртом,
прежде чем поцеловать в лучистое донце. В студенческие годы полушутя-
полусерьезно я пытался понять, как она умудрялась пить под кроватью, но
всякий раз захлебывался водкой, а рюмку опоражнивал всего лишь наполовину.
Саша и я так проголодались, что, кроме горошницы, которую мы
наперегонки уплетали, для нас ничего на свете не существовало, и все-таки мы
покосились под кровать, откуда бабушка напомнила, что пьет за хорошего
человека из Магнитной. Она чокнула рюмкой в поллитровку и поползла
обратно, благодаря бога за то, что он дал талант тому, кто придумал
электричество, и тому, кто придумал водку.
...Хотя Страшной и Чубарая один раз от меня улетели, я, однако, не потерял
веры в чудодейственность жареной конопли. Утром я насыпал в карман конопли
и навел в блюдце сахарной водички. Бабушка ушла в магазин. Я воспользовался
ее отсутствием и подлил в блюдце водки. Голубятники утверждали, чтобы умная
дичь забыла прежний дом, ее надо напоить пьяной.
Как и вчера, связки Страшному и Чубарой не понравились. Они
кособочились, топырили крылья, пытались ссовывать нитки маленькими
розовыми носами. Мы мешали их раздраженным и откровенным попыткам
освободиться от связок.
Перед приходом Петьки Крючина голуби немного смирились со своей
неволей, да и есть захотели, и дружно набросились на коноплю. Петька пришел
смирный. Сколько ни подсматривал за взглядом его раскосых глаз, в них подвоха
я не улавливал. Чтобы подчеркнуть, что я оттаял после нашей вчерашней ссоры,
а также в знак «цеховой» доверительности, я сказал ему, что вода в блюдце
разбавлена водкой и подслащена. Он одобрил это. И я испытал довольство
собой. Ведь поддерживал меня не какой-нибудь задрипанный голубятник, а
серьезный, неисправимый, знаменитый Петька Крючин, который к тому же до
позавчера был моим благосклонным покровителем. Зная, что Петька тут, не
утерпели и пришли с конного двора Генка Надень Малахай (опять он был без
фуражки) и сивый Тюля. Они двигались к моей будке сторожко, словно
подбирались, неуверенные в том, что я их не турну. Саша махнул им рукой:
– Да вы не трусьте, лунатики.
Они быстро подошли, стояли позади Петьки, еще не совсем надеясь, что им
не перепадет за вчерашнюю подброску лебедей.
Страшной наклевался раньше Чубарой. Ему стало скучно, и он принялся
ворковать, отвлекая ее от конопли, и едва она взглядывала на него, как он
распускал хвост и, прижав кончики перьев к полу, делал к ней рывок.
Поклонившись Страшному, Чубарая опять хватала с торопливым постуком
зеленоватое, эмалевое на вид зерно, и снова он, надувая зоб и потрясывая
загривком, выговаривал свое гулкое: «Ув-ва-ва-вва» – и то и дело как бы посыпал
эти звуки, напоминающие дыхание ретивого паровоза, урчащими рокотами.
Генка Надень Малахай восхитился:
– А ворковистый, черт!
Не оглядываясь, Петька отодвинул его локтем. Главным ценителем судьей
здесь был он, и то, что Генка Надень Малахай вылепил свое мнение об одной из
статей Страшного, возмутило его. Да и я воспринял восхищение Генки Надень
Малахай как нарушение приличия, принятого среди голубятников. Я повернул
на него глаза. Он мелко заколебался из стороны в сторону. Ему хотелось
испариться, и оттого, что никак никуда не мог деваться, он угнулся и запеленал
руки в подол рубахи.
Петька выждал, покуда кощунство, совершенное Генкой Надень Малахай и
как бы оставшееся в воздухе, рассеется, и уже тогда сказал, но таким тоном,
словно совсем не было замечания о ворковистости Страшного:
– Красиво бушует! Настоящая мужская порода!
Раз бушует у тебя на дворе – значит, начинает признавать твой двор. Вполне
вероятно – удастся удержать.
Явно у Страшного пересохло в горле. Он подбежал к блюдцу и напился
глубокими пульсирующими глотками. После этого собственное мозговое
состояние показалось ему каким-то необычным – насторожило горячение в зобу,
– и он потряс головой и помахал кургузыми из-за связок крыльями. Обычное
самоощущение не возвратилось к нему, но он не потерял бодрости,
размашистыми шажками вернулся к голубке и долбанул ее в темя. Саша
захохотал, потом воскликнул:
– Ну, мужик! Права качает. А то он к ней на хвосте, а она равнодушная.
Петька попробовал осечь Сашу:
– Ты, прикрой...
– Что?
– Хлебало.
– Ты не на конном дворе. Ты там командуй... У меня маленький рот, а вот у
тебя в действительности хлебальник: поварёшка пройдет.
– Замолчи, Сашок, – сказал я.
Чубарая, отскочившая от Страшного, таращилась, куда бы взлететь.
Страшной, видно, сообразил, что допустил оплошность, и заукал. Однако его
призывное жалобное постанывание не произвело на нее впечатления. Он
заворковал и, повышая гул своего голоса, вращался, понемногу подступая к
Чубарой. Она заворковала с негромкой, неумелой картавинкой, свойственной
голубкам, и сердито клюнула по направлению к нему, но не достала. Страшной
принял ее мстительный клевок за поклон и пошел колесить вокруг нее, мел
хвостом землю, взгогатывал.
– Вот бушует! – и в другой раз не удержался Генка Надень Малахай. – Ни у
кого не встречал!
– Мой Лебедь, что, – грозно спросил его Петька, – хуже бушует?
– Нет, Петя. Они одинаково.
Сожаление появилось на лице Петьки.
– Что значит не голубятник, – проговорил он, обращаясь ко мне. – У каждого
голубя свой голос. – И уже к Генке Надень Малахай: – Надо различать...
– Он тугой на ухо, – подсказал Саша.
Чубарая все еще тянула вверх голову. Страшной перестал ворковать.
Задумался. Какой-то непорядок был в нем самом, а также в норове голубки. Над
этим он и задумался. Навряд ли он додумался до того, что с ним стряслось, а
может, расхотел додумываться: дескать, зачем нам, голубям, вдаваться во всякие
там сложные перемены в организме? И было направился к Чубарой, чтобы
выяснить ее каприз, но его качнуло, и он чуть не свалился набок, да вовремя
успел подпереться крылом.
Саша рьяно ждал потехи. Он залился хохотом и никак не мог сдержаться.
Легкие у Саши были малообъемные, в них не хватало воздуха на длинные
выдохи, поэтому он все ниже сгибался, удушливо кашляя и взвизгивая. И меня,
и Тюлю, и Генку Надень Малахай тоже разбирал смех, но крепились:
останавливала строгая прихмурь в Петькином лице. Вскоре, когда Страшной,
напряженно поддерживая равновесие, подошел к Чубарой и попытался
поцеловать ее, а она увильнула и отбежала к огуречной грядке, он,
остановившись на месте, стал браниться на нее, тут и мы не выдержали и
захохотали, потому что в том, как он ругал Чубарую, было почти все
человеческое: и поза, и повадки, и упрек, и обещание взбучки.
Чубарая пригорюнилась возле грядки. Конечно, Страшной решил, ему кое-
что удалось ей втолковать и что уж сейчас-то она не должна пренебречь его
ухаживанием, и готовно подбежал к ней, а Чубарая хлестанула его крылом и
через огуречную грядку улизнула в картофельную ботву. Он искал ее среди
ботвы, то обидчиво укая, то сердито бормоча. Затем вдруг прытко выскочил
оттуда и прибежал к блюдцу. Я уже пожалел, что раз вил водкой воду, и хотел
отогнать его от блюдца, но он даже не отпрянул него. И когда я загородил воду
руками, он начал клевать мои ладони, и их пробивал, и так в них впивался, что
выступала кровь. Я отнес Страшного в будку. Он и в будке продолжал буянить -
долбил в березовую поленницу и врезывал по ней крыльями.
Я испытывал и растерянность, и огорчение. Я никак не предполагал такой
бедовой реакции Страшного на водочную разбавку и такой дикой
непокладистости, проявившейся в Чубарой. Петька понял это, однако не ушел.
И я увидел, что он мне сочувствует и, пожалуй, чем-то собирается помочь. Он
сказал, что нам нужно потолковать. Я догадался: у него нет желания говорить
при Саше, Надень Малахае и Тюле. Эти, мол, пацаны так себе для голубиной
охоты. В «шестерки», еще куда ни шло, они годятся, а серьезный разговор при
них вести бесполезно: он им ни к чему.
Я попросил ребят взглянуть, не собирается ли пугать голубей Мирхайдар.
Они отошли, и Петька сразу заговорил. Вода с водкой? Вода с водкой? Нельзя
давать Страшному. Позабыть, наверное, позабудет старый дом, но может и
шалавым сделаться. А голубь он умный, красавец, бушуй и, похоже,
приживется. А Чубарая не приживется. Она из тех голубей, какие не изменяют
своему первому дому. Здесь Страшному ее не потоптать. И если она даже
снесется, то голубят не станет высиживать.
Чем раньше она улетит, тем лучше. Он бы советовал сейчас же ее развязать
и выпустить. Вчера вечером он поймал молоденькую голубочку. Носик -
зернышко, веслокрылая, как и Страшной, в чулочках, вся черная, а грудь и плечи
в белой косынке, и хвост белый. Мастью, как говорится, Цыганка. Он готов
подарить мне Цыганку. Держать Чубарую – пустые хлопоты. Ее надо выкинуть,






