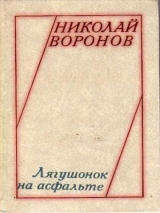
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
– Теперь уж ни в коей мере засветло не вернетесь.
– Ну, народ, спасибо за словоохотливость. Уронили мне в ум по зернышку-другому.
Авось и колос дадут.
– Целое поле, дед.
– Кольк, не подкусывай. Все одно одобряю Вячеслава. Лёна – женщина чистая.
Вообще не припомню, чтобы в Слегове были ветреные да шалые женщины. Народ
верный. Верность я поверх любви держу. Грешен. Люблю свою, а на чужих зарился.
Хвастануть опять же не прочь, навроде Кольки.
– Ей-богу, я не ревную, дед. Насчет хвастануть – открещиваться погожу.
19
Вырулили на улицу.
Коняткины вышли за ворота. Недавний нежный закат разгорелся. Он пылал позади
Коняткиных. Желтый с черным, будто за горизонтом жгли смолу. Их фигуры были темны,
как атачит-камень, лишь слабое мерцание выявляло завязанные узлом стариковские усы и
влажный глянец Колькиных зрачков.
С детства Вячеслав трудно прощался с теми, кто был ему по душе, и всегда жалел
остающихся: казалось, будто бы они горше переживают. В неподвижности провожающих
людей, если у них даже веселое настроение, обычно есть безотрадная сиротливость,
потому и мнится отъезжающим, что им лучше, что они счастливее. Неизменно таким же
образом во время проводов чувствовал себя Вячеслав. Впервые в Слегове он испытал
другое чувство. Когда увидел замерших перед воротами Коняткиных, не сиротливыми их
воспринял, не теми, кто в своем воображении уезжает с тобой. В их неподвижности было
то же состояние, что и в серебристо-сизых воротах, в купах ракит над пряслами, в
макушках гор за озером, в закатной полыми, взвившейся высоко в небо: они оставались и
никуда не хотели. И Вячеслава вдруг прошибло тоской, что он уезжает, что подолгу будет
вынужден жить без Коняткиных и без всего этого мира перед его взором, западающего в
теплую ночь осени.
По деревне гнать было нельзя: охваченная теменью, она еще не осветилась
электричеством, и короткий луч фары то и дело размывался на овцах и хозяйке,
подгоняющей их прутиком, на стае домашних гусей, с пришлепом семенящих за сердитым
гусаком, на шнырливых репьястых псах, прибегающих сюда из башкирских аулов для
ночной поживы.
Уличная дорога лежала ниже проселка, и, едва мотоцикл въехал на его гудрон,
Вячеслав услышал донесшиеся откуда-то от реки гулевые голоса. Свадьба пела пьяно,
азартно, слитно, и эту слитность даже не разрушало отдельное жадно-высокое голошение,
которое как бы выплескивалось из бурлящего котла звуков острыми, туго-натуго
натягивающими струйками. Обрадованный слух Вячеслава попытался отыскать в этом
песенном кипении голос Лёны, но тут же опечалился, оглушенный взрывной бубнежкой
мотоцикла, делавшего разворот.
Деревней ехали еще с полкилометра.
За околицей мгновенно набрали такую скорость, что к щекам начала прижигаться
волглая остуда. В другой раз Вячеслав бы по-ухарски отнесся к убыстрению движения,
рискованного для поры, когда смеркается, но глаза не успели привыкнуть к ночи, а тьма
покуда не очистилась от вечерней дымки, и, может, покрикивал бы: «Лёня, наддай!» – а тут
его возмутила бесшабашность гонки, и он, заслоняя губы от секучего ветра, заорал:
– В ад, что ль, шуруешь?
Леонид удивился. Ладонь машинально убавила скорость. Попробовал шутейностью
унять остервенение шуряка. Проговорил на башкирский манер:
– Зашем преисподня? Мы пряма рай. Кумыс пить, бешбармак ашать, музыка курай
слушать. Ах, хороша райский жызн!
– Прекрати дурачиться.
– Ох, Славка, нынче ты ерепепькин сын.
– Останови.
– Тормоз не подчиняется.
– Выпрыгну.
– Ошалел.
– Смягчаешь: ошалавел.
Мотоцикл встал. Вячеслав выскочил из люльки. Отвязывая притороченный к рюкзаку
спальный мешок, поглядывал на понурого Леонида и каялся, что взбрендилось ему
вылазить, но опять водворяться в люльку было невмоготу.
– Шуряк, армия шалопаев вразумляет...
– ...а я превратился в повесу и сачка.
– Дебатировать некогда. Поехали. С утра на смену.
– Мне подадут персональный самосвал.
– Только и осталось.
Перед тем как отъехать, Леонид, гневаясь, буркнул:
– В семь ноль-ноль на околице.
20
Он не посмел бы возвратиться к Коняткиным, если б даже они оставляли его у себя.
Колька, хоть вроде и не дулся, все-таки почужел и словно окружился огорчением. Сейчас к
нему не то чтобы не подступиться, напротив, будет вежлив до пуховой вкрадчивости, зато
ощутишь себя настолько гадким – уж лучше бы двинул тебя в скулу. Вызвать Лёну со
свадьбы? Воспримет его появление как бесстыдный нахрап. Встреть он ее ненароком, и то
ощутил бы сам себя беспробудно невыносимым. Какое же тогда впечатление сложится о
нем у Лёны?
Он собрался лечь, отойдя подальше от дороги. Волокнистость тумана, занесенного
сюда кратким ветром-зоревиком, пронимало сухое тепло земли. Вчерашней ночью, в
горах, он поразился сухому теплу земли, да и сухому теплу черного воздуха. Усталый,
брякнулся на склоне, не подстелив спальника, не надев шинели поверх вельветового,
школьных времен, костюма. Так и уснул. Беспокоился во сне, что предутрие заставит
забираться в спальник, ан ошибся: совсем не замерз, даже мурашки легкого озноба не
осыпали впадину между лопатками. И эта ночь обещала быть сухой, теплой. Для степи,
пожалуй, не удивительно, а вот для гор, где прорва родниковых ручьев, где каменистая
почва и леса, притом с дремучими ельниками, – чудо!
В степи Вячеслав не лег. Постоял над мятликом, который, судя по узору, осыпал свои
зернышки, подался боком-боком на оранжеватый, рябящий лоск озера. Повеселел от
самооткрытия: и всегда-то тянет его к воде, где она есть, да что тянет – тащит, прет, как
утенка.
Закатный угол озера находился отсюда километрах в трех. Само озеро было заслонено
деревней. Как раз на самом острие угла впадала в озеро река Язевка. Что там течет река,
легко было угадать по вихрастой стене ивняков. По ту сторону озера и реки, за поймой,
вздулась гряда холмов, по-над которой, уходя вдаль, зубчатились горы. По эту сторону
вдоль реки тянулся увал. За ним, как за естественной преградой, необходимой для защиты
от разлива, в армейский Вячеславов срок построили котельню величиной чуть ли не с
электростанцию, а близко к ней стеклянные, сказочной приятности парники. Котельню и
парники Вячеслав обнаружил с перевала, когда ехали в горы. Теперь он видел лишь трубу
котельни да витки дыма над ее жерлом.
Неожиданное соображение, чему он озадаченно изумился, повело Вячеслава на эту
трубу, но, едва дошагал до подошвы увала, начал отбиваться к впадению Язевки в озеро, а
потом вдоль куги, рогозников, тростника добрел до поляны, откуда перед вечером Паша
Белый шел с козьей дойки, неся горшок, полный сливочно-кремового молока. Неподалеку
от поляны проступали над отмелью тлеющие сизые мостки, сколоченные из досок и
жердей. Подле мостков синела плоскодонка. Вячеслав сел в лодку на корму, чтобы дома
Коняткиных оказались перед ним. Они были перед ним, но не рядом, как ему хотелось, и
не открыто стоящие, а заслоняемые: дом Колькиного отца, Ивана Павловича, с лампочкой
над чердачным лазом, чуть виднелся в зазоры меж стволами ракит с обпиленно-
культяпыми толстыми ветками, а дом его деда полузаслоняли плетни, но и сквозь их
плотную тальниковую вязь электричество доносило витражную яркость оконных звеньев,
в которые были вставлены разноцветные стекла.
Надежно стало, отрадно от присутствия коняткинских домов, будто он, подобно
Кольке, рос в них и словно бы по его желанию Паша Белый набрал звенья окон из стекла,
которому летние радуги передали умытую мерцающую пестроту.
Под воздействием всего этого он еле сдержался, чтобы не отбросить стеснение и не
пойти к Паше Белому. А сдержавшись, посетовал на свою какую-то ущемленную
нерешительность, однако остался сидеть в плоскодонке.
Странно ему было, дивно! До сегодняшнего предвечерья для него почти не было этой
деревни: проезжал ее улицей в горы, и всё. Не было – и вот он как приворожен. И не
потому, что стих накатил. Нет, для его души это не момент приятной, но легковесной
блажи. Вовсе, пожалуй, не было, и привалил поразительный мир. Влечет к нему, не
перестанет влечь. Так, по крайней мере, сдается. А почему? Кто его знает? Создалась в
сердце какая-то притягательность. Что-то уловил заветное, родное. А, наверно, это заслон
от самого себя, лукавство с самим собой. Всему-то причиной – женщина, рвение к
женщине, страшное, как бред во время тяжелой болезни. Да что бред?! Сумасшествие. Он
согнулся, уткнувшись глазами в ладони. Два отражения в вязкой воде колыхались, скользя
друг к дружке, совмещаясь, коверкаясь от накатывания зыби. В одном отражении
угадывалось стремящееся лицо Тамары. Таким оно было, когда он с братишкой удирал от
нее к лодочной станции. В другом отражении угадывалась Лёна по платью, сшитому из
тонких цветастых платков, – биение, взвихривание оборки над высокой грудью.
Весь он был как бы втянут в глубину собственного воображения, поэтому и не понял,
почему пошатнулся, но, когда плоскодонку качнуло сильней и он машинально
встрепенулся и открыл глаза, понял, что созорничала какая-то девушка: держась за перила
мостков, она давила ногой на борт плоскодонки. То, что он встрепенулся, заставило ее
спрыгнуть с мостков и чуть-чуть отбежать от кромки берега. На фоне света деревни она
смотрелась силуэтно, по сторожкому наклону ее фигурки было ясно, что, стоит ему
пошевельнуться, она упорхнет к домам.
– Коля, не ты? – спросила напряженно. Ее зажатый острасткой грудной голос вдруг
точно бы прорвал трепещущий вздох, готовый продолжиться кратким, отрадным смехом.
– Вы Колю ищете?
– Никого я на ищу. С наших мостков глянула – человек в лодке. Коля, конечно.
– Он что, в темноте к лодке спускается?
– Зачем вам это?
– Для души.
– Раз для души... Зачастую.
– На свидание?
– Одиночествует.
– Так и поверил.
– Спрашивать, а на ответ думать, как вам заблагорассудится. Зачем?
– Простите.
– Пожалуйста. Плохо, если вы себе тут же простите.
– Вот тебе на?!
– Кто строг к себе, тому надежно жить.
– Вы за снисходительность к другим и за строгость к себе?
– К чужим. И смотря по вине.
– Я не чужой.
– Все равно. С вас много не взыщешь.
Лёна неожиданно скользнула в темноту, и Вячеславу почудилось, будто она исчезла,
как исчезают цыганки, умеющие о т в о д и т ь глаза, однако через несколько мгновений
он услышал жамкающий хруст песка и увидел, что она уходит от него по узенькой полоске
меж низким береговым отвесом и пленкой мелководья. Около соседних мостков она взяла
ведро. По-скворчиному свистела дужка. Этот свист отдавался в его цинковой пустоте. С
прихлюпом ведро погрузилось в озеро, щедро расплескалось на доски, потом, темнея
около подола волнующегося платья Лёны, как собака, бегущая рядом, удалилось в
переулок.
Все мы сходны в том, что для нас привлекательны те люди, которые проявляют к нам
симпатию, доброжелательство, уважение, терпимость, поэтому мы досадуем, обижаемся,
гневаемся на тех, кто, как мнится нам, умаляет наши достоинства, а то и мстим за это.
В том, как Лёна разговаривала с ним, Вячеславу представилось казусное недоверие, и
он не был склонен винить ее за это (не она ведь молилась на него). Но так он расценивал
отношение Лёны к себе, пока она не исчезла за плетнем, на углу которого стоял осокорь.
После он ущемился и обвинил Лёну перед самим собой в склонности к предубеждению,
да не к доверчиво-наивному, заранее восторженному, а разочарованно-жесткому,
унижающему.
Он вылез из лодки, подался, распаляя свое недовольство, на дорогу, которая
воспринималась отсюда, словно рубец между небом и землей. Моховые кочки,
оказавшиеся на пути, смягчили его намерение. Он присел на одну из них, а вскоре,
разувшись, распластал по зыбкому настилу спальный мешок, отваливаясь в нем, задернул
«молнию».
Прежде чем смежить веки, он увидел небосклон с четырьмя яркими звездами, с
детства он называл их граблями: три находились в одном ряду – зубья на граблях, а
четвертая, находившаяся на той же линии, что и средняя, но поодаль от нее, на конце, что
ли, невидимого черенка.
«Что я серьезничаю? – подумал Вячеслав. – Я живу! Надо мною звезды! Рядом
Коняткины. А кругом такая красота! Ведь счастье же?! Сколько можно достичь! Сколько
совершить!»
21
Разбудил Вячеслава низовой ветер. Знобкий, он, по впечатлению во сне, припаивался
к его подбородку. Светало. Небо, без звезд, стальное, было бесстрастно чуждым.
Рогозники шурхали. Привальная рябь шепелявила. За камышами посвистывали, сопели,
гоготали казарки. Наверно, спорили: взлетать или еще малость отдохнуть. Там, где казарки
митинговали, поверхность озера клокотала от боя крыльев.
Быстро скатал и увязал спальник. Перевалил увал.
Во всех парниках, кроме одного, не горело электричество, но, когда Вячеслав
приникал белесым лбом к стеклянным стенкам, удавалось разглядеть в сумраке то
помидорные заросли, то огуречные. Над этими овощными чащобами, подвешенные к
трубчатым конструкциям, обозначились загадочные приборы, по виду схожие с
кинокамерами.
В освещенном парнике двери были настежь. Оттуда выкатывался дух земли, каким
бывает он солнечной весной над прогретым перегноем. После чащобных парников этот
парник был свободный, глубокий, а так как в нем по бокам от дороги бугрился сажево-
яркий чернозем, казалось, что стеклянным сооружением накрыли огромный кусок пашни.
Вячеслав пошел навстречу раннему пахарю, быстро по толстым узлам усов и по
синим глазам узнал Пашу Белого. Обрадованный, ускорил шаг. Прежде чем поравняться с
Пашей Белым, видел, как он останавливался отдышаться и опять сверху напирал на ручки
плуга, не обычного – лемешного, а безотвального, с прямым ножом, который, похоже,
предназначался для разрезания крупных комьев и для проведения борозды в насыпноай
почве.
На приветствие Вячеслава он встряхнул простоволосой головой, проговорил,
захлебываясь воздухом:
– Ехала деревня мимо мужика.
Немного погодя Паша Белый задержал коня, не отрывая ладоней от железных ручек.
Плечи вздымались высоко и так резко опадали, что Вячеслав пугался, как бы у старика не
разорвалось сердце. Вяловатый от утомления, но довольный, Паша Белый подошел к
Вячеславу, сказал, что не сразу его вспомнил, а вспомнивши, озадачился: «В городе
Колькин дружок давно должен быть. Не сломался ли мотоциклет? Не стряслось ли чего
похуже?» Вячеслав успокоил Пашу Белого: ничего-де не стряслось, просто захотелось
ночевать у озера.
– Обратно просто. Просто и козу не подоить. Что хитро, то и просто: десятью девять -
девяносто. Дак краснеешь-то пошто?
– Возле озера переночевал – и все тут.
– Без намека теперича спрошу: из-за Лёны задержался?
– Отчасти.
– Чё уж увиливать? Себя покуда я не забыл молодого. Приглянется девушка – об ней
только и думка. Сказать по правде, а и что может быть приманчивей да счастливей
любви?!
– Из-за многого я остался. Столько всего накопилось... На помощь не позовешь...
Плутаешь в самом себе.
– Знакомо. Определится. Разгребешь. Что касается Алёнушки, для баловства ни в коей
мере. Натура переживательная. Первый мужик токо-токо отболел у нее в сердце. Нельзя.
Погибнет. Дак правильно я сказал: просто ничего не бывает. Сон нынче приспел. Вижу
базар. Такой базар нынче, поди-ка, редко встретишь. Прошился через весь базар. К возам
будто пробирался. Зима вроде. Розвальни. Народ в тулупах. Скотиной больше торгуют:
коровами, лошадьми, овцами, верблюдами, даже ишаками. Обочь коновязи, прямо на
снегу, гора каракуля. Черный, коричневый, белый, прямо белей снега каракуль. И возле
каракуля мужчина притопывает. Ноги от мороза вроде зашлись. Одет прилично, на базар в
лучшее старались одеться, девушки и женщины – те наряжались. На ногах фетровые бурки
на кожаной подошве, в борчатке, она под вид тулупчиков, какие царские офицеры носили,
на голове – лисий треух, рыжий-рыжий, сшибает на янтарь. Лицо умом прямо светится. И
держит он обеими руками розовые цветы. Я таких не видел раньше. В уме откуда-то
создалось: цветы женьшеня. Мне в Маньчжурии показывали корень женьшеня, о цветах
его я слыхом не слыхал. Сроду цветов не покупал. Чё покупать, ежли вся моя судьба возле
цветов? Токо на обдуве солнышко слизнуло снег – сразу сон-трава расцвела. Холодно, вот
она и в серебристом меху. Счас цветы у нее токо голубые, а раньше и белые, и желтые. За
сон-травой цветут горицветы, козлобородник, ветреницы, горный чеснок, ирисы, и
поперли, поперли. От снега до снега цветы. А тут я ни с сего ни с того вдруг купил букет
женьшеневых цветов и айда с базара. Шел-шел, вдруг втемяшилось: деньги не отдал. И
сумление вроде: «Как же не отдал? Отдал». Прошел еще чуток: «Не отдал». Возвертаться.
Очередища от возов до мясных прилавков! Чё-то, думаю, потребное привезли. Иду-иду
впродоль очереди. Как-то на меня смотрят, не, не на меня, на цветы, вроде удивляются:
зачем-де старику понадобились? Несу их с бережью. Глянутся мне, на душе аж славнецки.
Наконец дошел до того мужчины. Он еще держит цветы женьшеня охапками. Веселый и
вроде куда красивши стал. Да никто у него не покупает. Покупают рядом сам корень
женьшеня. Покупают, дрожат прямо, не достанется будто, отберут будто. Я спрашиваю
мужчину: «Деньги те отдал?» Кивнул треухом: «Де, вон». Я смотрю: пачки, пачки денег, в
портфель не влезут. Больше в пачках тридцатки. Счас их нет. Красные они были. «Не в
обиде?» – пытаю. «Не беспокойтесь, – отвечает. – Честь по чести!» – «А то, – говорю, -
добавлю». – «Самый раз», – говорит и навеличивает меня Павлом Тарасычем. Я вроде
уходить, а из очереди на меня таращатся: обалдел, мол, старик. Некоторые кривятся в
усмешке. Который-то человек в длинном пальто из тонкого сукна – раньше такие польта
назывались «дипломаты» – и сказал: «Спурил все до основания деньги и чего-то еще
совестится». Я на это понедоумевал, с тем и поушел. Букет женьшеневый нес под бородой.
Светло было в настроении. Токо-токо парнем бывало мне так славнецки. Ты все: просто да
просто. Как счас-то просто? К чему с цветами, каких сроду не видел? Почему я один купил
цветы, а очередь брала корень? Ну, брала бы и брала, дак нет, удивлялась по-недоброму,
будто изгой я какой, чуадик, лопух. К чему, а?
Над снами Вячеслав никогда не задумывался, невзирая на то что его мать обычно
старалась отыскать предзнаменование, скрытое в каждом якобы ее сне. Он считал, что сны
ничего серьезного не могут нести в себе, потому что их порождает стихия нашей
бессознательности, усталости, перевозбуждения, поэтому и проявлял безразличную
снисходительность к ее гаданиям над собственными снами. Потому, пожалуй, что к чужим
людям мы относимся гораздо пристальней, чем к родным, и над всем, что их заботит, не
исключая пустопорожние вопросы, склонны уважительно задумываться. То же самое
произошло и с Вячеславом. Вникая в сон Паши Белого, он пожалел, что отмахивался от
снов матери: иногда она рассказывала на редкость проникновенные сны, чаще всего
отражавшие ее нежную всезаботливость о нем, о других своих детях, о муже, о городе,
даже о земном шаре.
– Вероятно, – сказал Вячеслав, – ваш мозг, Павел Тарасыч, продолжал ваши дневные
размышления.
– За день-то о чем-чем не передумаешь.
– В казарме, у Кольки хоть спросите, мы обсуждали, для чего живем. Вы могли думать
о смысле жизни, примеривать к нему вашу судьбу.
– Не к смерти бы?
– Кто-нибудь из родни болеет?
– Тяжело, пфу-пфу, никто. Не к моей ли?
– Д’вы что?! Я возьмусь за плугом с вами тягаться – потерплю поражение.
– Без привычки, знамо, потерпишь. Покуда силушка по жилочкам переливается.
Преставиться-то можно в одночасье. У нас в роду, почитай, все на ногах помирают. Мой
тятя вершил стога на покосе. Крынку с квасом нагнулся из холодка достать, хлоп под куст
– и нету его.
– Не тема для радости, Павел Тарасыч. Поучили бы пахать.
– Этот сабан легко вести. Не давай ему вертухаться, и хорош.
Вячеслав сцепил пальцы на ручках плуга. Паша Белый причмокнул губами, но конь
не тронулся, лишь скосил на Вячеслава фиолетовый глаз. Повторно Паша Белый
причмокнул губами тихо, потому что улыбался, и конь или не расслышал его понуканья,
или чего-то выжидал. Со словами «Вот ведь штука: и у скотины есть понятие о своем и о
чужом» он взял коня под уздцы, и плуг двинулся. Вячеслава, едва он налег на ручки,
начало мотать. Попробовал давить изо всей мочи, все равно швыряло с плеча на плечо.
Оглянувшись, Паша Белый посоветовал ему топырить ноги и сам утишил свою поступь, к
чему конь сразу приноровился. Стал топырить ноги – не удавалось с прежним нажимом
заглублять плуг: подскакивал вместе с ним, как ялик на волнах. Уже пошел, опять
переталкивало с плеча на плечо. Очень скоро Вячеслав настолько ослабел, что плуг легко
всплыл над черноземом и валился со щеки на щеку. Было трудно не то что удерживать его
в ровном положении – ковылять за ним.
Паша Белый с конем одновременно оборотились к Вячеславу. Оба полагали, что он
замешкался по неприспособленности: комочек перегноя, может, угодил в ботинок, – но
сразу не без удивления заметили, что он повыбился из силенок.
Паша Белый велел Вячеславу отдыхать, а сам встал к плугу. Вячеслав пошел за
спальным мешком, оставленным на бетонной полосе, а когда возвращался, увидел
вбежавшего в парник Коняткина. Еще издали Коняткин сердито закричал, чтобы дед
прекратил пахать. Вероятно, был строгий семейный запрет Паше Белому – тяжелой работы
не делать, поэтому старик поспешно, даже с некоторой боязнью, бросил плуг и
успокоительно колебал поднятыми ладонями, выбредая из-за лошади навстречу внуку,
продолжавшему возмущаться тем, что дед ведет себя, как мальчишка-неслух.
Если Коняткин возмущался, то, по солдатской оценке, как очередь из автомата давал:
протатакал – и замолк. Останавливаясь перед дедом, он всего лишь укорливо покачал
головой, а после примирительным тоном промолвил:
– Дед, мы ж договорились – ты разогреваешь смолу. Да, пожалуйста, не лезь стеклить
на крышу. Я сам.
Коняткин повел борозду дальше. Паша Белый укорил внука за то, что он до того
серчает, что забыл поздороваться со своим армейским другом. Коняткин, не переставая
пахать, огрызнулся:
– Ты теперь его дружок. Блудней я Славку не знал и знать не желаю.
– Фух-фух! Ну, вякнул. Кабы все такими блуднями были!..
У котла, возле которого поблескивала куча свежеколотого вара и пахли живицей
сосновые горбыли, Вячеслав простился с Пашей Белым. Ему хотелось развести костер под
котлом, позаливать жидкой смолой пазы между краями стеклянных листов и стальными
рамами, куда они вкладывались, но он беспокоился, что вовремя не успеет на околицу,
потому и пустился в путь. Старик не стал оправдываться за внука, однако тем, что грустно
вздохнул, дал понять: все-де мы прытки на заблуждения и нечего шибко огорчаться.
За парниками был взгорок. На него свезли ульи. Уставленный этими разноцветными
домиками, взгорок походил на пчелиный град. Подле ульев чего-то колдовали люди в
халатах, в сетках, с дымарем. Среди них оказалась Лёна. Она тоже заметила Вячеслава.
– С добрым утром, – сказала она, ласково прищуриваясь.
– С добрым утром. Солнышко, – сказал он и ощутил застенчивость и грусть. – Мед
берете?
– Пчел готовим к отдыху. Отдохнут – поставим в парники.
– Салют! Бегу. Леонид ждет за околицей, – сказал со вздохом Вячеслав.
Он вскинул над плечом кулак и ринулся вниз по изволоку.
22
Бильярд занимали Бриль и черномазый великан Стругов – мастер отдела технического
контроля. На стальных табуретках сидели болельщики. Они следили за левой рукой Бриля.
Эта рука, вернее, кисть левой руки прыгала, как лягушка, по травянисто-зеленому сукну
стола и, казалось, отыскивала нужное положение не по воле хозяина, а по своей
собственной. Голова Стругова с затылком, обритым до уровня верхних кончиков ушей,
возвышалась над облаками дыма, меланхолически взирая на приготовления рыжего Бриля.
Последовал долгожданный удар. Голова дремотно смежила веки, спустилась с табачных
небес к полю бильярда. Меж пальцев, расставленных рогатулей, мелькнул кий, в угловую
лузу, яростно грохотнув, ворвался шар. Наслаждаясь восторженным мычанием
болельщиков, Стругов торжественно объявил:
– Своего в середину.
– Ворона, подставок не видишь, – предостерег его Леонид.
– Подставки привлекают жмотов, – ответил Стругов многозначительно.
Нужно было так сильно и ловко шибануть своим шаром чужой, чтобы свой сделал
поворот под прямым углом и угодил в боковую лузу, а чужой не перескочил через борт. И
Стругов «оттянул» свой шар, как и намеревался, и тот, с визгом покрутившись в
никелированном полукольце лузы, упал в сетку. Болельщики не успели всласть
повосхищаться ударом, а Стругов опять спровадил в зеленые авоськи два новых шара.
Победа! Он принял триумфальную осанку. Меланхоличность покинула лицо, и лишь
слегка напоминали о ней вытянутые полы ящерично-серого пиджака.
Вячеслав взял деревянный треугольник, составил пирамиду. Шары соединились
прочно, готовые отпрянуть друг от друга при первом же ударе. От волнения виски
Вячеслава пронзило звоном. Послышалась лихорадочная скороговорка Бриля, просящего
Стругова уступить партию с Вячеславом.
– Подзаработать рвешься?
Радость зарумянила медные щеки Бриля. Он подскочил к Вячеславу и, выжимая из
лузы шар, осторожно обронил:
– Победителю рупию.
– Хоть трояк.
– Заметали.
– По тройке на машину не наскребешь, – заметил Брилю Стругов.
– Курочка по зернышку клюет.
Осторожность Бриля, прыгающая кисть, то, что он после каждого удара мелил кий, и
то, что он бледнел, если делал подставку, возмущали Вячеслава. Это придавало твердость
руке, точность глазу. Пять партий подряд он «высадил» Бриля. Бриль, пьяный от
огорчения, позабыл про осторожность – в открытую отдал Вячеславу проигрыш.
– Сам рыжий, рыжу взял, – запел Леонид. – Рыжий под его венчал. – И спросил Бриля: -
Ты вроде бы в свое время еще «Победу» собирался покупать?
Бриль не ответил.
– Продай очередь на «Жигули», ибо ежели замахнулся, так уж копи на «кадиллак».
– Дядя Лень, не надо, – остановил его Вячеслав. – Товарищ, бери. Поиграли, и ладно. -
И вернул Брилю деньги.
Скоро согбенная фигура Бриля промелькнула за окнами.
Некоторое время после лечения в госпитале Вячеслав помогал художнику Дома
офицеров, там и насобачился играть в бильярд.
Со дня, когда обыграл Бриля, Вячеслав зачастил в цеховую комнату отдыха, где
играли еще и в настольный теннис. Здесь было хорошо. Простота отношений, веселость,
шутки. Порой мнилось, что не следует тревожиться о размолвке с отцом, с Тамарой.
Зато минуты одиночества были для него слишком тягостны, и весь мир, этот
поразительной разнообразности и красоты мир, придумавший великие цели,
представлялся тусклым, ненадежным, зачастую подпадающим под власть злобы и
глупости, а потому и катастрофически несущийся к своей гибели. Вячеслав знал за собой
эту слабость, под воздействием которой обесценивается все на свете, и тогда из
одиночества он рвался к людям, чтобы успокоить себя слитностью с ними, полными
доброй веры и сердечности.
Привычным бильярдным партнером Вячеслава сделался Бриль, больше не
предлагавший играть на деньги. За каждым интересным ударом он следил настолько
пристально, что облик его приобретал черты манекенной застылости. Из медлительно-
осторожного игрока рыжий становился дерзко-стремительным, вроде Стругова, и нередко
«обстукивал» Вячеслава.
В день получки Вячеслав не собирался играть. Он хотел побродить по магазинам,
надеясь найти электрическую бритву – именинный подарок отцу. Но получилось так, что
погода круто завернула: подул студеный ветер, поплыли черноземной сытости тучи, пруд
вздыбился волнами. А едва бригада, в которую перевели Вячеслава, сдала смену, пошел
снег. Мокрый, лохматый, сек по глазам.
Тощая пачка перегнутых новеньких рублей топырилась в нагрудном кармане пиджака,
и невольная улыбка образовывала ямочки рядом с уголками губ Вячеслава. Вспомнилось,
что несколько раз не мог ничего поделать с собой, чтобы скрыть радость. Вот так же
неудержимо улыбался в детстве после покупки футбольного мяча, потом – получая
комсомольский билет и в момент воинской присяги.
Заслышав клацанье чьих-то подковок на лестнице второго этажа, Вячеслав пробовал
принять строгий вид, но, как нарочно, ворохнулись с жестяной упругостью рубли и еще
шире раскатилось в улыбке его лицо. Он глядел через стекло дверей цеховой конторы и,
чтобы все-таки скрыть приятную ему несерьезность, выскочил наружу.
Тем, кто клацал подковками, оказался Бриль. Он высунулся из коридора и поджал
плечи к голове.
– Не вздумай, Слава, идти. Схватишь воспаление легких. В городе нехватка
пенициллиновых лекарств. Нечем будет согнать температуру, и – прощай юность.
– Чем черт не шутит... Жить при всем при том охота.
– Куда тебе спешить? Я женат и все-таки не спешу.
– Ты уж старик. Лет сорок? Жену, вероятно, разлюбил?
– Здоровье любить не позволяет. Заходи быстрей. В бильярдной тепло. Срежемся.
Партия – пятерка.
– Чего-то ты вновь расхрабрился.
– Риск – безнадежное дело.
– Не, сегодня ты выгодно рискуешь. Ты выспался, а я с ночной.
– А ты моложе.
«Не нужно бы играть на деньги. – Вячеслав натирал мелом кожаную нашлепку кия. -
А, тоска».
Бил он с остервенением, спешно целясь, мазал, шары перескакивали через борт.
Подумал, проигрывая партию: «Возьму и просажу получку».
За полдень Вячеслав положил кий на суконную траву стола, вышел в коридор, отдал
Брилю деньги. Надеялся, что Бриль вернет ему т е пятнадцать рублей, по Бриль словно
намертво позабыл про них.
Перед тем как распахнуть дверь, Вячеслав оглянулся: «Неужели действительно
забыл?» Уходя, тоже оглянулся. К считающему его получку Брилю двигалась пудовыми
шагами памятниковая фигура Стругова.
23
– Я проиграл получку.
Устя ахнула и тревожно посмотрела на мужа. Он сбросил ногу с колена, встал,
тряхнул голубоватой сединой.
– На бильярде? Промерз небось?
– Сырость, будь неладна.
– Давай поешь горяченьких щей. Мать, поднеси ему рюмочку.
– Никаких подносов, бесстыднику. Из армии вон какие умные парни вертаются...
– Не причитай. Развлечься, что ли, нельзя. Позабыла, Устенька, младость. Ых, комитет
бедноты! Подай-ка водочки, накорми, поедем отыгрываться. Я на курортах бильярдный
чемпион. В американку могу, в пирамидку могу, в алягерр могу.
– Глупости ты бормочешь, Сережа.
– Рассудок, зима-лето. Я не мирволю. Ых, ладони чешутся. Сейчас поширяем кием!
Двенадцатого от двух бортов в среднюю лузу. Бац. Точно.
Спотыкаясь и поскальзываясь, Вячеслав брел возле отца. Блазнилось пламя,
присасывающееся к цистерне (резал ночью), щелканье и скачки шаров. В просвет между
дремой подумал: «Что с отцом? Не устроил разгон? Идет отыгрывать получку? Либо
подвох, либо ему, как и мне, обрыдло сердиться».
Перед комнатой отдыха Камаев дал Вячеславу полусотку, ободряюще саданул в плечо:






