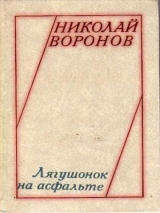
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
воодушевленно пустился в импровизацию.
Прощаясь с Владькой, Торопчины целовали его. Он стоял остолбенело-
отстраненный. Тогда-то Маша и заметила, какие у Владьки губы. Верхняя губа с
глубокой ложбинкой, переходящей по краям в твердо-четкие грани. Если
верхняя губа указывала на его властность и целеустремленность, то нижняя,
рыхловатая, детская, – на то, что он размазня.
В поезде Маша тревожно вспоминала, что заметила, какие у него губы, и не
решалась задерживать на них взгляда. А в кафе она почти неотрывно смотрела
на губы Владьки. Потупится или отвернется, и вот уж снова примагнитились
глаза к его губам.
Ораторствуя, Владька сопоставлял столетия, общественные формации,
идеалы, но это не захватывало Машу. Затронули ее, и то на какую-то минуту,
Владькины рассуждения о борьбе сознания. Он так и заявил: «моя теория». Он
делил сознание на два рядом текущих потока, струи которых схватываются,
отталкиваются, взаимно замутняются. Левый поток – «прометеический»:
философские и научно-инженерные открытия, уважение к народу и личности,
поиски возвышающихся истин, противодействие тиранам и эксплуатации.
Правый, враждебный ему поток – «керберический» (по кличке трехголового пса
Кербера, стерегущего Аид), – он отождествлял со всем несправедливым,
безмозгло фантастическим, отбирающим надежды, приводящим к изуверству и
войнам и, в конечном счете, подготавливающим человечество к
самоуничтожению.
Маша постаралась вникать во Владькины умствования, но ей побрезжилось
смешное в его хмельном разглагольствовании о вещах больно уж сложных не
только для какого-то мальчишки, пусть был бы он и гениален и трезв, а для всех
башковитых людей на свете. И все-таки не это отвлекло Машу. Его губы
отвлекли. А он-то распинался!
Он отер губы. Не осталась ли на них салатная сметана, пропитанная
свекольным соком? Нет. А Маша как уставилась, так и смотрит на его губы.
Чем-то ждущим было сосредоточено ее лицо. И вдруг он чмокнул Машу в
приоткрытые губы, и отшатнулся, и увидел ее смятение, и виновато ломился за
ней через конопляник, попавшийся среди полыни, и просил прощения, и обещал
никогда не целоваться.
Ей было радостно, она крепилась, чтобы не засмеяться (если рассмеется,
смеяться будет до изнеможения), но в душе-то она смеялась над ним.
Поезд катил по Москве, ее ранняя пустынность насторожила Машу: не
случилось ли чего?
Веселый Владька, захлестывая «молнии» чемоданчика, пробовал свистеть,
но сквозь его зубы только раздавалось цырканье воздуха. Маша не стала
озадачивать его своим соображением о тревожной пустынности Москвы и
скользнула за проносившей простыни проводницей.
– Тетя, почему на улице нет народу?
– Дрыхнет народ-от. Народ-от, он тож отдыхат.
– А...
– Вот те и «а». Счас не спит только петух на насесте, мы с тобой да кума с
Фомой. Ты чего подумала? Жизнь идет по расписанию. Ну, быват где и
застопорится, где и постоит перед семафором, и дальше айда-пошел, аж буксы
горят. Ты страхи-от отставляй. Настроение поддерживай. Всяку канитель – через
крышу аль плетень.
– Ловко у вас получается.
– Куда как ловко. Муж на войне остался, братья тож. Дочка в бараке сгорела.
Я также в вагоне дежурила. Ночью пожар. Провода загорелись. Она спала – не
добудишься. У меня все ловко. А у тебя?
– У меня мама в больнице.
– Вылечат. Племянницу летось на производстве автотележкой об стену
жулькнуло. Таз раздавило. Думали – калека. Нет, срастили ее. К лету совсем
оклемалась. И взамуж собиратся. И маму твою должны вылечить.
– Не сердитесь.
– Нету того в обычае. Кабы все от самих... Накопится сердце, оно и
выбрыкнет финтифлюшку. Ты каяться, а ведь не ты выбрыкнула, оно
выбрыкнуло.
В прошлый раз, пока ехала на электричке да пока выстояла битый час за
билетом, Маша только и успела сбегать в ближний магазин. Машу пугали
злобно устремленные стаи легковых машин, и она, добираясь до гастронома и
обратно, лишь мельком взглядывала на привокзальную Москву, поэтому ей мало
что запомнилось, кроме эстакады, по которой пролетели в паре электровозы, и
дылдистого, препятствующего облакам здания, которое казалось
заваливающимся через эстакаду. Сквозь опаску, нагнетенную автомобилями и
высотной гостиницей, Маше увиделись башенки вокзалов, острые,
восхитительно-картинные, но она смутно запомнила их: остался мираж узорно-
белого, зеленого, откосного, чешуйчатого.
Под площадью был переход. Владьке не терпелось спуститься в кафельную
подземную глубину, но Маша захотела пойти поверху, по площади. Она мечтала
вновь увидеть башенки, однако забыла об этом, потому что нежданно поддалась
такой тревоге: мать, может, при смерти, а она оттягивала отъезд. Мало ли что
билеты на самолет были проданы на пять дней вперед. Другая изревелась бы, но
вынудила аэропортного начальника отправить ее. Ночью бы наверняка пересела
на Ил-18 и уже была бы возле матери.
У Маши было паническое воображение.
Может, после операции позвоночника мать лежит вниз животом. Сбоит
сердце. У здоровой, и то сбоит. Няни и сестры молодые, привыкшие к крови,
стонам и к тому, что больные умирают, черствы и не позаботятся повернуть на
бок, а мать застенчива, терпелива, не попросит, не пожалуется... И вся ее
надежда только на Машу – ухаживать будет, бодрость духа поддерживать, еду
приносить. А Маши нет и нет, и мать кручинится, и думает, что Маше
поглянулось у отца и она решила у них остаться (один Хмырь вынудит), и
позабыла, как мать воспитывала ее, и баловала, пускай украдкой, всякими
сладостями не хуже, чем Митьку богатые Калгановы. И сейчас мать, должно
быть, хочет умереть.
Чувство вины – как болото. Барахтаешься, барахтаешься и все сильней
увязаешь.
Если мать умрет, Маша не сможет жить. Никто не узнает, что мать погибла
из-за ее эгоизма, но сама-то Маша будет знать, и этого не преодолеешь.
И она ставила себе в укор то, что ее занимали судьбы «французов», что
гипнотизировалась Владькиными губами, что, пересекая площадь, поворачивала
щеки к пухово-нежному солнцу.
Владька оставил Машу возле закрытого аптечного киоска – пошел узнавать
расписание самолетов.
Хотя Маша и настроилась ни на что не обращать внимания, чтобы думать о
матери, она не сумела подавить в себе интереса к залу ожидания, где вповал на
скамьях, у скамей и стен спали пассажиры, где цыган лет двадцати с баками до
нижней челюсти играл огромным детским воздушным шаром и для забавы
перелазил за шаром через скамьи, ухитряясь не наступать на спящих и вещи, где
одутловатая буфетчица качала в кружки пиво и его тянули усталые дядьки,
посыпая края кружек солью и облокачиваясь о мраморный прилавок, а под
потолком перелетывали бесшабашные воробьи.
Вернулся Владька с деятельным выражением лица. Есть самолет
десятичасовой. Сподручней лететь с тем, который отправляется в шестнадцать
десять. Сейчас они позавтракают. Он разведал укромный буфетик. Потом
схватят такси – метро еще не работает – и поедут на Софийку, нет, теперь
набережная Мориса Тореза. Там он заскочит к родственникам, а Маша тем
временем полюбуется Кремлем. Ниоткуда так не прекрасен вид на Кремль: ни с
Красной площади, ни с Манежной, ни с Каменного моста, ни с Москворецкого -
как с набережной Тореза. Они походят по улицам, пока не начнут пускать в
Кремль. Потом осмотрят его и поедут на Ленинские горы, а оттуда он проводит
ее к поезду.
Маша давно мечтала увидеть Кремль. Это желание сделалось нетерпеливым
после того, как Наталья Федоровна, рассказывая Маше свою историю,
упомянула о том, что, бродя по Кремлю, вслушивалась в родную русскую речь.
При воспоминании об этих словах Натальи Федоровны и о том, что скоро
сможет побывать в Кремле, Маша ощущала в себе что-то лучистое, перед чем
отступают беспокойство, отчаяние, грусть. По-другому, но горячо и неотступно
мечтала она увидеть Московский университет на Ленинских горах. Она робко
помышляла о будущей попытке поступить в университет и загадывала: если
нынешним летом увидит его вблизи, то что-то в ней произойдет такое, от чего
она станет здорово учиться, и тогда не страшен конкурс.
И вдруг Маша сказала, что отправится на аэродром.
Всю дорогу зудела о Москве, и вот тебе на! Вопреки явственному
обыкновению, Владька потребовал, чтоб она объяснилась.
– Я должна улететь утром, – угрюмо ответила она.
Он не настаивал, лишь резонно заметил, что у нее два часа в запасе: все
равно билет ей продадут, если остались места или кто-то отказался лететь,
только после регистрации пассажиров. Чего бессмысленно томиться в порту,
коль можно взглянуть на Кремль?
Она отказалась.
Владька посадил Машу в электричку. Быстро вышел на платформу:
пантографы примкнули свои черные лыжи к проводам, и под вагонами
лихорадочно застрекотали моторы.
Сквозь собственное отражение в окно он смотрел на Машу. Она не
поворачивала лица, будто не замечала Владьку. Зигзаг в ее настроении он
воспринял как «девчоночью мерихлюндию», которую, по наблюдениям за
сестрой, выводил из капризов подкорки, вызываемых особенностями
возрастного развития и чисто женским свойством – во всем полагаться прежде
всего на безотчетные сигналы и эмоции. Но, глядя на голову Маши,
склоненную, как над гробом, он почувствовал, как захолонуло сердце: да у нее
скорбь, ясно осознанная скорбь.
Маша кивнула ему, полуприкрыв веки. Электричка тронулась, и он,
недоумевающий, не отступил от вагонов, и стеклянно-зеленые плоскости
сквозили мимо, и завихренный воздух хлестался об него.
Он запретил себе гадать, отчего Маша скорбит, потому что ни в чем не
находил серьезных причин для этого и потому что не любил возводить всякие
там психологические построения, тем более на зыбких домыслах. Однако,
изнывая в очереди на такси и потом мчась по очнувшейся от сна столице, он то и
дело невольно задумывался, что же приключилось в мире Машиного
подсознания.
Владька, пригорюнясь, впервые придал значение тому, что едет не просто по
городу, а по Москве. Еще не сознавая того, что он предощущает свою будущую
причастность к возвышенной жизни великого города, он удивлялся тому, что
воспринимает по-родному шоссейное зеркало Садового кольца, броско
повторяющего впереди едущий грузовик, в кузове которого вольготно
полулежит парень, утвердивший каблуки сапог на алые головки сыра. Даже
сквозь мучительную озадаченность при воспоминании о скорбном лице Маши
Владька не терял непривычно острого интереса к скольжению стенного камня с
масками львов, балконами, мозаикой, с аквариумным сном витрин, челноками
стрельчатых окоп, с голубями на капителях...
Этот путь, не однажды проделанный в автомобиле (ездить на такси -
Владькина страсть), всегда словно бы проносился впродоль его взгляду и ничем
не запоминался, кроме как общим впечатлением. Теперь Владька поразился
своей прежней невосприимчивости. Проехавши улицей 25 Октября и проездом
Сапунова, правую сторону которого составляло здание ГУМа, он пообещал себе
пройти здесь пешком хотя бы ради того, чтобы понять затейливый
архитектурный ритм ГУМа.
А когда машина покатилась по брусчатому скату Красной площади,
несуразность храма Василия Блаженного, – она слагалась, по мнению Владьки,
из несоразмерности подклета и столпов, из цветового перехвата, из множества
маковок, кокошников, шишек, долек, звезд, шатров, арок, – несуразность эта
показалась ему такой притягательной, яркой и мудрой, что он встрепенулся,
словно вдруг увидел всю Россию, и, перекручивая шею, просветленно
оборачивался на храм.
По набережной они пронеслись от прозора Москворецкого моста до прозора
Каменного: Владька надумал вернуться на вокзал, чтобы поехать вдогонку за
Машей.
Его бабушка по матери, если ей довелось проковылять по двору или сходить
в гости, дома напевно говорила о том, что дивовалась зарей, тополем,
детишками или еще чем-нибудь другим. Владька же, обычно веривший всему,
что ни скажет бабушка, досадовал на ее способность к неумеренному и
бесцельному созерцанию.
Пока такси свистело по набережной Мориса Тореза, Владька смотрел на
Кремль. Соборы стояли белые. Над золотой главой Ивана Великого взвивались
солнечные сполохи. В проемах самой колокольни и в проемах звонницы
раструбисто темнели колокола. Перед нырком под мост он наткнулся взглядом
на Водовзводную башню, вспомнил, что не обратил внимания на другие башни,
но машина уже сворачивала с набережной, и он только и ухватил глазурно-
зеленое мерцание черепицы и зубчатость стены.
В том, как он смотрел на Кремль, угадалось ему бабушкино дивование. Он
заломил пятерней челку и стыдливо зажмурился.
Через полтора часа он был в Домодедове. Здание аэропорта было тоже
стеклянное, как и кафе, где он до того был пьян, что поцеловал Машу («Как она
рассердилась! Не дай бог!»).
Маша сидела в кресле с никелированными подлокотниками. Ее лицо по-
прежнему было трагическим, как в электричке. Ему показалось, что мужчины,
проходя мимо нее, замедляли шаг. От этого стало жарко. Он глядел на нее сквозь
стену. Подле Маши сели пунцовые парни в разляпистых кепках и начали
наклоняться к ней, конечно, заигрывая опробованными фразами. Она поднялась,
а у Владьки резко застучало сердце. Он бросился к входу. Мигом позже замер.
Заметит? Не заметила.
Остановилась у киоска, где продают сувениры. Вскинула голову. Пепельные,
гладко-прямые волосы занавесили полукруглый вырез платья на спине. Смотрит
на прицепленного к гвоздику витрины Емелюшку – лыковые лапоточки, белые
порточки, вышитая рубаха, шапка гоголем. Беспокойно оглянулась, будто
поискала кого-то глазами. Он притаился: как зал у него на обзоре, так и он у
зала. Вздохнула, тронула щеки ладошками (наверно, горят?), нагнулась над
планшетом со значками.
Он был голоден. Нет-нет и возникало ощущение, что он теряет равновесие.
Неужели от вчерашнего шампанского? В глубине зала вырисовывались колбы,
почти всклень наполненные соками – томатным, виноградным, яблочным. Рядом
сиял нержавейкой титанчик, из его крана, пыхающего парком, лился кофе.
Подойти бы сейчас к Маше, разогнать ее неизвестно откуда взявшуюся
печаль, поесть вместе с нею горячих мясных пирожков, запивая их то соками, то
кофе.
Потоптавшись возле стеклянной стены, зашагал на станцию. Радовался
тому, что приехал и увидел Машу, а также тому, что выдержал, не подошел к
ней.
Все места на утренний самолет Ил-18 были проданы, и все пассажиры
вовремя зарегистрировались.
Носильщик отсоветовал Маше идти к начальнику аэропорта, зато обнадежил
подсказкой.
– Попросись у командира корабля. Авось и возьмет. Вон он. Ну, грек,
коричневый. Да портфель держит, как у баяна меха. Шуруй. Упустишь.
Лепетала о больной матери. Он слушал вполуха. Маша прервала его, и он,
вероятно, старался в точности удержать в памяти приготовленные слова,
которые девчонка помешала ему произнести. По-прежнему глядя на своего
собеседника, отказал: есть строгий закон, карающий летчиков за перегрузку
самолетов. Когда она отступила, командир скосил в ее сторону буйволиные очи
и спохватился, что на его корабле не хватает одной бортпроводницы. Велел
покупать билет и в пути не жаловаться. Она похвастала: у нее идеальный
вестибулярный аппарат! Физиономии летчиков подобрели.
На подъеме Маша быстро поняла нерасшифрованное предупреждение
командира корабля: самолет ворвался в облачность и вскоре, теряя гул моторов,
начал падать. В туловищах пассажиров как бы произошла усадка. Хоть Маша в
прошлый рейс и приучилась не пугаться воздушных ям, боязнь, что самолет
разобьется, заставила ее поджаться.
Моторный гул вернулся на надрывной ноте, отвердел, падение
прекратилось. Сильно поваживало хвост. Под брюхом – молоко. Таращишься,
таращишься – оно невпрогляд. А ведь внизу совсем близкая на развороте
Москва.
Эшелон был задан самолету на высоте семи тысяч метров, но и когда
достигли этой высоты, болтанка не кончилась: ломились сквозь горы облаков.
Командир попросил Машу раздавать пакеты и подбадривать пассажиров. Он
восхищался тем, что она как стеклышко, тогда как травят даже мужчины.
Признался, что, посудачивши, они с приятелем вспомнили про вестибулярный
аппарат одной юной девушки и от души посмеялись.
Беленькая стюардесса сообщила Маше, что закрылся Железнодольск.
Пришлось садиться в Челябинске.
Проголодавшаяся Маша наконец-то позавтракала. Узнав, что Железнодольск
навряд ли скоро будет принимать самолеты, и вновь встревоженная тем, как там
мама, она позвонила Татьяне Петровне.
Повезло: застала ее дома. Обычно в июле Татьяна Петровна отдыхает с
мужем и детьми в горах Башкирии.
Оказалось, что Татьяна Петровна бывает у ее матери в больнице. Хоть
Татьяна Петровна очень добра, да и дружит с ее матерью, в мыслях не особенно-
то верилось, что она, такая грамотная, гордая, будет ходить в больницу к
магазинной поломойке и грузчице.
Маша разрыдалась, еще ни о чем не спросив.
Татьяна Петровна утешила ее. Операцию Клавдии Ананьевне отменили. Она
лежит, как в люльке, из-за трещинки в позвоночнике, болей нет, срастание
проходит нормально. После излечения годик отдохнет, снова сможет работать.
Хмырь поплатился за свою драчливость, дружинники забрали его. Но прощен -
в последний раз. Клавдия Ананьевна умолила. Мать ждет тебя. На днях она
сказала, что все-таки счастлива: «Дочка у меня – ни у кого лучше!»
Железнодольск, не принимавший самолетов из-за низового ветра, открылся
незадолго до заката.
Летели над облаками. Эта белая безбрежность, кое-где сбрызнутая солнцем,
навеивала бесконечные думы. И мнилось, нет выхода ее надежде, как, что ли,
нет сейчас просвета в облаках.
Этой угнетенности предшествовало отчаяние. Оно ворвалось в душу со
словами Татьяны Петровны, которые пролизывал треск громовых разрядов.
Мама, мама обманула ее, свою Машу! Сроду не обманывала, и вдруг. . Зачем?
Ящик с маслом, огуречная шкурка... Щадила ее. Ведь знает: лучше правды
ничего на свете нет. Пусть горе, зато ясность. Да как посмел Хмырь избить ее
маму?! Он смеет, давно смеет. Но больше этого не будет. Обманула! А может,
обманывала и раньше? Не надо, не надо... Заберу ее. Работать пойду. Школа?
Университет? Ну их. Устроюсь на завод. Дадут комнату. Сразу отличусь – и
дадут. А пойдет ли мама ко мне? Да она не захочет, чтобы я бросила учиться. И
не просто ей уйти от Хмыря. Неужели нет выхода?
Молчание неба. Беззвучна и глуха невидимая планета. А где-то позади за
тысячеверстными заторами облаков – солнце. Крикни – и не дрогнет
пространство. Выпрыгни – и словно тебя и не было.
Ничего ты не можешь и не значишь в небе. И ничего ты не можешь и не
значишь в Железнодольске. Тогда зачем ты? Наверно, зачем-то нужна. Все,
наверно, для чего-то нужны. Работать, думать, летать... Нет, что-то произошло,
происходило... А Владька, Наталья Федоровна, отец... Там, с ними, для себя и
для них, она что-то начала значить. Там она была как не сама, будто на время по
чьему-то доброму волшебству в ней подменили душу и ум. И скоро она станет
прежней, даже становится прежней. Даже вроде начинает бояться того, что она
не сможет забрать маму и не сумеет ее защитить от Хмыря. Нет, только
необходимо действовать, рваться к бесстрашию. И будет счастлива мама. И
конечно, и она будет счастлива. А если не будет?.. В счастье ли единственный
смысл жизни? А может, высший смысл в том, чтобы не бояться несчастья и
решаться на такие перемены, к которым путь на грани катастрофы, а то и в
катастрофу? Погоди, погоди! Как я подумала? И можно ли так думать и
следовать этому?
Пустыня облаков. Где сизо, где оранжево, где теневая синь. Барханы. Белый
саксаульник. И мираж озера. Прозрачного. Да нет же: это проран в облаках.
Лесная курчавина, лоскут поля, гора. И новый проран. Квадратный. И черная
почва. И в воздухе черные гейзеры пыли. С чем-то сходство. А! Она и Сергей
Федорович на краю лаза. Смотрят в угольную башню, на дне – отец. Он орудует
длинночеренковой лопатой, а снизу, в спрессовавшуюся шихту, подают воздух,
он просаживает шихту, вздувая угольные смерчи. Сон или явь? Прошлое или
настоящее? К чему она летит? А может, падает? Или, может, прошло несколько
лет, и мама на пенсии, и живет в комнате, полученной ею, Машей, а сама она
учится в университете вместе с Владькой?
1968-1970
ЛЯГУШОНОК НА АСФАЛЬТЕ
Повесть
1
Тамара страшилась возвращения Вячеслава. Не потому страшилась, что
разлюбил, что будут укоры и ревность. Чутье подсказывало: он по-прежнему
бредит ею. Тамара страшилась того, как бы Вячеслав не поддался влиянию отца.
Слышала от самой тети Усти, что Камаев грозил выгнать Вячеслава, если он,
придя со службы, будет вязаться с Томкой, поэтому мечтала, чтобы Вячеслав
вернулся из армии попозже: хотелось продлить время надежды. Но он явился,
едва опубликовали указ о демобилизации.
Тамара ехала из института. Улицу Тополевую, вверх по которой скользил
трамвай, только что полили. В темном зеркале мостовой плыл красный вагон и
пульсировали электрические вспышки. Она любовалась отражением трамвая и
набеганием отражения трамвая на отражение деревьев, реклам, узорчатых
чугунных балконов, неба с облаками.
Мало-помалу ее внимание отвлек чей-то бег, упорно настигавший трамвай.
Хотела высунуться из окна, но отпрянула: к ее локтю тянулась коричневая рука.
«Назир! Убьет!»
В следующий миг она усомнилась в том, что рука, тянувшаяся к окну,
Назирова: слишком крупны суставы пальцев, у Назира персты – тонкие,
длинные, сизые.
Выглянула. Вячеслав! Отстает от трамвая, но продолжает бежать.
Стремящееся лицо азартно.
Рванула рукоятку для открывания дверей. Сипение воздуха, двери
сложились в гармошку, выпрыгнула на мостовую.
Вячеслав летел на Тамару. Чтобы не сбить ее, крутанулся и начал падать.
Она тоже крутанулась, схватив его за борт мундира, и они удержались на ногах.
Вячеслав обнял Тамару за плечо, знойно дышал в волосы. Она приникла к
погону лбом. Был приятно горьковат запах пота, впитавшийся в мундир.
Вячеслав позабыл о сержанте Коняткине. Он увидел Тамару и бросился за
трамваем, когда проходили с Коняткиным мимо швейной мастерской. Привалясь
к оконной решетке и скаля зубы, Коняткин балагурил с портнихами.
– Славка, у вас в городе дебелые девки! – весело крикнул он оттуда. -
Женюсь, не отходя от решетки. Э, толстопятые, я охранял важные объекты. Кто
за меня – голосуй.
– Выбирай любую.
– Справишься, так двух.
– Я не король Саудовской Аравии. Мне и трех достаточно.
Вячеслав одернул мундир, приказал занудливым службистским тоном:
– Товарищ сержант, пройдем в комендатуру.
Коняткин чиркнул кончиком сапога по решетке. Железные прутья
задребезжали. Это понравилось ему. Он опять провел сапогом по решетке, да
еще и пнул в нее.
– Кончай дурачиться, Кольк, – буркнул Вячеслав, подходя к нему с Тамарой.
– Ух, болото! Ладно, я закруглился. Вот ты скоро ли облагоразумишься?
Неожиданно для себя Вячеслав заметил, что Коняткин жестко смотрит на
Тамару, поэтому и догадался, какой намек кроется за его словами. Он
растерянно удивился тому, что Тамара погрустнела и без улыбки, которую
требует обходительность, знакомилась с его армейским другом.
Родные Коняткина жили в деревне Слегово. Добираются туда на грузотакси,
с городской окраины. Пока ехали трамваем к парковому вееру, Коняткин
насупленно посасывал пустой мундштук из моржовой кости. Еще в армии,
стоило Вячеславу вспомнить о Тамаре, Коняткина, казавшегося ему балагуром и
вертопрахом, которого почти не выводят из состояния радостного легкомыслия
не то что чужие, но и собственные сложности, вдруг точно бы охватывало
сумраком, и тогда он обнаруживал несуразные для его поведения свойства:
роптал на человеческое непостоянство, осуждал доверчивость и
всепрощенчество, печалился о нравственной запутанности.
– За что я уважаю себя – за твердость, – сказал Коняткин Вячеславу, едва они
остановились возле набитой людьми ожидалки, выкрашенной чудовищно-синей
масляной краской. – Кто оскорбил меня, продал, оклеветал, тому улыбаться не
стану.
Было ясно, к чему клонит Коняткин, и Вячеслав попробовал отшутиться:
– Ты сработан из тугоплавких металлов.
– Брось! Собака, она как? Ты ее огрел дрыном, через пять минут вынес
хлеба. Она ползет на брюхе, хвостом стучит: я, дескать, не в обиде, я преданная,
можешь хоть опять оглоушить дрыном – не взвизгну.
– На рыбалку к тебе приеду, тогда изложишь свое отношение к собачьим
повадкам человека. Готовься штурмовать грузовик. Без места останешься.
– Ты-то с чем останешься?
– С чемоданом.
– Зло берет на тебя! Рассолодел...
– Откуда ты взял?
– Презирать нужно.
– Я презираю. В душе.
– Вся душа у тебя на роже: рассолодел. Слабаки, сколько вас развелось!
Застолбили: отомстишь – и по спине мешалкой.
– Застолбили – нечего напоминать.
– Вам не напоминать – превратитесь в пресмыкающихся. Я бы увел Тамарку
на гору, потешился, потом бы в чем мама родила погнал под уклон.
– Дикарь ты, Кольк.
– Ух, болото!
Тамара оставалась с чемоданом Вячеслава на трамвайной остановке.
Вячеслав, заметивший в ней перемену еще давеча, от досады попытался вернуть
себя в то счастливое состояние, которое у него было, когда гнался за трамваем,
однако тут же обострился против собственной зыбкости и поднял по Тамаре
презрительный взгляд, будто раздел ее.
Тамара зачем-то поволокла его тяжеленный чемодан к трамваю. Потом
поняла, что испугалась. Так однажды боялась Назира. Все закончилось тем, что
Назир порезал фотографа Джабара Владимировича, который укорял его за
жестокое обращение с Тамарой.
Приближался трамвай. Тамара подняла чемодан. Вячеслав зажал в ладони ее
кулак, державший латунную ручку, и рванулся от остановки. Тамара опять
испугалась, шла поникло, ощущая электрический жар в ногах, вдруг уставших и
подгибавшихся на зеленоватом булыжном проселке.
Близ переезда, перекрытого шлагбаумом, Вячеслав и Тамара миновали
грузотакси. Коняткин увидел их из кузова, сурово отвернулся.
Коттеджи.
Склад моторов, трансформаторов, кабельных барабанов.
И поле полыни. Полынь высохла до костяной твердости, была без
привычной горчинки.
Он шагал впереди. Чужой. Опасный. Бежать? Догонит. Вон какие мощные
ноги! Все бы ты убегала. А расплата? Наверняка собирается бить. Ты не
станешь защищаться. Пусть бьет. Что за жизнь: неужели начинать все снова?
Вячеслав не умел мстить. Не то чтоб не хватало характера и не то чтоб он
был слишком жалостлив и не испытывал желания мести: он вырос среди людей,
большинство из которых считало, что мстить подло, и редко кто-нибудь из них
мстил своим обидчикам, лиходеям. Года за два до того, как Вячеслава призвали
в армию, на отца взъелся мастер Чигирь. Когда принимает смену, придирается, а
при удобном случае клевещет, будто отец по ненависти к нему, Чигирю, в с е
т а к п о д с т р а и в а е т , что во время дежурства его бригады ухудшается ход
доменной печи, запечатывает фурмы, ерундит электрическая пушка.
Родственники или товарищи, узнав про очередной навет Чигиря, говорили
Камаеву:
– Ты бы на самом деле подстроил...
Камаев сумел бы «подстроить» – комар носа не подточил бы, но ни разу не
сделал этого и всегда пресекал гневливые наущения:
– Месть – не честь.
Как и отцу, Вячеславу не было присуще чувство мести, но теперь он хотел
мстить, поэтому, ломясь через полынь и готовя себя к мщению, сердито думал о
примиренчестве и о том, что обязательно воспитает в себе непримиримость к
примиренчеству.
Перескочил глубокую канаву. Невольно вернулся, дабы подстраховать
Тамару, но спохватился: мстить. Она прыгнула, упала и всаживала пальцы в
глину, сползая в канаву. Не поддержал ее, лишь беспощадно жулькал в кулаке
чемоданную ручку.
Над ровные возвышался конопляник. В его зарослях Вячеслав вытащил из
чемодана шинель, разбросал поверх поваленной конопли, еще курившейся
зеленоватой пудрой.
– Царица Тамара, ложе готово.
Сидя на корточках перед чемоданом, он ощутил во всем теле жар стыда и
лютым нажимом защелкнул замки. Испуганно услышал безмолвие, а мгновение
спустя – шелест толкающего воздуха. Не ветер – дыхание Тамары.
Она села на уголок полы, вытянула ноги. Платье было коротко, выдернула из
папки косынку, запеленала колени.
«Ха, недотрога!»
Оставаясь перед чемоданом на корточках, он повторил:
– Царица Тамара, ложе готово.
– Я села, Славик. Садись и ты.
«Столько перестрадал! – подумала она. – Поделом мне. Должно быть
возмездие. Но это не Славик... Боюсь!»
Она оперлась ладонью о стебли поваленной конопли, поворачиваясь на
бедро.
Он захлебнулся сигаретным дымом, взволнованный ее движением. Кашляя,
представил себе ее на шинели, и заложило в груди – не продохнуть, и не смел
обернуться.
Сцепил руки. Поразился: ледяные, словно только что вымыл в проруби.
Толсто присыпала глину заводская гарь. Вкрутил в нее окурок сапожным
каблуком. Повернулся. Стоял над Тамарой. Прозолоть волос, постриженных
вровень с мочками. Ложбинка груди, падающая в сумрак, розоватый от шелка.
Колени прикрыла кожаной папкой. Защита. Косынки мало показалось. Мелькает
застежка «молнии» на папке. До чего же его лихорадит это металлическое
шурханье!
Схватил Тамару за волосы, запрокинул лицо. На смеженных веках Тамары
отражалось отчаяние. Коняткин, когда вместе получали увольнение,
останавливал его на обочине тротуара, натаскивал, как узнать по лицам
проходящих девушек, какие грешные, а какие невинны.
Главным показателем для Коняткина были веки. У настоящей девушки
гладкие, светлые веки, ни морщинки на них, поблескивают. У Тамары веки
гладкие, поблескивают, но только как бы притемнены скорбью.
Рука Вячеслава отпустила ее волосы и тотчас отпрянула: схватить за них
опять, накрутить на пальцы, рвануть так, чтобы Тамара повалилась на шинель.
Да оробела рука, засомневалась, застенчиво скользнула по волосам.
Тамара заплакала, неслышно заплакала. Губы придавила кончиками пальцев.
Зачем-то делала стригущие движения мизинцами, задевала ноготь о ноготь,
раздавалось трескучее щелканье, оно бесило Вячеслава. Было мгновение, когда
он чуть не ударил ее наотмашь.
Вячеслав никогда не был таким грубым и яростным. С прискорбием
посетовал на самого себя, однако тотчас пожалел, что не сможет опять сделаться
грубым и злым, потому что в этой его грубости и злости была мужская
решимость, на которую он раньше не был способен и о которой робко мечтал,
обнаруживая ее в армейских сверстниках. И ему стало ясно: то, что вело его по
пыльному полынному пустырю и чего, возможно, избежал, хотя и не без
сожаления, оно вовсе не от Коняткина, а от того, кто он есть сегодня из-за
Тамариного предательства и, конечно, из-за темных сил, морочащих его своей
неотступностью.
Он мучительно зажмурился, стыдясь недавнего намерения; Тамара встала,
побрела по полыни. Не в город побрела, к далекому отсюда пруду. Пруд
вспыхивал яростным светом, будто солнечные лучи рвались, вонзаясь в воду.
Робко подался за ней. Как о чем-то недостижимо-спасительном, вспомнил о






