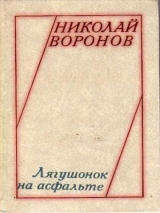
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
пистолет-пулемете, который был его личным оружием в последние месяцы
службы. Смерть представлялась ему всеразрешающей, и показалась нелепостью
людская боязнь гибели. Что может быть желанней: никогда никто не заставит
тебя страдать и ты ничем никому не принесешь горя.
Через минуту он уже забыл о желании всеоблегчающей смерти. Тамара
остановилась, вскинула на него прощающие черные глаза. Он бросился к ней.
Целовал и винился: самым гнусным образом настроился на подлость, да, к
счастью, пересилил себя.
Вернулись к шинели. От слез Тамара осунулась, и, хотя она повеселела,
лицо все еще дышало отчаянием. Собственное лицо ему виделось ласковым,
немного понурым от раскаяния.
– Любишь коноплю?
– Забыла на вкус.
– Быстренько нашелушу.
– Раньше я ловко отвеивала мусор от семян.
– И теперь сумеешь. Твоя матушка говорила моей и мне написала в армию:
ты, прежде чем варить рис, по зернышку выбирала. Упаси бог, чтобы камушек
попал или какая-нибудь чешуйка! Правда?
– А то нет. Да и что бы я там делала? Когда жили во Фрунзе, муж упросил
пока не учиться. А когда из Фрунзе переехали в Джалал-Абад, запретил и думать
об этом. Назира крохотная. Надо нянчить. Совсем не до учения. После он
запрещал со двора одной выходить, даже книги читать... Коран читай,
пожалуйста. На русском где-то добыл. Иногда несколько раз кряду перебирала
рис по зернышку. Наказание себе давала за жалость и покорность. Ну, и
заточение надо было вытерпеть.
Вячеслав сдирал метелки с конопли, бросал на дно фуражки. Тем временем
Тамара расстелила газетку, вытащила из папки книги и тетради. В папку
Вячеслав и опрокинул мохнатый, дурманно пахнущий ворох листьев и колосьев
конопли. Задернув молнию, Тамара начала бить ладонями по бокам папки.
«Не верит, – думала она. – У нас в городе ничего такого нет. Иногда и самой
не верится. Словно усыпил гипнотизер и внушил чью-то невероятную судьбу».
«Не такой я тумак, – думал Вячеслав, наклоняя над фуражкой коноплиную
вершинку. – До армии я бы не поверил, что такое может быть. Как это
инфантильно: быть уверенным, будто везде одинаковая жизнь. Но я и не такой
тумак, чтобы верить, будто никакой личной Томкиной вины тут нет. Получается,
он сманил ее и запер в четырех стенах. Может, ей хотелось, чтоб сманил?
Может, ей хотелось обмануться? Люди не всегда помнят, чего хотели, а если
помнят, то лукавят сами с собой и прикидываются жертвами... Страшновато, что
она закрытая для меня душа. И в чем-то, наверно, была? Была бы раньше
бесхитростная... А, чепуха! Каждый мнит: он – глыба, а набежал ветер – и
сорвало, закрутило, уперло незнамо куда».
Потряхивая папку, Тамара провеивала коноплю. Сухая зеленца курилась над
нею, лакированные зерна твердо сыпались на газету.
Вячеславу нравился дробный стук семян. Он косил на Тамару подобревшие
глаза и радовался тому, что все обошлось ч и с т о .
Вдруг Тамара показала ему язык, закрылась руками. Он бросился к ней,
оторвал ладони от лица, чмокнул в губы и, возвращаясь к фуражке, брошенной
на землю, посмеивался над собой. А он-то трусил, что не сумеет целоваться. Он
даже почувствовал к ней нежность, похожую на прежнюю, еще школьной поры,
и его словно бы сдвинуло в то время, и он застеснялся, когда Тамара села на
шинель и пригласила его полакомиться коноплей. Кроме того, он почувствовал,
что в ее душе произошла перемена: такого, по-мальчишески тревожившегося о
том, чтобы не заподозрила в дурных намерениях, она, должно быть, любит?
Коноплинки были спелые, полные, трещали на зубах. И Тамара огорчилась,
что Вячеслав отказался их есть – зернышка не попробовал, а потом и
опечалилась: он опять поугрюмел, заспешил домой, хотя и видно было, что ему
не хочется уходить.
«Боюсь Славку, – подумала Тамара. – Боюсь Назира. Какая-то вероломная
психология».
2
«Неужели Вячеслав приехал?»
Камаев остановился посреди сквера, шуршавшего лопушистой листвой
тополей.
Стена огромного дома, пепельного от темноты, поблескивала черным
лоском окон, и лишь в одной комнате горел свет. Эту свою комнату с эркером -
она выступала из стены фонарем – Камаев и его жена Устя называли
торжественно: зал. Недавно Камаев купил красный хлорвиниловый абажур, и
теперь воздух в зале рдел, как рдеет он на литейном дворе ночью, когда из
домны идет чугун.
Камаев прошел сквозь бетонный холодок арки. В кухне тоже горело
электричество. Возвращаясь со смены в такую позднь, он попадал в черное
безмолвие квартиры, пил на кухне чай, тихо пробирался к кровати, где спала
Устя. Обычно она лежала, придавив грудью подушку, и Камаев удивлялся, что
Устя спит, как в детстве, несмотря на годы и полноту, и никогда у нее не зачастит
сердце.
Конечно, Вячеслав приехал. Стало и радостно и обидно. Радостно потому,
что вернулся из армии сын, обидно потому, что он не сообщил о дне приезда.
Хотелось встретить по-людски: приготовить стол с груздями, черемуховым
маслом, холодным из телячьих ног, жареным гусем, пирогом из сомятины,
пельменями, да не такими – с заячий глазок, где и мяса не учуешь, а соку и
подавно, а такими, чтобы пить сок через откушенное ухо и чтобы мясо едва
помещалось во рту. Да созвать к этому богатому столу родню и друзей.
Вячеслав был навеселе. В полунаклоне к нему сидела Тамара Заверзина.
Волосы брошены на одну сторону, вокруг шеи тремя плотно подогнанными
нитками обвились крошечные, под жемчуг, бусы. Под прозрачным шарфом
золотели руки.
Камаев беззвучно закрыл автоматический замок, вдруг ясно представил себе
паляще-яркие глаза Тамары, потупился перед их призрачностью.
Щурясь, Вячеслав стиснул ладонь отца, молча любовался его голубоватой
сединой.
Изменился сын за два года. Щурится. Неужели близорукость нажил? И
чужой какой-то. Не расцеловал. Раньше вихрем бросится после разлуки, чуть с
ног не сшибет, на шее повиснет. И целует, целует, целует.
– Чего телеграмму не жахнул?
– Зачем зря расходоваться?
– Экономный какой!
– После, пап, пожуришь. Есть? Правда, пап, Тамара стала потрясающей
красавицей?
Камаев обогнул стол, поздоровался с дочерью Ксенией и ее мужем
Леонидом. Они сидели в обнимку.
– Пап, помнишь, я презирал Тургенева? Ради Полины Виардо, пусть она и
пела гениально, фактически переселиться во Францию! Виардо любит мужа и
не любит его, а он живет на задворках усадьбы, никакой надежды, и все-таки
живет. Пап, это ведь чудо! А я судил... Женщина может заменить все на свете.
Было бы у меня маршальское звание, смог бы отказаться ради женщины. Или
был бы в собственности целый океан, например Атлантический, отдал бы.
Верно, пап?
И в другой раз Камаев не ответил. Ксения, широконосая, с круглым
рубиновым румянцем на щеках, засмеялась. Леонид хитро подмигнул
Вячеславу:
– Гуляй, Славка, ешь опилки, я начальник лесопилки, – и прибавил без
балагурства: – Истосковался о девчонках под перышками локатора. Подержали
бы еще с годик на степном посту, куда бы слаще песню пел.
– Прими-ка, отец, штрафную.
Ксения поставила перед Камаевым стакан черной наливки.
Едва Камаев выпил наливку, Тамара встала. Ей нужно спуститься домой. В
эту пору просыпается Назира, просит кисель и печенье.
Голос Тамары звучал сипло, будто пересохло во рту. На миг почудилось: вот-
вот разрыдается.
Болью затопило сердце Камаева. Никчемной, жестокой показалась
неприязнь, которую он разжигал в себе. Собрался выпить мировую, но
передумал. Вячеслав умоляющим взглядом смотрел на Тамару. Ему ли
унижаться перед ней? Если не растеряла стыд, не допустит, чтобы уговаривал.
Еще и ущемляется. Сидела бы уж да казнилась. Камаев яростно покосился на
Тамару. Она смешалась, поникло села. Он увидел ее профиль, испугался,
ошеломленный. Действительно красавица! Волосы облачно пышны. Темная
бровь поблескивает. В губах негритянская припухлость.
Рассердился. Восхищен Тамарой, а сам же внушал семье ненависть к ней.
В комнату, прихрамывая, быстро вошла Устя. Она несла на противне пирог.
Из разрывов в поджаристой корочке попыхивало паром. Она испекла пирог из
моченой горбуши. Специально берегла к возвращению сына. И пирог, должно
быть, получился хороший, да вот горе, пока собиралась вынимать, корочку
прорвал сок и весь убежал. И хотя Устя досадовала на то, что вовремя не
выхватила пирог из духовки, это не убавило ее радости. Камаеву казалось, вся
она – от скособоченных туфель до шелковой косынки – сияет и потому, наверно,
миловидна, несмотря на слишком великие скулы, на широкую расщелину между
верхними зубами, на конопатость.
– Отец, попробуй. Ох, промахнулась нынче.
– Лучшего, зима-лето, пирога по всей России не найдешь.
– Д’ну тебя. Смеешься. – Довольнехонькая Устя шмыгнула носом и
примостила противень на деревянную пластину, столкнув с нее нарезанный
хлеб. – Родные мои, кушайте.
Прежде чем сесть, Устя жадно, с чмоканьем и постаныванием, поцеловала
сына. Его голова безвольно пошатывалась в ее руках.
Вячеслав ничем не отозвался на ласку матери. И едва она, все еще
трепещущая от счастья, опустилась на стул, Вячеслав отчуждающим движением
наладил зачесы на висках и похлопал Тамару по обвитому золотой цепочкой
запястью, будто просил не сердиться на несдержанность матери, дескать, детям
положено безропотно сносить обожание родителей.
– Со свиданием, сынок.
Устя потянулась рюмкой к рюмке Вячеслава. Камаеву не хотелось
подниматься. Подумал: сын ведет себя по-мужски, а он, отец, придирчиво
настроился против него.
Камаев стукнул донцем стакана о верх рюмки, дабы напомнить сыну, кто в
их семье глава и опора. Тамара потянулась чокнуться с Камаевым, но он резко
отдернул стакан и наливка плеснулась на скатерть. Накалывая на вилку
помидор, он заметил в глазах Тамары слезы.
«И так никудышная встреча получилась, тут еще она портит компанию», -
подумал Камаев, стараясь подавить жалость к Тамаре.
В знак протеста Вячеслав вылил свою водку в кадушку с лимонным
деревцем. Он включил радиолу, пригласил Тамару танцевать. Непринужденно
поддерживая ее за спину, с подскоком кружил по комнате. Подол платья
шуршал, а задевая выпуклый низ полированной горки, вызывал скрипично-
тонкий посвист. Лицо Тамары переменилось: будто из глухой тени она вышла на
открытое солнце. Из-под ее руки вырвало конец шарфа, он порхал, хлопал,
мерцал.
Устя восторженно смеялась и толкала локтем Камаева.
То ли так подействовала музыка, что лунная дорожка на пруду, а возможно,
вопреки собственной настроенности, он залюбовался Тамарой и сыном. Камаев
загрустил о том, что не было в его молодости ни красивых девушек, ни лунной
музыки, ни завидной одежды. Семнадцати лет начал скитаться по городам. Да
не один, с Устей, которую он, «голодранец несчастный», выкрал из семьи
кулаков Дедехиных. Жили в вагончиках, камышовых шалашах, в сараях из
ржавых, мазутных, гнилых шпал. Недоедания, поножовщина, пьянство,
лохмотья, насекомые. С горем пополам добрались до Железнодольска. Здесь и
осели. Верно, сперва пришлось жить в палатках. Потом бригаде плотников,
работавшей на площадке, где возводились домны, начальник строительства
разрешил сколотить барак. Среди счастливцев был и Камаев. Новоселье
справили, открывши настежь дверь, чтобы мог поздравить сосед соседа. Вскоре
Устя родила двойняшек: девочку и мальчика. Они погибли четырех лет от роду,
заскочив на салазках под грузовик. Устя, потрясенная гибелью детей, стала
заговариваться, ее поместили в нервное отделение заводской больницы.
Незадолго до этого горя Камаев устроился горновым. Стараясь забыться, часто
оставался возле домны на другую смену. Редко выдавалась свободная минута:
меняли сгоревшие фурмы, закрывая летку, мучились с паровой пушкой, которая
часто отказывалась перекачивать глину из цилиндра в цилиндр, выворачивали
ломами чугунный источающий огненные ручьи скрап, отогревали печками-
саламандрами перемерзающие водопроводные трубы. Домой приходил
изнуренный до крайнего бездумья, но спал тревожно, пробуждаясь оттого, что
видел, как при нем, стоящем возле кучи песка, захлестывает белой
жаропышущей лавой его детишек – Любочку и Андрейку, сидящих на санках.
Пронятый покорностью голос Тамары возвратил Камаева к яви:
– Сергей Филиппыч, приглашаю на танго.
Как в тумане он полез из-за стола.
– Почему не на этот, ну?.. Твист, во! Иль как? На шейк? На летку-еньку иль
на лётку-ёнку? Ну, почему не на поп-музыку?
– Мудрено, пап, сразу перескочить из феодализма в авангард, – улыбчиво
сказал ему Вячеслав.
– Человек – существо перевертливое.
– Тряхни-ка стариной, отец! – приказала Ксения.
Приноравливаясь к ритму танго, боясь ободрать кирзовыми сапогами туфли
Тамары, Камаев было повел ее в узком проходе между шифоньером и столом, но
внезапно даже для самого себя остановился и досадливо поморщился:
шершавая, черствая, словно кокс, ладонь пристала к гладкому эмалево-зеленому
Тамариному платью и, отделяясь от спины, рвала ворсинки.
Шутливым толчком плеча Леонид отстранил Камаева от Тамары, подхватил
ее, двигаясь назад плавным, длинным, припадающим шагом, повлек за собой.
Он был ниже Тамары, задрал подбородок для осанки. При своей ранней лысине,
в куртке из вельвета с почти вытершимся рубчиком, в пузыристых брюках с
пятнами масла, он казался бы жалким рядом с Тамарой, если бы в ямке на его
щеке не брезжила ухмылочка, что он осознает свою неказистость и танцует
лишь для того, чтобы потешить присутствующих и самого себя.
Едва закончилось танго, Тамара, потупившись и ни к кому не обращаясь,
пролепетала «до свидания» и пошла из комнаты.
Камаев скручивал кисти скатерти. Хотя он и не смотрел на уходящую
Тамару, видел ее так четко, будто провожал взглядом: она взмывала из стального
стука высоких каблуков.
– Мама, Ксень, дядь Лень, я провожу Тамару? Ладно? – спросил Вячеслав.
– Проводи, проводи. Она далеко живет. На двадцать две ступеньки ниже.
– Не в ступеньках дело, Сергей, – одернула мужа Устя. – Мы подождем,
Славик.
«Началаа, зима-лето, поважать Славку, – подумал Камаев. – Ишь, как ласково
отпустила. У самой небось плач к горлу подступает. Ждала-ждала, наглядеться
не успела, а он в первый же день побежал миловаться. Копейка цена материной
и отцовой тоске».
– Теперь солдата на рассвете жди, – сказал, позевывая, Леонид. – Подадимся,
супружница, восвояси.
– И не выпили как следует, – промолвила жалобно Устя.
– Какая при Ксеньке выпивка? Все равно что езда с ограничителем.
– Уважь, дочь, пусть выпьет.
– Нет и нет. Ты пьешь да только краснеешь и сроду не качнешься. Леонид
куреанок: раз – и сварился.
Возмущенный Камаев налил в стакан водки, залпом выпил.
– Сын вернулся. Плясать надо! – сказала Ксения. – У парня организм гудит.
Так уж, думаешь, женится на ней. Сгонит кровь... У них не как у нас. Чего мы не
смели, им как воды напиться. Хоть ты голову расшиби, им нашего не внушить.
Укорачивай не укорачивай – пустой укорот. Создалось, и катится, и ничего не
сделаешь.
– Хватит ораторствовать, дочь. Вещунья выискалась. Леонид, ты прищеми
Ксеньке язык. По-капитулянтски высказалась. Про бессовестность разве так
судят? Ых, зима-лето!
3
Камаев не надеялся, что Вячеслав быстро вернется, но решил не
откладывать с ним разговор и лег на диване в детской комнате. Подтолкнул под
затылок ладонь.
Дверь на балкон была открыта, ветер пошатывал сетчатую занавеску, ее
тенью накрывалом л а д ш е н ь к о г о – так Устя и Камаев называли между
собой последыша Васю.
Вася лежал голенький, одеяло в ногах. И что за человек?! Младенцем, как ни
увязывали, распеленывался. Распеленается, с тем и уснет. Чуть подрос – одеялом
стали укрывать, с того времени и спит голенький. Сегодня лег совсем недавно, а
уж сбрыкал одеяло.
Камаев укрыл Васю и подумал, что и этот сын, повзрослев, тоже
превратится в парня, для которого какая-нибудь девка-гулена будет роднее
родителей.
Вася вдруг заерзал и крикнул:
– Ширну-мырну, где вымырну?
Вчера вечером, когда купались на Соленом озере, Вася подплыл к нему
веселыми саженками.
– Лешки Темкина отец – вредина. Он на своего отца говорит: «Навязался ты
на мою шею, старый кочан». И еще он говорит дедушке Герасиму: «Больно
много сладкого лопаешь».
Камаев улыбнулся. Славный Вася мальчуган. Задержать бы его подольше в
детстве... Неужели, когда он вырастет, люди не станут сознательней?
Вскоре в спальню вошел Вячеслав. Он огляделся и заметил, что отец не
спит. Не осмеливался заговорить, мучительно покачивал туловищем. За этой
маетой Камаев угадывал растерянность, мольбу, отчаянную решимость и сейчас
объяснял поведение Вячеслава не черствостью, а тем сложным чувством,
которое сын уже нес в себе до его прихода: Устя, нет сомнения, рассказала, как
он относится к Тамаре. Да, да, он настроен непримиримо, не сможет не быть с
нею непримиримым.
– Что случилось, папа?
– С тех пор целая эпоха прошла
– Эпоха кого, чего?
– Раньше она была девчонкой.
– Женщина – страшно, что ль?
– Для тебя страною. И для меня, поскольку я тебе не чужой.
– Тамара не изменилась.
– Не глупи.
– Изменилась, верно. Она все просматривает через то, что у нее дочь.
Благородное изменение, пап! Золото платиной не испортишь.
– Веками у нас в России честь девушки была великим достоинством. Ежели
девушка до свадьбы уронит честь – ославят, покарают. Жестоко? Зачастую нет. И
в парнях высоко ценилась нравственность, их жучили за плохое поведение.
Короче, стыд был у девушек и парней. Он прививался с детства. Народ охранял
свое здоровье, даже, уверен, – будущее. Распутство губит народ. Римлян
возьми... У них были и другие пагубы... Но разврат был не последней причиной,
почему великий Рим улькнул, как под лед.
– Не надо вдаваться в историю, пап, мы плохо ее знаем. Смешновато, что ты
примеряешь наш с Тамарой случай к истории.
– История составляется из отдельных случаев.
– Женюсь я на Тамаре или не женюсь, история и ухом не поведет. От этого
ничего не изменится в обществе.
– Любое человеческое действие что-то изменяет, К собственным поступкам
и к поступкам вокруг нас нельзя относиться без серьезности.
– И без юмора.
Камаев рассердился: сын наверняка согласен с ним, а хорохорится,
насмешничает, иначе и не воспринимает его тревогу, как обычный
воспитательный момент.
В душе у Вячеслава уже перегорело то, о чем толковал отец. Встреть его
отец несколько часов назад, заговори об этом, он бы нашел в нем рьяного
сторонника и обвинителя, но теперь Вячеслав смотрел на прошлую и недавнюю
ненависть к Тамаре, как на небо, которое ветер очистил от мрачных туч, и
хотелось, чтобы оно долго оставалось свободным и ясным. Правда, споря с
отцом, Вячеслав испытывал смущение: так легко отступиться от строгих
представлений, утвердившихся в нем после Тамариной измены, да еще и
ломиться против них. Но чем резче он сознавал противоречие своего поведения,
тем большее неприятие испытывал к мыслям отца. И все-таки главным в
настроении Вячеслава было не это, а то, что он сумел скрутить в
себе к о н я т к и н с к о е , что простил Тамаре и что скоро она вся будет его, а
потому, какими бы мудрыми и высокоморальпыми ни были настояния отца, он,
Вячеслав, ни от чего сиюминутного не отойдет: ведь в этом и его и Тамарино
счастье.
– Сын, у меня не было охоты доказывать... Коль уж тебе втемяшилось... Что
у нее во Фрунзе получилось? Писала тебе: ждет, любит. Одновременно писала
матери: парень сватает. Что делать? Мать посоветовать не успела, Томка уж
окрутилась. Даже десятилетку не окончила. Первого встречного-поперечного
выше тебя поставила, выше ученья. Здесь, едва отдышалась, морячок появился.
– Морячок в загранку ходил, в Коломбо, например. Тамара любознательная!
Кстати, она сразу морячку сказала: «Не надейся, у меня жених». Есть в мире
просто человеческие отношения. Ни корысти, ни... Духовные!
– Ты, ты... Она красовалась на подоконнике в его кителе.
– Чего тут такого?
– Не дождалась. Чего тут такого? Морячка в квартиру заводила. Чего тут
такого? Целовались. Чего тут такого?
– Врешь?!
– Кому ты – «врешь»? Сам видел.
– Прости, пап.
– Ты в животном запале, все нипочем, лишь бы...
– Зато ты в чужеродном состоянии. Впрочем, подозрительность затмила ум.
Не можете вы, чтоб права не качать, не прорабатывать, к земле коленом не
придавливать!
Они пререкались шепотом. Но едва Камаев назвал состояние сына
животным запалом, Вячеслав повысил голос до металлического звучания.
Выкрикнув обличительные слова, он бросился на балкон.
За годы труда на домнах Камаев, от природы вспыльчивый и норовистый,
научился умерять свою горячность. Причем удачней всего он останавливал себя
в те минуты, когда чувствовал, что вот-вот в споре или препирательстве с кем-то
из цеховых он сорвется, и тогда уж не будет на него удержу. Вроде бы делал
чуточное усилие, чтобы вернуть самообладание, а получалось прочно: миг – и
спокоен, и это внезапное спокойствие для его противника, будто набег ветра в
стужу и среди степных снегов: задержит, бросит в оторопь, прояснит сознание.
Невыдержанность Вячеслава взвилась в душе Камаева почти до вспышки, и
он ощутил себя незрячим, и шел до балконной двери, вытянув руки, и заранее
испытывал удовольствие от того, как гаркнет на сына и как сын вздрогнет и
оробеет и после этого будет побаиваться с ним схватываться. Но Камаев не
гаркнул, сказал, улавливая холодок в собственном дыхании, что
подозрительность, ханжество, насилие совсем не подходят тем, к кому он их
прикрепил. Пора бы ему дозреть до понимания людей, кем держалась и
возвышалась и кем держится и возвышает себя Россия.
Вячеслав с опаской всматривался через дверные стекла в лицо отца, словно
забыл его и силился вспомнить.
Когда Камаев вернулся в глубину комнаты, из-за домов выхлестнулось
шлаковое зарево. Шифер крыш подернуло кремоватым отсветом. На красной
черноте небосклона Камаев увидел голову сына, мучительно запрокинутую к
спине.
4
Солнце стояло в окне кухни. Уха, которую ел Вячеслав, золотела чешуйками
жира. Блестела седина отца, блестели щербатые зубы матери, блестела
крахмальной белизны рубашка Васи. Вода, налитая в ведро, отбрасывала блик
на картину. От блика стекленели на картине голубой бок вола, пахарь,
собирающийся закурить трубку, лошадиный череп на краю поляны.
Ни к чему солнце, если нужно забывать Тамару. Хочется, чтобы был дождь.
Натянул бы плащ, поднял воротник – и на улицу. Мокрядь. Листья, приникшие к
тротуарам. Сырые трамваи, проносящие свое шурхающее жужжание.
Что сегодня на уме у отца? Наверно, сожалеет о ночном разговоре?
Пожалуй, нет. Скорей хвалит себя за то, что открыл глаза на Томку. Как она была
ласкова вчера! Даже целовала руки! И он не сомневался, что она любит его по-
прежнему. Конечно, любит. Но ее, должно быть, мучило угрызение совести, и
потому она целовала руки. А может, она в самом деле ветреная? И так ласкает
всякого мужчину, который правится? Его тоже тянуло к другим девушкам. Но
почему он мог сдерживаться, а она не сдержалась? Конечно, это было
изнурительно, но все-таки он преодолевал отуманивающий зов и чувствовал
себя чистым каждым вздохом, каждой жилкой, каждым помыслом и терпеливей
и горячей любил Тамару.
Позапрошлым летом сержант Борбошко затащил его на именины к своей
невесте. Когда надоело петь и танцевать, кто-то предложил играть в «бутылку».
Вячеслав не захотел играть. Все встали в круг, а он сел на спинку кресла и не
придал значения тому, что Борбошко разомкнул круг напротив кресла. Первой
вертела бутылку озорная мордовочка Лиза Таркина. После того как бутылка
замерла, Вячеслав увидел, что горлышко целит на него.
– Га, здорово! – крикнул Борбошко.
Вячеслав вскочил, чтобы удрать, но Лиза подлетела к нему и поцеловала в
губы. После ему было тяжело, будто он предал Тамару. А она? Никогда он ей не
простит. И свое вчерашнее прощение считает пошлым, ничтожным. Рассолодел.
Ластилась, ручки целовала. Морячок-то?... Ходил в загранку. Занятные
рассказцы. Заморских женщин, чать, обнимал? Умелый усладитель! Как мощно
шарахнул по моим мозгам отец. Наблюдательный – глаза навыхлест.
Встал. Мать сбивает яичные белки и сахар. Подняла пружинную сбивалку,
шаловливо слизнула глазурно-белый сладкий клок.
Отец налаживал механическую бритву. Щетина у него плотная, но мягкая, а
у него, Вячеслава, жесткая. Попробовал побриться механической бритвой, да
испортил. Пришлось доставать из чемодана безопаску.
Бритву, когда Вячеслав шмурыгал ею по щеке, заело. Камаев нажал
отверткой на шестеренку, и нож опять начал вращаться, но не сек волос, а
застревал, и при этом срывался завод бритвы. Гадая о том, что же стряслось с
механизмом, Камаев повторил в воображении сцену за столом, когда он не
чокнулся с Тамарой, и она обиделась, и чуть не заплакала, и скоро ушла. Он был
доволен, что не стал с нею чокаться, но вместе с тем ему думалось, что можно
было обойтись без этой демонстрации: какое-то все же неблагородство. Одно
дело решить для себя, что Тамара недостойна Вячеслава, и добиваться, чтобы он
не связал с нею судьбу, и совсем другое дело – выказывать неприязнь.
Вячеслав машинально ел пирог, разглядывая картину на стене наискосок от
него. По существу, на ней вся жизнь человека: мир его деятельности – земля,
орудия его труда и существования, думы его и то, что его ожидает. Тем еще
дорога картина, что на всем в ней голубой свет, потому, наверно, от хлебопашца,
от неба, от поля с полосой перевернутых пластов, от быков, сохи и черепа,
лежащего на траве, какое-то веяние доброты, здравого смысла, естественной
заботы, которую вызывает порядок природного круговорота.
Вячеслав отодвинул от себя тарелку, вынул из мундира бумажник. Рвал из
бумажника и бросал на стол документы, вырезки из газет, фотокарточки.
Крохотную фотокарточку выделил: мордашка Тамары, еще школьной поры, – и
положил в карман, все остальное сгреб, унес из кухни.
Среди снимков, которые Камаев успел разглядеть, был один, почему-то
круто омрачивший его настроение: на облаке огня стояла ракета, похожая на
серебристый карандаш; по краям от облака глубоко просматривались равнина и
небо; и через равнину и небо тянулся легкий, но зловещий сумрак. Камаев
подосадовал на себя. Почему-то омрачился от обычного снимка, сделанного в
момент взлета ракеты. И вдруг его сознание соединило этот снимок с картиной,
и таким древним, невозвратимым представился мир пахаря, что он чуть не
зарыдал.
5
Вячеслав и Тамара договорились встретиться в десять утра. Он свистнет с
парадного крыльца, она услышит и сбежит вниз. До назначенного времени
осталось полчаса. Удобный момент уйти незамеченным.
Он велел Васе не стучать ботинками, спускался, прихватывая пальцами
перила. Перед дверью квартиры, где жила Тамара, задержал дыхание.
Тамара сидела на подоконнике в своей комнате. Она радостно захлопала в
ладошки, едва он появился во дворе. Вячеслав представил себе Тамару в черном
кителе морского офицера, на рукавах золотятся шевроны. Он прибавил шаг.
Вася трусил сбоку.
– Ты что от Томки удираешь? Поссорились?
– Идет за нами?
– Идет.
За аркой открылась широкая крутая улица. Когда Вячеслав приезжал в
отпуск, на противоположной стороне еще не было зеленовато-серых зданий,
мерцающих слюдяным крапом, и поэтому он не увидел ни полынного косогора,
ни пруда, рыжего в бурю, ни левого берега, кажущегося осевшим под тяжестью
металлургического комбината.
– Идет за нами, – тревожно сказал Вася.
– Шибко?
– Хочет догнать.
Хотя Вячеслав растерянно придумывал, что предпринять, если Тамара его
догонит, он по-прежнему удивлялся тому, что город далеко раздвинул свое
правое крыло. Воронел асфальт, сквозь листву лип вкрадчиво процеживался
сквозняк, серебрились балясины балконов, а перед ними то тут, то там
покачивались в ящиках ромашки, гладиолусы, георгины. Между вогнутыми
домами сверкнула площадь кривыми рельсовых путей.
Вася было потащил Вячеслава через площадь, но повернул обратно:
наперерез устремилась девочка с красной повязкой вокруг локтя.
– Чего обратно тянешь?
– Я тоже дежурю. Приучаем правильно пересекать улицу. Айда быстрей.
Томка близко.
Они миновали вогнутый гастрономический магазин, помчались поперек
шоссе. Вася игриво подпрыгивал. С мостовой нырнули в калитку железного
забора. Забором была огорожена стройка.
– Сла, она хохочет. Хватит шутить. Жалко, у морячка отпуск кончился. Вы
бы с ним днем гоняли на скутерах, вечером бы в парк.
Вася на минутку остановился, подергался, танцуя.
– Я плохо умею модные танцы, – сказал Вячеслав.
– Ты отстал. Теперь модно танцевать, как вздумаешь.
– Эк запузырил! – изумился Вячеслав.
– Позорники мы. Плачет. Хохочет и сразки плачет. Да ну ее!
Вася будто бы подосадовал на Тамару, в действительности он расстроился.
И чего Славка взбрыкнул? Вчера, когда Вячеслав вернулся домой с Тамарой,
Вася обрадовался: он любил Тамару и даже сказал на днях матери: «Если Славка
не женится на ней, я женюсь».
Вася уперся руками в поясницу Вячеслава и стал толкать его к дому,
собираемому из светлотелых панелей. Внутри строения их осыпало чем-то
горячим. Они прижались к стене. Сверху, из-под электрода, который курился
лунным дымком, падали оранжевые капли. Сварщик стоял на коленях. Из-за
фибрового щитка, под стеклом которого возникало зеленое напряженное око, он
производил впечатление неземного существа, подпирающего спиной синюю
высоту. И Вячеславу захотелось перенестись на место сварщика, казаться людям
неземным существом, дышать небом, соединять панели и не ведать, что есть на
свете Тамара Заверзина.
Близ сварщика возник рабочий – фуражка козырьком назад, майка
приподнята кудрявой шерстянкой, подступившей к самому горлу.
– Эй, друзья, валяй отсюда. Зашибчи может.
Опять падает жалящий оранжевый дождь. Они бредут обратно: туда, откуда
вошли в здание. Тамара сидит на бумажных мешках с цементом. Как сиротлива
сейчас Тамара. Чудится, что пригорюнилась не только она сама, но и ситцевая
сумочка, висящая на согнутом пальце. Сесть бы рядом, прижаться, гладить
волосы. Нельзя! Невозможно! Никогда, никогда не простит. Невозвратным
человеком пройдет мимо, и ничто в нем не дрогнет, если она даже зарыдает. Вот
теперь, в эту секунду, его сердце словно очугунело и бесчувственно гонит кровь,
как движок речную воду.
Приближаясь к Тамаре, он все ясней ощущал вкрадчивые наплывы чего-то
томительного.
Куда девалась его холодность и почему он трепещет от нежности? Наверно,
любовь, однажды возникнув, приобретает над человеком вероломную власть?
Вася насупился, пинает дорожную пыль.
– Не пыли.
Вася поддел ботинком толченную колесами землю.
– Тебе чего сказали?
– Сла, позову Тамару?
– Зачем?
– Прошлой зимой мы с папой на речку ездили. Папа ельцов ловил. Мне их
жалко. Меня бы кто поймал, было бы хорошо? А сейчас бы я лег на поляне,
жаворонков слушал. Знаешь, как солнце зайдет за тучку, они падают в траву.
Мама дома или мы где-нибудь вместе с мамой – прямо солнце и вроде






