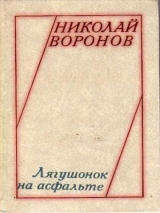
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Владька что-то буркнул и, наверно, чтобы ни мальчишки, ни Маша не
рассмотрели выражения его лица, стал сверху вниз приглаживать пятерней
челку и проволок пальцы до самого подбородка.
Маша пошла к дебаркадеру. Для блезиру весело размахивала фибровым
чемоданчиком. Слышала, как они отъезжали. Не обернулась. Встала рядом с
цыганом, который, лежа грудью на перилах, следил за поплавком, качавшимся
среди подсолнечной лузги. На отмели барахтались цыганята. Над ними
провисала цепь, протянутая от дебаркадера к огромному якорю, больше чем
наполовину врытому в берег – торчат из земли рог да кольцо. Около якоря спал
спиной к небу богатырь в броднях, прорезиненных штанах, в тельняшке. Чуть
повыше, по гальчатой тропке, ходила девушка в белом платье. Она все смотрела
туда, где сливались реки.
Сверху, из ресторанного окна, время от времени басил толстяк с фиолетово-
свекольными щеками:
– Вербованные из Грузии, соберитесь в комнате отдыха в час дня.
Вдоль многолюдной, пышущей жаром очереди в билетную кассу слонялся,
плача и жалуясь, пьяный длинношеий старик:
– В пятьдесят шестом начали выживать. Так и выжили. Терпенья не хватило.
И никакой на них управы. На погибель свою на Север еду.
От всего того, что наблюдала, у Маши вдруг сладко заныло в груди. Почему-
то захотелось никуда не уходить с пристани, запоминать людей, которых увидит,
и узнавать, кто они, куда собираются плыть и по каким причинам. Она
почувствовала, что в ней произошло загадочное, но радостное изменение:
словно она видела мир сквозь послесонную дымку, теперь эта дымка развеялась
то ли от веселого парного утренника, то ли от вспышек солнца на воде.
Пристально посмотрела на цыгана, он не шевельнулся и не моргнул с того
мгновения, когда остановилась рядом. Неужели весь сосредоточен на поплавке?
Может, он только уставился на поплавок, а сам о чем-нибудь размечтался? Или
ему просто захотелось понять, для чего он плавает и ездит, зачем он и цыганята,
брызгающиеся на отмели, нужны на земле? Или, может, думает о том, что никто
и нигде не понимает цыганской души, и потому ему кажется, что жизнь глупа и
жестока. Едва Маша перестала гадать о том, чем поглощен цыган, как
вспомнила об отце («Мечтала о встрече с ним, а сама же оттягиваю»), о Владьке
(«Неужели из такого буки получится ученый?»).
Маше не верилось, что мужчина, принявший у нее чемодан и застенчиво
пригласивший войти в комнату, ее отец. Отец бы рассиял. Отец бы обнял и
поцеловал. Кроме того, ее отец – высок, а этот человек среднего роста. Да и
вообще он ничем не походит на того отца, каким создало его ее воображение: ни
ртутно-седых прядей в волосах, ни умных глаз, в которых никогда не убудет
печаль – столько горя и смертей видел во время войны. И вид не инженерский.
Мама говорила: «Папка твой рабочий, но взглянешь на него и подумаешь -
закончил металлургический институт и работает где-нибудь на мартене».
Преувеличила мама, еще как преувеличила. И ничем он не отличается от
семейных немолодых рабочих с нашего комбината: кирзовые сапоги, темные
брюки, вельветка с «молнией». И лицо как у всякого, кто работает в горячем
цеху: цветом напоминает красную медь, окислившуюся от дождей, ветров и
солнца. В одном он схож с тем отцом, о котором рассказывала мама: канавка на
подбородке. И эта канавка нравится Маше – от нее подбородок мужественный и
словно зубилом вырублен из чугуна.
– Не помнишь меня? – спросил отец.
У окна, держа на спицах шерстяное рябиновое вязанье, сидела молодая
полная женщина. Щеки алые, как будто она только что отошла от раскаленной
докрасна плиты. Шея до того свежа, что заметно ее мерцанье.
– Где упомнить? Игорешке пять доходит. . Сколько тебе, Машенька, было,
когда он уехал от вас?
– Мама говорила – три.
– Вот и упомни тебя.
Маше стало жалко мать: бледная, верней желтая, усталая, пожилая. Ей вдруг
захотелось бежать, бежать из этого дома и никогда сюда не возвращаться. Но она
сдержала себя. А отец сказал:
– Крохой, Маша, ты страшненькая была. Не гадал, не думал, что ты
выправишься... Красавицей сделалась! Лиза, скажи, а?!
– Ты бы не внушал дочке, чего не нужно. Возьмет да вберет в голову что-
нибудь такое. Рано ей собой любоваться. Ой, что же мы, Машенька, и не
спросим, как ты добиралась.
– До Домодедова на самолете Ил-18.
– И не забоялась?
– Не. С аэродрома до Москвы электричкой. До вас на тепловозе.
– Вот и ладно. Только надо было известить... Встретили бы. Такси взяли.
– Я люблю ездить на пешкомобиле.
Константин Васильевич, застенчиво смотревший на дочь, улыбнулся.
– Самый надежный транспорт.
Он потер о вельветку руку и словно положил на воздух перед Машей.
– С приездом, девочка.
Потянул было дочь к себе, но вдруг насупился, затоптался на месте.
Немного погодя поднес ее ладонь к глазам, углядел на ней белый зигзаг и
вздохнул:
– Так и осталась метка. Знаешь, от чего?
– Мама рассказывала.
Однажды Маша (было ей годика полтора) несла в тонком стакане воду,
чтобы полить на балконе цветы, упала. Отец собирался на охоту, бросился на
крик, увидел, кровь бьет из ручонки, перехватил запястье шнуром, в охапку ее и
бежать в больницу. Был в болотных сапогах, а бежал как олень. На охоту,
конечно, не поехал. И шибко переживал, пока не зажила ладошка.
Рассказ про этот случай мать заключила возмущением:
– И все-таки бросил! – И, сникая, недоуменно спрашивала саму себя: -
Почему люди меняются?
– Машенька, – сказала Лиза, – ты давай полезай в ванну. Освежишься с пути.
Мы тем временем кое-что сообразим.
Моясь, Маша слышала беготню в квартире и хлопанье дверей. Посмеивалась
над собой: «В честь моего приезда готовится прием. Не хватает только
Георгиевского зала, правительства и космонавтов».
Ей нравилось сиянье широконосого крана, вода, колебания которой
отражались скаканьем зайчиков на стенках ванны, и собственное тело; оно было
легкое, золотеющее от чуточного загара; она рассматривала его, гладила,
чувствовала, как собственный взгляд и эти поглаживания вызывают волнение,
сопровождающееся желанием сжаться в комочек.
Возле двери в комнату ее встретил мальчуган. Он держался за плитку
шоколада, торчавшую из кармана распашонки. Маша догадалась, что это
Игорешка. Подняла его и, заслоняя им лицо, вошла в комнату.
Отец забрал у Маши брата и сказал:
– Не бойся, рабочий класс не сглазит тебя. Сглаз лишь в деревне случается.
Да, Лиза?
Люди, находившиеся в комнате, засмеялись. Наверно, вспомнили какую-то,
рассказанную Лизой, историю про сглаз. Корабельников предполагал, что жена
рассердится, и, когда она ткнула его в бок, охнул и засеменил вокруг стола. Все
опять засмеялись.
Маша села рядом с Лизой, и та объяснила ей, что у них всегда весело
дурачатся в компаниях.
Отчим не любит компаний. Особенно дома. Сходит к магазину, с кем-нибудь
раза три «нарисует» бутылку и припрется чесать кулаки. Хотела сказать об этом
Лизе, но передумала.
Отец поднялся и предложил выпить за Машу.
Гости – подъездные соседи Корабельниковых – загудели, закивали, одобряя
тост. Рыжий худющий машинист коксовыталкивателя Коля Колич – так называла
его Лиза – подошел к Маше со складным алюминиевым стаканчиком,
наполненным водкой.
– Головастая молодежь растет. И ты, должно, толковая. За тебя и за всю
молодежь. Чтобы не выпала на вашу долю война, как на нашу с твоим отцом.
Маша чокнулась с Колей Количем, с отцом, с Лизой и с теми женщинами и
мужчинами, кто дотянулся до ее рюмки. Пить не стала – приложила губы к
рубчатому стеклянному боку. Коля Колич похвалил ее за это и стал
высказываться: дескать, обвиняют современную молодежь, что она пьет, а она
пьет, да не вся – тому примером Константина Васильевича дочка.
Впервые Маша казалась себе взрослой. Никогда раньше не устраивались
ради нее застолья.
Отец следил, чтобы Маша ела. Подкладывал свежих огурчиков, красновато-
перечного карбоната, нарезанного тонкими пластиками, сазаньей икры, которая
похрустывала на зубах рыжими поджарками.
Интересно, если б сейчас рядом сидел Владька, ухаживал бы он за ней? Куда
ему? Галуа... А кто такой Галуа? Надо посмотреть в энциклопедии.
Тут Лиза обнаружила, что Игореша давеча, в коридоре, не отдал сестре
шоколад. Она принялась его журить, но Маша выручила: соврала, что у нее
отвращение к шоколаду.
– Она к шоколадкам не привыкла, – внезапно по-взрослому заявил
пятилетний Игорешка.
Пили часто, как бывает, когда приятный повод и гости дружны и веселы.
Тосты говорили то Коля Колич, то его жена – вахтерша с металлургического
завода, сидевшая за столом в черной суконной гимнастерке.
Тост за знакомство Маши с батькой и Елизаветой. Тост за то, чтобы не
забывать родителей. Про себя Маша добавила: «Чтоб отцы не бросали детей».
Чтоб снижались цены на продукты и товары. Чтоб уладилось с китайцами.
Константин Васильевич отяжелел, сами собой смыкались веки: пять смен
отработал в ночь.
Маша сочувственно спросила его:
– Не пора ли тебе поспать?
– Правильно, – сказала Лиза. – Чего перемогаться? Отдохни. Вечером пойдете
с дочкой на море. Игорешку захватите. Я хозяйством займусь.
Маша не надеялась, что он пойдет спать. По Железнодольску знала: никто из
мужчин не ложится спать, пока в компании не выпивается подчистую вся водка,
а другую уже негде или не на что купить. И велико было ее удивление, что он не
оскорбился, не стал куражиться, не взглянул на початые емкости с
поблескивающей дрожащей «Столичной» и даже сказал:
– Ты меня, дочка, не суди. Уходила меня ночная смена.
– Укатали сивку крутые горки, – сказал Коля Колич и прибавил, весело
повысив голос: – Жизнь, жизнь, хоть бы ты похудшела.
– Иди, папа, иди.
– Лишний раз убедился – сознательный у нас род. Раскопаю, что за
прабабушка с прадедушкой заквасили в нашем роду эту линию, обелиск
поставлю.
Смеясь, Лиза ткнула мужа в плечо.
– Иди, обелиск.
Маша отодвинула стул, чтобы отец мог пройти между столом и комодом в
детскую. Опять удивилась, почему создалось у матери впечатление, что
он лесина.
– Мама все твердила: ты во какой! – она вскинула над собой руку. – Почему?
– Усадка произошла. Старые растут в землю, молодые – в небо. И женился на
низенькой. Подлаживаюсь. Пропорцию надо соблюдать.
Место Константина Васильевича попеременке занимали гости. Первым
подсел к Маше Коля Колич. Тем, что был прост – весь на виду до самого
донышка души, он сразу понравился ей. Коля Колич спросил, думает ли Маша
учиться после десятилетки. Маша собиралась учиться, только пока не решила -
в каком институте. Коля Колич огорчился.
– Я-то подумал – пойдешь на завод. Биметаллическую сетку, к примеру,
ткать, стерженщицей у электрической печи...
Перед тем как увести Колю Колича на прежнее место, охранница в черной
суконной гимнастерке попросила Машу не судить его за докучливость и с
гордостью промолвила:
– Он у меня патриот рабочего класса!
Потом к Маше подсаживались асфальтоукладчица с ладонями, смазанными
зеленкой, слесарь электровозного депо, водопроводчик из доменного цеха,
аккумуляторщица, мотористка транспортера. Они расспрашивали Машу о ней
самой, о матери, про отчима, охотно рассказывали о своем производстве, о себе,
о родственниках. Интерес, который они испытывали к Маше, к ее окружению и
к тому, что занимало ее и это окружение, их добросердечность и откровенность
так трогали ее, что она чуть не заплакала. Из взрослых такой по-родному
пристальный интерес ко всему, чем она жила, проявляли в Железнодольске лишь
мать да англичанка Татьяна Петровна. Конечно, было бы иначе, если бы у Маши
выдавалось побольше времени, когда бы не надо было бояться, что не успеешь
приготовить уроки, убрать в квартире, сварить обед, помочь матери в
гастрономе, и если бы отчим знался с хорошими людьми и разрешал Маше
наведаться к соученицам домой. Стоило Маше забежать к подружке, поболтать с
ней да посмотреть телевизор или послушать ее игру на пианино, отчим
обязательно узнавал об этом, изводил мерзким словом «похатница».
Когда отец проснулся, гости уже разбрелись. Он, Игорешка и Маша
спустились по улице Верещагина к зеленому дебаркадеру и поднялись на второй
этаж, в ресторан.
Ни угла суши, который бы назывался стрелкой, ни грузового порта, над
которым бы, обратив друг к другу клювастые головы, замерли краны, словно
думая о чем-то печальном и важном, ни плавучих вокзалов, откуда водой можно
доехать до двух морей, – ничего такого в родном городе Маши не было.
В ее городе есть только пруд. Правда, огромный. Но плавают по нему лишь
ялики, каноэ, байдарки, скутера, катамараны, яхты. Единственный кораблик -
однопушечный катер, принадлежащий морскому клубу, – все время стоит на
приколе.
В открытые окна ресторана толкался ветер. Шторы, сшитые из капрона,
плескались, как рыбы хвостами.
Поднимет Маша глаза, посмотрит в окно, и все ей видится точно сквозь
тонкий туман: теплоход, рулящий к причалу, зыбь речного простора, длинная
деревня на том берегу. Потом вдруг начинает чудиться, что все это во сне и
стоит пробудиться, как возникнет комната, где она ночует на раскладушке,
втолкнутой меж стальными синими кроватями, принадлежащими сестре и
матери Хмыря.
Зажмурится Маша, отвернется от окна и тотчас с горькой решимостью
распахнет веки. Сон так сон. И ее сердце екнет от радости. Перед ней отец в
футболке, зашнурованной на груди. Он наливает пиво из витой бутылки. Слева -
Игорешка, уплетающий мороженое. Он уже уплел три ядра пломбира -
малинового, черничного, сливочного. И опять ему принесли три ядра.
Если бы отец не уехал от них с мамой, то он бы водил Машу в кафе-
мороженое на проспекте Металлургов. А так она бывала в кафе-мороженом
редко: в праздничные дни, когда мать давала ей по рублю.
Отец заказал Маше осетрину на вертеле. И теперь Маша, выдавившая по его
совету сок из лимона на кусочки осетрины, ела, растягивая удовольствие. От
лимонного сока и забористого соуса сушило в горле. Томила жажда. Словно
пришлось долго играть в баскетбол. А тут еще Игорешка брал ладошками бокал
и пил брызгучий апельсиновый напиток.
Перед ней стояла бутылка с напитком, но она не открыла ее, мечтая погасить
жажду гладким, ароматным, студеным пломбиром. Отец тянул пиво и оглядывал
зал. Едва туристы, сблизив лица, заводили песни, он замирал, лишь двигались
его крупные пальцы, скользя по ножке фужера. Но как только принимался
бормотать старик, сидевший за соседним столиком, отец словно бы терял
внимание к песне и поворачивал к нему сострадающие глаза. Ко всем в
ресторане отец, казалось, был расположен, кроме гривастого толстяка. Он
становился хмурым, даже гневным, когда толстяк кричал в окно, объявляя, что
даже для вербованных из Грузии, едущих на Север, завтра подадут специальный
теплоход. Всего охотней взгляд отца задерживался на солдате и девушке с
гейзероподобной прической. Маша дала себе клятву: когда станет невестой,
будет носить грандиозную прическу под вид бирманской пагоды или вот такую,
гейзероподобную.
Солдат и девушка соединили руки наперекрест и молчат. Во взгляде отца,
едва он остановит на них внимание, возникает марево и струится то слюденисто
светлое, то присиненное, придымленное, словно тенью от тучи. Это, наверно,
проходят в нем воспоминания? О чем он вспоминает? Как освобождал города?
Как вышибал из Польши и Чехословакии фашистов? Как встречали местные
жители? Или о том, как гулял с иностранкой? Митька Калганов приносил
карточку: у входа в костел снят с тоненькой полячкой его старший брат. Митька
утверждал, что польки и японки самые красивые. Может, отец тоже дружил с
полячкой, и ходил с ней в костел, и не смущался, что она католичка, а он
безбожник? Не должно быть! Он не обращал внимания на девушек, потому что
думал только о моей маме.
Официант принес Маше три ядра пломбира – малинового, черничного,
шоколадного. Не успела отведать мороженого, отец внезапно вскочил и растер в
пепельнице чадящую папиросу. Он глядел куда-то в сторону входа. Близ двери,
осматриваясь, стояли две женщины, с ними был мужчина. Они заметили
Константина Васильевича. Смущаясь и радуясь, он закивал им головой и
закричал:
– Проходите сюда. Ко мне дочка приехала!
Все в ресторане начали оборачиваться на отца и на нее, даже обернулся
гневающийся старик. Ни с кем из взрослых Маше не приходилось знакомиться с
торжественным рукопожатием и называнием имени.
Едва ее ладонь соприкоснулась с ладонью гладковолосой блондинки,
девочка почувствовала радость. Затем испугалась, что это будет замечено то ли
надменной, то ли холодной смуглой женщиной, и, отвечая на рукопожатие этой
женщины, благосклонно кивнула на ее «очень приятно». Смуглая удивилась, как
бы расшторила зрачки, вскинув ресницы. Какой у нее ясный взор! Такой,
наверно, бывает у человека, который вдосталь изведал горя?
В ресторан ворвались и прядали в сизоватом воздухе какие-то отблески.
Наверно, к дебаркадеру, лучась на солнце, подплывал пароход. Бликами било в
лицо мужчины, заключившего руку Маши в створки горячих ладоней, поэтому
первоначальное ее впечатление о нем и его облике свилось из сверканья белых и
желтых молний: так полыхали стекла и золоченая планка очков. Константин
Васильевич пригласил женщин и мужчину сесть к нему за столик, но они
отказались: должны прийти их мать и племянник.
Они расположились за угловым столиком и стали читать ресторанную карту.
Маша хватилась, что не запомнила их имен-отчеств, но спросить у отца, кто
они, постеснялась. Они показались ей людьми необычайными, как музыкант
Эйдинов и врач Бутович, лечившая от вибрационной болезни ее мать Клавдию
Ананьевну. Она угадала в их поведении то отношение к людям, которое
различает не посты и возрасты, а человека, его благородство, мудрость,
доброжелательство, душевную опрятность. Те, кого Маша находила
необычайными, были для ее матери Клавдии Ананьевны интеллигентами, как их
сразу видно среди толпы и за тысячу верст. Всех же других, кто по образованию
или должности считался интеллигентом, она не относила к таковым, деля их на
три категории: образованные, грамотные, хайло. Женщин, блондинку и смуглую,
и мужчину, который был с ними, мать, наверно, отнесла бы к интеллигентам.
Маша засмеялась, когда представила себе, как радовалась бы мать, если бы
познакомилась с ними.
– Ты что, Маша, надо мной?
– Маму вспомнила. Пап, кто это подходили?
– Французы.
– Туристы?
– Наши.
– Откуда же «французы»?
– Вообще-то они русские.
– То французы, то русские.
– Он химик, инженер. Светленькая ему жена. Тоже инженер-химик.
Черненькая ему сестрой доводится. Она библиограф технической библиотеки
металлургического комбината. Кроме того, переводит с английского,
итальянского и французского. Из вестников, из заграничных журналов и
справочников по науке и технике. Кстати, в прошлом она миллионерша.
– Разыгрываешь меня? А, ты подумал – мне скучно? Нисколечко. Почему-то
мне никогда не бывает скучно. Бывает досадно. Иногда жить не хочется. Раз,
примерно, в столетие. Но скучно – никогда. Так что ты не развлекай меня.
– Неужели бывает так, что тебе на самом деле не хочется жить?
– Да.
– Поразительно... У девчонки... Не вижу причин.
– И не можешь видеть: от вашего города до нашего три тысячи километров.
Притом не думаешь ты обо мне.
– Отчим?
– Отчасти.
– Парнем я с ним дружил. Плохого не запомнил. Скромный. Верно, молчун...
В международную политику все вникал.
– Не верится. Скорей автомашины будут интересоваться политикой, чем он.
Ему никого и ничего не надо – только водку. Если бы ему подарили цистерну
водки, он бы пил, пил, стал бы обливаться водкой, плавал бы в ней и в конце
концов с удовольствием утопился.
– Не преувеличиваешь?
– Нет. Когда ему надо наскрести денег на бутылку, он готов перевернуть дом
и поубивать нас. Правда, что на войне давали каждый день по сто грамм водки?
– Давали.
– На войне приучился.
– Мог. Но мог и отучиться. Я тоже не в тылу сидел.
– А в себе ты вины не видишь?
– Какой?
– Не надо притворяться.
– Было бы довольно просто...
– Зачем ты бросил маму и меня?
– Не стоит вникать.
– Раз я из-за этого страдаю, значит, нужно вникать. Ты все-таки скажи:
почему ты сбежал от нас с мамой? Я, может, приехала сюда для того, чтобы
узнать это.
– Папка не сбегал, – сердито сказал Игорешка. – Он всегда с нами.
– Сынок, пломбир вкусный. Кушай, покуда не растаял.
– Чего она? Машка-бабашка.
– Мама чудесная! Ничем тебя не оскорбила, а ты бросил ее. Даже записку не
оставил. Мы думали – тебя бандиты убили. Как мы разыскивали тебя! Ты
прислал перевод, знаешь, как мы обрадовались! Не деньгам, а тому, что цел. А
ты нас бросил. Зачем, скажи? Разве мы заслужили? Разве мешали тебе?
– Я души в вас не чаял!
– Ну?
– Бессмысленно... Не надо... Бывают незадачи в отношениях. Лучше
молчать...
– У честных людей не бывает.
– И у честных. Негоже касаться.
– Стыда боишься?
– Машка-бабашка, отвяжись от папки.
– Ты, Игорешка, маленький. Помалкивай. Ладно?
– Пусть не задирается.
– Отвечу, но не сейчас. Покуда ты в том возрасте...
– Уже в том возрасте, когда пропускают на картину «Ночи Кабирии».
Показала паспорт – и пропустили.
– Имеешь право. А я бы на твоем месте не стал ходить на такие фильмы.
– А жизнь?
– Что – жизнь?
– На жизни не напишешь: «Дети до шестнадцати лет не допускаются».
– Что верно, то верно. Плохо тебе там. Как бритва режешься.
– Там я не режусь. Там меня полосуют, а я молчу.
Собираясь к отцу и затем в пути Маша мечтала выяснить тайну его
исчезновения, обернувшуюся для матери и для нее долгой бедой и мучительной
загадкой. В ее воображении выведывание причины происходило тонко, без
настырности. Она не допускала, что отец будет умалчивать о том, что стряслось
столько лет назад.
Но случилось именно то, чего она никак не ожидала. И в ней поднялось
ожесточенное недоумение, возникшее с малолетства, и она никак не могла
примирить свое желание с отцовым ласковым умиротворением и состраданием,
отодвигающим ее в неведение, гнетущее и больное. Она не ожидала от себя, что
встанет и быстро выйдет из ресторана.
Очередь на теплоход разбухла, стала длинней. Маша вертко двигалась в
горячей толпе. Какое-то слепящее чувство владело ею, и она не различала лиц,
проплывающих мимо, и даже не узнала, хотя и останавливала на нем взгляд,
Владьку, который вел за собой магниево-седую старуху.
Едва Маша успела проскочить сквозь поток пассажиров – ее догнал отец.
Корил за вспыльчивость, просил вернуться в ресторан. Маша молчала. Ей
казалось, что ее душа каменеет от презрения к нему.
Он пошел расплатиться с официантом и забрать Игорешку, а ей спокойно
велел никуда не уходить. Это подстегнуло ее гнев. Она спустилась вниз и
побежала по береговым плиточным камням. И чем быстрей бежала, тем веселей
становилось на сердце. Минуя розовый дебаркадер, подскочила, взбрыкнув
ногами. И оглянулась на улюлюканье, раздавшееся на воде. Улюлюкали парни,
удившие с плоскодонки. Успела засечь, что кто-то чешет вслед за ней по берегу.
Не разобрала кто, а когда оглянулась, узнала Владьку.
Владька догнал Машу возле голубого дебаркадера.
– Странное ты создание, – выпалил он и пошел рядом, успокаивая дыхание.
– Ты что, караулил меня?
– Самомнения тебе не занимать.
– Ты хотел сказать – красоты?
– Хмы-хмы. Чудная, Константин Васильевич попросил тебя догнать. Мы с
бабушкой только зашли в ресторан, он показал на тебя в окно и послал в
погоню.
– Слушай, Владька, ты на кого-то похож. Погоди. В ресторане я видела
бывшую миллионершу. С ней брат. Между ним и тобой сходство.
– Его мать и моя бабушка родные сестры.
– Его мать и твоя бабушка... Если бы была жива мама моей мамы, а у нее -
сестра, а у этой сестры был бы сын, то кем бы доводился ей... Постой. Если бы...
– В шахматы не играешь. По математике три с натяжкой.
– Тоже мне оракул. Ты доводишься племянником ему и Наталье Федоровне.
– Точно.
– Почему их зовут французами?
– Приехали из Франции.
– Как туда попали?
– Попали их родители. И там появились на свет тетя Наташа и дядя Сергей.
– А как они все-таки попали во Францию?
– Эмигрировали.
– Для чего?
– Для спасения собственной жизни.
– От кого?
– Разумеется, от революционных масс.
– А что они сделали революционным массам?
– Неумеренное вопросничество простительно на стадии оспы-ветрянки.
– Ох-ох, до чего культурно!
– Повремени с иронией. Должна быть мера любопытства.
– Зачем?
– Как тебе... Я... Я догадался: ты обиделась на Константина Васильевича и
удрала из ресторана, но я не задал ни одного вопроса ни ему, ни тебе. Узнается.
Не узнается, стало быть, ваша размолвка несущественна и не представляет
морального и философского интереса. И второе: люди любят самораскрываться.
В моменты самораскрытия обнаруживается их сердцевина. Вопросничество, на
мой взгляд, обнаруживает только поверхность.
– Спасибо. А теперь иди в ресторан.
– Я подожду Константина Васильевича.
– Очень ты исполнительный!.. Да, профессор, объясните, кто такой Галуа.
– Опять?
– Не сердитесь. Я...
Улыбаясь, Маша крутанула пальцем у виска.
– Оно и заметно.
– Владька, сколько тебе лет? Последний вопрос на сегодня.
– Предположим – шестнадцать.
– Я презираю своего отчима. Но он справедливо доказывает: чем человек ни
проще, тем умней.
– Ладно. Квиты. А ты, ты, знаешь, ты – ничего.
– А ты, ты, знаешь, ты – чего. Они рассмеялись. Им стало легко.
Маша наклонилась над камнями, выбрала плиточку поглаже и кинула.
Плиточка побежала по воде, загибая к отражению голубого дебаркадера.
– Ловко ты печешь блины, – удивился он. – Давай посоревнуемся.
Он торопился, камни попадались бугорчатые, корявые, пускал их излишне
сильно, и они то врезались в воду, то длинно скакали – редко «пекли блины».
Сначала Маша ликовала, потом стала огорчаться. Дразня Владьку про себя
тютей, искала для него тонкие ровные камни и показывала, как надо их бросать,
чтобы они долго и часто рикошетили. Он хмурился, принимая плиточки, и «пек
блины» все хуже. И когда от досады готов был закричать, вспомнил, что
великолепно делает замки, и так запустил камень ввысь, что на миг потерял его
из вида. Камень падал ребром и набрал стрижиную стремительность. Замок
получился безукоризненный: плиточка вонзилась в воду со звонким звуком и ни
капелькой не брызнулась.
Вверх Маша бросала недалеко и не сумела сделать ни одного такого замка,
который сравнился бы с Владькиным. Это не распаляло ее самолюбия, как
недавно самолюбие Владьки. Напротив, она радовалась, что по замкам не могла
победить тютю, и сказала ему со счастливым изнеможением в голосе:
– Опять квиты!
Владька увидел Константина Васильевича и Игорешку. Они были еще
далеко, но Маша побежала вдоль берега. «Действительно, чокнутая. Чего
удирает? Ну, вошла в противоречие с отцом. Так разве нужно психовать, чтобы
знал весь город», – подумал Владька и стал поджидать Константина
Васильевича.
За мысом, едва Маша обогнула его, возник затон. На песке сох белесый
топляк – долго мок в воде. Затон был гладок, и когда море втискивалось в его
глубину одним из своих течений, он слегка вздувал мельхиоровую поверхность
и успокаивался. Буксиры, катера, шлюпки, баркасы, бросившие в нем якоря,
казалось, уморились в пути и теперь дрыхли всласть. Вблизи от береговой
широкой лиственницы покоилась баржа. На ее корпусе хлопьями висела
ржавчина, лишь лесенка, опущенная до воды, отливала серым железным
блеском.
Маша повязала голову платьем, зажала в зубах ремешки туфель, поплыла к
барже. Лихорадило от мысли, что не успеет спрятаться, поэтому быстро
доплыла до баржи и поднялась по лесенке и стала искать, куда бы юркнуть.
Верх почти всей баржи обозначался круглыми крышками, но они не
открывались – были завинчены. Маша бросилась на корму, над которой
выступала коренастая рубка. Обнаружилась низкая дверца, закрытая на гирьку.
Маша подергала гирьку, та открылась. Через дверцу, тоже по железной лесенке,
Маша спустилась внутрь баржи. Тускло, пыльно, мусорно. Стекла
иллюминаторов начисто выхлестаны, их отверстия заткали пауки. Вставая на
дубовое сиденье, она следила за берегом сквозь тенета. Ни Владька, ни отец с
Игорешей не появлялись. Только сейчас ей стало боязно: вдруг да кто-то
прячется на барже. Из кормовой части, растворив складную дверь, Маша
пробралась в носовую. Отсюда и услышала голоса Владьки, отца и брата. На
миг глянула в иллюминатор. Все трое стояли под лиственницей. Игореша,
хныча, звал отца домой, и отец сказал, что пойдет искать ее в город, а Владька
должен отправиться дальше, на пляж, а оттуда уж, с нею или без нее, в город.
Отец и Игореша карабкались вверх по склону. На самом гребне холма, в
просвете между соснами, они то ли отдыхали, то ли смотрели на затон и
спустились за холм. Владька медленно ступал по кромке берега, рыхлой от
песка. Было понятно, что у него нет никакой охоты заниматься поисками. Он
поднял забытую кем-то книжку, полистал и отшвырнул.
Маша переплыла на берег, весело валялась на песке, довольная тем, что отца
встревожило ее исчезновение, а Владьку угнетает поручение. Посидела на
белом опрокинутом ялике, перевернула его. Вытащила весла, засунутые под
банки, и села в лодку. Чуть наловчилась грести и едва погнала ялик на блеск
медного гудка, торчавшего над буксиром, с холма закричали:
– Э, э, куда?! Поворачивай! Живо!
Она продолжала грести. Тогда парни, спускавшиеся к широкой лиственнице,
пригрозили, что догонят ее на яхте и в наказание окунут в море. Она повернула.
Один из них – бородач с огромным рюкзаком – назвал ее наядой и пригласил
следовать с их романтической экспедицией на Беломорье. Приглашение
прозвучало шутливо. Товарищи бородача, пока он сбрасывал в лодку рюкзак,
ударили веслами, и ялик ходко поплыл, но Маша ответила: а что, мол, если она
согласится пойти с их романтической экспедицией, не передумают они? Бородач
велел табанить, лодка вернулась, под растерянные восклицания парней Маша
села на носовое сиденье, а когда берег начал отступать, выпрыгнула, потому что
увидела Владьку, в испуге бегущего по направлению к ялику.
– Ну, знаешь! – сказал Владька обескураженно. – Я думал, только моя сестра
опирается на подкорку. . Да вы все такие.
Владька полез в гору.
Маша вылила из туфель воду, выкрутила подол и полезла следом за
Владькой. Пролом в березовой роще был черен, в накрапах бурых огней. Где-то
там вокзал и линии, протянувшиеся на Москву.
Она сказала Владьке, что напрасно он искал ее, к отцу она все равно не
пойдет. Он ее оскорбил, поэтому она сядет на товарняк и уедет. Владька кивнул:
дескать, он понял ее и не удерживает. Она глядела, как он уходит, и было у нее
впечатление, что он странный, возможно, даже равнодушный человек.
Ехать Маше расхотелось: представила себе ночь, холод, ветер, оглушающий
ход товарняка, но все-таки пошла на вокзал. Пассажирский поезд на Москву






