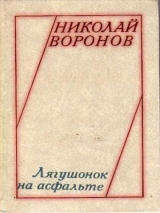
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
а Цыганку спаривать со Страшным.
Я согласился. В груди у меня отворилась тоскливая пустота, когда я схватил
Чубарую в картошке, освободил от связок и зашвырнул в небо. Чубарая,
немного покружив над участком, улетела в Магнитную.
Петька ушел на конный двор.
Петька был безобманным голубятником. Если о чем-нибудь условился, «о не
нарушит договора. Хотя он куда-то надолго запропал и хотя, по уверениям
Саши, уговорил меня выпустить Чубарую не для того, чтобы нанести урон
голубятне, возникающей по соседству с ним, я надеялся – Петька не падёт до
вероломства.
Солнце склонилось за полдень. Петька не показывался. Я топтался у
стального кола, глядя на угол барака: оттуда Петька должен был прийти. Саша
сходил к нам. Он возвратился с маслеными губами. Бабушка накормила его. Она
любила из этого делать тайну. Кроме того, она почему-то придумала, будто бы я
против того, чтобы она поддерживала его питанием, поэтому и запрещала ему
говорить, что он поел у нас. Вот он теперь и помалкивал. Но скрытничать Саше
не нравилось, и он, придерживаясь правила: «После сытного обеда по закону
Архимеда нужно закурить», зашел в будку. Торопливыми, со вкусным
причмоком затяжками садил папиросу и убеждал меня, что Страшной ни за что
не станет спариваться с новой голубкой и не сегодня завтра усвистит. Наверняка
он переживал улет Чубарой и Петькино исчезновение, и все-таки он не столько
переживал, сколько радовался тому, что у него есть повод помитинговать насчет
хваленой честности Крючина, а меня пообличать в том, что я простофиля.
Его смутило мое молчание. Он сел на кирпич, строгал из сосновой коры
лодочку, залихватски циркал слюной. Он наслаждался состоянием сытости. За
сытостью он забывал обо всем. Чувство довольства было для него как солнце
для кутенка, налакавшегося мясного супа. Он запустил куском
металлургического шлака в петуха. Петух не заметил, откуда прилетел шлак, и
шел вдоль завалинки крупными шагами, не потерявшими обычной
щеголеватости.
Из-за этого и было особенно потешно его опасливое верчение головой. Саша
стал надрываться от хохота. Потом, покашляв, запел «Любушку». Он помнил
мотив песни, а из слов знал понаслышке всего две строчки. Их он и повторял,
горланя на все длинное огородное пространство между бараком и вилючей, в
зазорах стеной будок, балаганов, коровников, стаек:
Люба, Любушка, Любушка-голубушка,
Я тебя не в силах прокормить...
В другом настроении я подгорланил бы ему, а теперь обиделся и прогнал
его. Отчасти я и разозлился на Сашу. Вместо «прокормить», как я узнал недавно
и сказал ему об этом, надо было петь «позабыть». Но Саша, уходя, мне в
отместку опять пропел, как привык:
Люба, Любушка, Любушка-голубушка,
Я тебя не в силах прокормить.
Я погнался за ним. Он упал на мураву и, лежа на спине, смеялся, по-
щенячьи дрыгал ногами. Разве захочешь лупить такого несерьезного человека?
Когда я возвращался, ко мне подбежал Генка Надень Малахай. Известие,
которое он принес, объяснило Петькино исчезновение. Оказывается, его брата,
Пашку, под хмельком вошедшего в стойло, сильно покусал жеребец по кличке
Архаровец. Петька запряг иноходца и повез Пашку в больницу на Соцгород.
В сумерках, едва я, уставший стоять у стального кола, сел на порожек будки,
появился Петька. Он подал мне маленькую голубку и пошел. Ноги у него
почему-то косолапили. Да и весь он был не всегдашний: пониклая спина, руки
растопырены наподобие крыльев у замученного голубя.
Я посадил Цыганку в гнездо к Страшному. Страшной уже плохо видел.
Голуби плохо видят в сумерках. Он тревожно заукал и вжался в угол.
Я замер возле клетки, закрыв дверцу. Тишина в гнезде. Ни шевеления, ни
звука. Битва начнется завтра, за восходом. Я вспомнил глянцевито-гладкую,
легкую, как из воздуха, Цыганку и пожалел: задолбит ее Страшной. С похмелья
он будет, наверно, лютый.
Утром я чуть не заревел. Страшной до того буйствовал, что повыщипывал
много перьев из голубкиной головки и шеи. Растерзанный вид Цыганки и
особенно эти безобразные плешины на ее головке и шее подействовали на меня
убийственно. Я не разрешил Саше заходить в будку. Надо же обладать такой
бессовестностью! Пришел как ни в чем не бывало да еще невинно улыбается...
И если увидит, что натворил Страшной, то будет от восторга кататься по земле.
В отчаянии я прилег на поленницу, но тотчас бросился к клетке, потому что
Страшной защемил крыло в локте и сдавливал его так свирепо, что прогибались
створки клюва. Я отобрал Цыганку у Страшного и посадил в нижнее гнездо.
Страшной без промедления нырнул в это гнездо и начал вышибать ее оттуда. Я
настегал его соломинкой по ногам. Однако он не только не унялся, а даже
сильней рассвирепел, как и вчера, до крови расклевал мою руку.
Вошел Петька. Сразу обо всем догадался. Велел, дабы я попусту не маялся и
голубям не мешал, оставить Страшного и Цыганку на несколько суток одних.
Дважды в день приносить корму и воды и тут же убираться вон. Да, может
убить. По-умному спаривают иначе. Голуби должны обзнакомиться друг с
дружкой, облетаться над домом, а потом уж их можно сажать вместе. Ну, коль
такой случай, пусть дальше вместе сидят. Убьет так убьет. А ежели спарится,
держа в памяти прежнюю голубку, то шибко будет любить и никуда не улетит от
нее.
Вечером я не обнаружил Цыганку в клетке, обыскался, пока ее нашел.
Бедняжка так спряталась за дрова, что сама бы не смогла выбраться. На
следующий день я воспрянул духом: она таскала Страшного за воротник, а едва
он вырвался, то сиганул из гнезда. Правда, моментом позже он вернулся в гнездо
и задал ей трепку, но вскоре, опять схваченный за воротник, жалко шнырял под
зобом у Цыганки.
Эта их взаимная таска, предваряемая и завершаемая обоюдным
воркованием, в котором выражались возмущение, призыв к покладистости,
нежелание сближаться по прихоти людей, продолжалась еще три дня.
После, день-два, приткнувшись в разных углах гнезда, они мелко
подрагивали крыльями и кланялись, кланялись друг дружке. Потом я застал их в
одном углу. Спрятав воротникастую голову под грудь Цыганки, Страшной укал.
Всегда почему-то мне слышалась в голубином уканье невыносимая жалоба, и я
еле-еле сдерживал слезы. А тут услышал такое лучистое уканье, что тотчас
посветлело на душе. Но когда я замер и вник в него, то начал улавливать в нем и
то и другое, от чего время от времени щемило сердце. И вдруг мне стало
казаться, что я понимаю, о чем его уканье. Ему тепло, ему гладко, ему нежно. И
он проклинает свою беспощадную драчливость и обещает быть смирным и
ласковым. Ему удивительно, что он был спарен с Чубарой. В это ему как-то даже
не верится. Но это все-таки было, но ему каяться не за что. Ведь он не знал об
ее, Цыганкином, существовании. Как хорошо, что мальчишка проявил упорство
и заставил их спариться: ему тоже хорошо, он любит нас и от радости совсем не
моргает, и уши его торчат и пристальны, как звукоулавливатели на военной
машине.
Голубь, которого долго держат в связках, может засидеться. Он растолстеет,
сделается ленивым, будет таскаться на низких кругах. Никак не обойтись без
расшуровки, чтобы стая с таким голубем поднялась в вышину. И хотя во время
расшуровки грохот, крик и свист стоит, не всякого сидня это погонит в полет.
Иной из якобинцев, веерохвостов или дутышей променяет небо на черное жерло
печной трубы.
Неугомонность Страшного указывала на то, что он не засидится. И вместе с
тем пугали перемены в его поведении: обираясь, не тронет клювом связок,
словно они совсем его не тяготят, не заглядится на голубей, кружащих под
облаками, даже не возникнет в нем невольное желание взлететь, когда он
спорхнет с Цыганки.
Петька Крючин полагал, что Страшной притворился: только ты развяжешь
его – он сразу упорет.
У меня тоже было подозрение, что Страшной хитрован, но не в такой мере,
как думал Петька. По уверениям Петьки получалось, что умный голубь может
притворно спариться. Я так не думал и никак не мог поверить, что Страшной
выбирает удобный случай, чтобы улететь. И все-таки я боялся развязывать
Страшного и решился на это лишь тогда, когда куда больше стал бояться того,
что навсегда загублю в нем прекрасного лётного голубя.
Хотя он как будто и не понял, что его освободили, и совсем не расправлял
маховых перьев, он мгновенно взвился, потоптав Цыганку. Как звонко он хлопал
крыльями, как гордо кораблил ими, потрепанными на вид! Как весело
переворачивался через спину!
Совершив торжественный облет над бараком, он сел возле огуречной грядки
и, торжественно бушуя, вертелся волчком, а Цыганка, выгибая грудь и
приспустив хвост, толчками скользила вокруг него.
Наши опасения не отпали, и все-таки то, что Страшной вернулся на пол,
было причиной для обнадеживающей радости.
Но каких-то полчаса спустя он повел себя иначе. Не стал заходить в будку,
хотя Цыганка и зазывала его в гнездо тревожным уканьем. Тут-то он и
расправил перья, аккуратно подогнав волоконце к волоконцу, а потом взлетел. И
теперь он колотил крылом в крыло, описывая круг, но это были
настораживающие хлопки. Я бросился в будку: как только выкину оттуда
Цыганку – Страшной заметит ее и сядет.
Цыганка металась по гнезду. Чтобы не раздавить яйцо – вчера нащупал его в
голубке, к своей и Сашиной радости, – я дал ей успокоиться и лишь тогда взял в
ладони. А когда выскочил из будки, то Страшной уже тянул к горе, за которой
были переправа и мордовский земляночный «шанхай».
Неужели Страшной не вспомнит о Цыганке и не повернет обратно?
На мгновение мне показалось, что он надумал повернуть: начал отклоняться
ко Второй Сосновой горе. Скоро стало ясно: его просто сносило боковым
ветром; сделав крюк, он преодолел напор ветра и канул за перевалом.
Без надежды на согласие я попросил Сашу съездить на Магнитную. Он
боялся одиночества, безлюдной дороги по холмам, станичных собак, которые
встречали путника далеко за окраиной, молча шли по пятам, изредка рыча и
пощелкивая зубами. В этой повадке магнитских собак была какая-то хитрая
острастка, когда испытываешь полную беззащитность из-за того, что они не
собираются нападать, только припугивают, а ты все-таки сомневаешься в этом, а
сам, однако, не смеешь взять палку на изготовку, чтобы не разъярить их. Из-за
этих собак, пожалуй, я бы не решился идти один в Магнитную. А едва Саша
согласился, то забоялся за него и стал уговаривать, чтобы он передумал. Он
рассердился и побежал за башкирскими таратайками и сел на бегу в самую
последнюю, которой правил старик в зеленом бархатном камзоле.
В полдень над маяком Второй Сосновой горы я углядел движущуюся точку.
На всякий случай я пошел в будку за Цыганкой и когда достал ее, то обнаружил
в пуховом углублении гнезда яичко. Если бы она снеслась утром – не улетел бы
голубь и сейчас наверняка уже бы грел это яичко. Теперь оно пропадет. Парить
без Страшного Цыганка не будет. Редко голубки парят одиночку.
Точка, двигавшаяся над маяком, приближалась, оборачивалась голубем. Мои
глаза еще не привыкли к очертаниям Страшного, поэтому не угадали его.
Я выпустил Цыганку на землю, и голубь, словно там, в вышине, его крыло
перебила пуля, начал отвесно падать. Падая, он вращался воронкой. Я оцепенел,
какая-то минута – и он разобьется. Но он вдруг прекратил движение вниз -
сделал горизонтальный рывок и потянул по кольцу. По перьям в хвосте,
составлявшимся в черную вилку, я узнал Страшного и опять дал ему осадку. Он
снизился. Цыганка, заметив его, стала порывисто вспархивать. Здесь бы ему и
сесть: ее вспархивания своей мучительностью и стремлением к нему больше
походили на биение в сетке. А он не проявил сострадания и с разворота
прямиком улетел в Магнитную.
Перед закатом возвратился Саша. Собаки, как и следовало ожидать, его не
тронули. Правда, он думал, что они не тронули его не сами по себе, а потому,
что, стоя у могилы с кустиком паслена, он попросил папку оборонить его от
опасности.
Саша знал о том, что Страшной улетел к Цыганке, и опять вернулся в
станицу. Он сидит на крыше и, к удивлению бородатого взрывника, гонит от
себя Чубарую – она лезет к нему с поцелуями. Саша утаил от взрывника, что
Страшной спарился с другой голубкой: еще возьмет да и застрелит его за
измену.
В сумерках я пил чай, придумывая, как выпросить у матери денег на выкуп
голубей. Без Чубарой взрывник не отдаст Страшного. Мать никогда не
скупилась для меня, однако она была против голубей, боясь, что из-за них я
запушу учение. До моего соображения, зачумленного, по словам бабушки,
голубиной охотой, доходило и то, что я собираюсь разорить семейную мошну:
до получки придется влезать в долги. Но я не мог жить без собственной дичи и
заставлял свой загрустивший ум метаться в поисках жалобных уловок.
За окном что-то вроде бы промелькнуло. Я потянулся к стеклу. Возле
порожка будки, тычась клювом в доски, бегал Страшной. Наверно, Цыганка
слыхала, как он садился, и невыносимо заукала. Страшной взлетел, и ударился в
дверь, и упал, и снова взлетел.
Когда я примчался к будке, он лежал на боку и трудно раскрывал клюв. В
смертельной тревоге я поднял Страшного. Во рту у него, под стреловидным
язычком, алела кровь, он захлебывался ею. Я сунул Страшного за пазуху, весь
дрожа, отпер будку, а потом клетку и приткнул его к Цыганке. Цыганка
привстала с гнезда. Он повалился на крыло и, пытаясь встать, откатывал яичко.
Цыганка испуганно пятилась из гнезда.
Я посадил голубей рядом. Ушел. Ночью бесконечно просыпался. «Неужели
умрет?» Едва рассвело, подался на улицу. С крыльца прислушался: не воркует
ли Страшной? Так громко, так бурно он ворковал прежними утрами! Как назло,
на заводе раздался гогот пневматического молотка, производившего клёпку в
огромном резервуаре. Этот металлический гогот перекрыл газовый выхлоп из
домны, равносильный взрыву на горе Магнитной. Где-то на прокате плоско
грохнулась оземь кипа стальных листов. И уже не очень далеко, на краю
огромного рельсового пространства, где вчера образовалось скопище поездов,
груженных коксом, рудой, блюмами, проволокой, чугунными болванками, начал
симфонить «Феликс Дзержинский» и, набирая ход, сильней раздувал свой
настырный паровой звук. «Феликс Дзержинский» все симфонил, когда я
медленно заглянул в гнездо. Цыганка трепала перышки на голове Страшного.
Глаза Страшного были закрыты. В первый момент мне показалось, что он мертв.
И стало жутко... Но тут он, вероятно, почувствовал мой взгляд и приоткрыл
веки.
Не меньше недели Страшной был слаб и сам не мог ни пить, ни клевать. Я
поил и кормил его изо рта. Как только он окреп, то садился мне на плечо и
совался клювом в губы. Я прекратил кормить его таким образом, зато приучил
есть с ладони. Сердитый, он, очищая от пшеницы ладонь, больно прихватывал
кожу. Я стал осаживать Страшного вытянутой рукой. Он падал с подоблачной
высоты, как мы говорили, колом, стоило мне несколько раз выбросить перед
собой руку во всю длину.
К старому дому он не перестал летать. Поднявшись высоко, уводил стаю – у
меня быстро создалась стая из наловленных чужаков – через Урал и, покружив
над Магнитной, приходил обратно. Здесь он сразу спускался и сменял Цыганку
на гнезде: ей необходимо было подкормиться и тоже полетать. Плешинки на
голове и шее, портившие ее вид, заросли перышками, и стало явственно,
несмотря на ее усталость, что она красавица. Мне нравилось смотреть на
Цыганку в те минуты, когда она беззаботно прогуливалась. Ступает твердо,
четко. Малиновые лапки просвечивают сквозь чулочки. Поступи и всему
боковому очертанию придает гордую статность высокий изгиб груди, хвост,
развернутый веером, и веслокрылость. Летала она легко. Быстро набирала
высоту, но быстро и снижалась. Она беспокоилась, как бы куда-нибудь не делся
ее Страшной, и, убедившись, что он на месте, опять пускалась в полет.
Как раз во время Цыганкиной разминки вывелся первый голубенок. Когда
она спустилась вниз для своей обычной проверки, то обнаружила возле
поленницы яичную скорлупу, а потом услыхала капельное попискивание из
клетки. Она ворвалась в гнездо и клюнула Страшного: дескать, убирайся,
раздавишь малыша. Он успокоительно укнул. Это не уняло ее новой тревоги.
Она попыталась подобраться ему под зоб, чтобы сдвинуть его с птенца. Тогда он
возмутился, вытолкнул Цыганку из клетки, а возвратясь на место, долго
ворковал, выговаривая ей за панику и за то, что она недооценивает его
отцовскую заботу, за то, что рвалась на гнездо до наступления своей смены.
Цыганка, хотя и усовестилась, однако не возвратилась на круг. Она сидела на
дровах, не спуская глаз с насупленного Страшного. Едва он покинул клетку,
бормотнув: садись, мол, давай, торопыга, она рванулась в гнездо и картавила
оттуда, будто он слушал, о том, вероятно, что право опекать птенцов – прежде
всего материнское право. Их размолвка на этом и закончилась, а дежурства
мало-помалу начали учащаться: птенцы становились прожорливей. Это
продолжалось до тех пор, пока голубята не покрылись костышами, синеватыми
и кровавыми изнутри; в этих костышах, с длинными долбаками – так мы
называли их клювы – они походили на уродцев. Мне и Саше не верилось, что
когда-нибудь они примут «человеческий» вид, а из-за того, что их носы обещали
быть длинными, мы приходили в неутешное отчаянье. Петька Крючин
потешался над нами: сами из смердов, а хотим, чтобы голуби у нас были
породистые, как брамины или кшатрии. Петька увлекался историей и любил
козырнуть ученостью.
А Страшного почему-то совсем не тревожила гадкая внешность голубят. Для
него важней всего было, что они есть. Уже одно то, что они передвигаются
шлепающими шажками и норовят клевать мух, а промахиваясь, теряют
равновесие, вызывало в нем бурную радость. Он бушевал, наклоняясь над ними.
Их, вероятно, пугал гул его голоса, а может, им казалось, что над бараком повис
аэроплан, и они в страхе пригибались, помаргивали, их костышовые хвостики -
из каждой дудочки выдувалось лопатчатое перышко – мелко вздрагивали. Но на
этом Страшной не утихал: он только набирал разгон для торжества. Еще воркуя,
он взмывал в воздух. За ним срывалась Цыганка. Они с оттяжкой хлопали
крыльями, кораблили, совершая начальный круговой облет своего дома и своих
птенцов, которые теперь поворачивали к небу то левый глаз, то правый. Потом
Цыганка и Страшной устремлялись вверх. И когда достигали высоты, на
которой над заводом широко пласталась буро-черно-желтая кадь, то начинали
оттуда падучую игру. Цыганка играла мерно, плавно, словно заботилась о том,
чтобы снизу ясно просматривались ее движения: перекидка через спину и
присаживания на полный разворот хвоста, блистающего пронизанной белизной.
Страшной играл азартно. Завихрится воронкой по солнцу или против
солнца. Вскоре сядет, как и Цыганка, на развернутый хвост и покатится с небес
по вертикали, что и не разберешь, как он кувыркается, лишь различаешь
вращение рябого шара, низвергающегося к земле. И захватит у тебя дух от его
бесшабашного падения, и ты восторженно переглянешься с Сашкой, и Петькой,
и Генкой Надень Малахай, и Тюлей, и еще с кем-нибудь из ребят и подумаешь,
что пора бы ему прекратить кувыркания, и тут же в оторопи охватишь взглядом
расстояние между ним и землей, да еще пробежит крик от мальчишки к
мальчишке: «Заиграется!» – и у тебя не хватит души для выдержки, и ты
свистнешь, чтобы вырвать голубя из лихого забытья, и за тобой засвищут,
заулюлюкают, и почти у самой крыши он как бы выстрелится в горизонталь, и
вознесется общий вздох: «Вот, гад, чуть не разбился!» – а он уже тянет в синеву,
где реет Цыганка, которая только что наблюдала за его игрой, наверно, обмирая
от страха еще сильней, чем мы, а то и просто любуясь своим ловким, храбрым
Страшным.
Мастью птенцы удались в Цыганку, только у старшего на затылке завился
хохол, как у Страшного. Оперенье их стало приглядным. Но из-за того, что
ходили неуклюже, сутулились, пищали и полностью не сбросили ржавый
младенческий пушок, все еще оставались неказистыми. Петька считал, что они
будут на редкость красивы и умны. Он хотел их у меня выменять на пару
дутышей, но я, хоть и мечтал обзавестись дутышами, отказался. У голубятников
было поверье, что первый выводок надо оставлять себе, а то в голубятне не
будет приплода. Второй выводок я обещал подарить Петьке, и он при своей
скромности, как ни странно, хвастался этим.
Цыганята, стоя на вытянутых лапках, начали подолгу махать крыльями;
изредка в эти минуты они невольно поджимали лапки и, чуть зависнув,
шлепались в испуге на землю; от маха их крыльев изо дня в день все упруже пел
воздух, пело и в наших душах, но обычно это оборачивалось для нас волнением:
скоро обганивать Цыганят. В эту пору молодняк доверчив, глуповат – может
сесть у незнакомой голубятни. Петька просил не делать без него обгонку. Он
приготовится, и если голуби Жоржа-Итальянца или Мирхайдара приманят
Цыганят, то подтащит под них сразу всю свою стаю: она уведет пискунов в наш
конец, а тут уж мы сообща их переловим.
Но получилось все неожиданно. На утренней зорьке, после кормления, я
собирался произвести обгон, но хохлатый Цыганенок, не поклевав пшеницы,
вдруг взлетел на крышу барака. Накануне утром я посылал разведку к своим
опасным соперникам. Саша, Генка Надень Малахай и Тюля уверили меня, что в
последнее время ни Мирхайдар, ни Жорж-Итальянец рано не встают.
Я растерялся, когда Цыганёнка, который не успел освоиться на крыше, кто-
то вспугнул леденящим свистом.
Потом под Цыганёнка полетели чужие голуби, а за будкой взорвался такой
многоглоточный ор, что моя стая фыркнула в воздух. И мигом в окно
выставилась мать Генки Надень Малахай и стала нас поносить за
голубятничество, а на конном дворе напугались стригуны и с оглашенным
ржанием понеслись вокруг конюшни.
Переполох еще не утих, а я уже определил по жёлтым голубям, что это
Мирхайдар с братьями и «шестёрками» подтащил под меня свою стаю.
И его и мои голуби сбились в табун и ходили на кругах, понемногу
оттягиваясь к бараку, где жил Мирхайдар. Наверняка там у него давали осадку.
Он очень вероломный, а также предусмотрительный: голубей на осадку всегда
оставляет заранее, сажая их в связки, а у меня ни в клетке, ни на полу не
осталось голубей. Я послал Сашу к Петьке. Несколько раз выбросил перед
собой руку. Страшной лишь колебнулся, но снижаться не стал. И не видно было,
что он собирается играть. Неужели потому, чтобы не покидать Цыганят?
Табун разорвался на две кучи. Чубатый пискун потащился за голубями
Мирхайдара. Так он и таскался за ними битый час. И даже после того
отклонился за Мирхайдаровой стаей, когда моя стая было вобрала его в себя.
Как я ни злился на хохлатого Цыганенка, вместе с тем я не мог не
восхищаться им. Мы выкидывали под него и Петькиных и моих голубей, но
безрезультатно. Зато чуть-чуть отдохнув на бараке Мирхайдара, Цыганёнок шел
в лет, и Мирхайдару опять и опять приходилось поднимать стаю. Он вымотался,
покамест осадил его на пол.
Я видел, как Цыганёнок сел среди голубей Мирхайдара, и, едва не плача,
простился с ним. Дело к вечеру. Зоб у него пустым-пустой, и пить хочет,
конечно, страшно.
Но не тут-то было. Хоть и пискун, а клюнет осторожненько пшеничку и
приготовится взлететь, лишь только Мирхайдар, стоящий шагах в пяти, сделает
малейшее движение.
Чужаки, прежде чем напиться, обычно вспрыгивают на борт консервной
банки. Тут и ловишь их. А Цыганёнок не дал себя схватить. Отпивал понемногу
прямо с пола, не спуская своего янтарного глаза с Мирхайдара.
В конце концов, Мирхайдар решил действовать нахрапом. Он погнал
голубей к открытой двери балагана. Чтобы проучить за нарушение порядка.
Цыганенка уцепил за макушку мохнолапый Жук. Мирхайдар хотел
воспользоваться этим, прыгнул, как рысь, да испугал Жука, и Цыганёнок,
освободившись, взлетел на барачную трубу. На этой трубе, уже в послезакатную
сутемь, Мирхайдар и поймал его. Я предложил ему в обмен на Цыганенка пару
краснохвостых (он зарился на них), но Мирхайдар заявил, что вперед согласится
на обрезанье, чем сменяет кому-нибудь такого неслыханного пискуна. Тут же он
поклялся, что удержит его. Без связок удержит. И удержал. Чего придумал, жох!
Надевал на Цыганенка своего рода чехол с дырками для головы и лапок.
Я никак не мог примириться с этой потерей, даже теперь, когда Мирхайдара
нет на свете, а от Цыганенка и косточек не осталось, почти с прежней остротой
я переживаю, что проворонил его.
Я сам был виноват: достукался, как говорила мама. Слова, данного ей. я не
сдержал. Скверно вел себя в школе: разговаривал во время занятий, играл на
деньги в «очко», забавлялся брунжанием лезвия, воткнутого в парту. Кроме того,
что я не слушал уроков, я ещё редко брался за выполнение домашнего задания,
чаше только притворялся, и бабушка похваливала меня за то, что я вникаю в
умственность.
Учителем немецкого языка у нас в классе был беженец из Польши Давид
Соломонович Лиргамер. Перед тем как он пробрался к нашим, ему пришлось
просидеть целые сутки под развалинами огромного варшавского дома. Хотя ему
не было и двадцати лет, волосы на голове у него были полностью какие-то ярко-
снежные. Я жалел его за эту седину, но, пожалуй, моё доброе отношение к
Лиргамеру зависело не столько от жалости, сколько от того, что он поражал
меня своей приятной, мягкой, неизменной вежливостью. У нас были чуткие,
строгие, необычайные, обворожительные учителя, но был вежлив лишь он один.
Хоть он и сорвался (все-таки поделом мне, поделом), до сих пор я вижу его
среди массы людей, которых узнал, почти особняком.
Мои школьные дерзости, проказы, отставание узнались дома благодаря
Лиргамеру. Он объяснял новый материал. Чтобы ему не мешать, я читал. Держа
книгу на ладонях, я подносил ее снизу к щели в парте и спокойно почитывал. Уж
если меня и чертёжника устраивал договор: я не хожу на его уроки, а он выводит
мне за четверть «хорошо», то Лиргамер, по моему убеждению, должен был быть
доволен, что я сижу тихо, соблюдаю приличия и не без пользы для головы. Но
он-то думал иначе. Книга была Петькина, занимательная – про английского
короля Ричарда Львиное Сердце. Я зачитался и не заметил, как Лиргамер
остановился поблизости от меня. Когда он крикнул: «Жьж-жю-лик, видь из
класс-са!» – я никак не предполагал, что этот нетерпеливый приказ относится ко
мне. Я подумал, что он относится к Ваське Чернозубцеву, сидевшему передо
мной, и даже постучал ему в лопатку.
– Выбирайся, кому говорят?
И тут я засёк, что ясные глаза Лиргамера, увеличенные толстыми линзами
очков, смотрят не на Ваську, а именно на меня, точней, не смотрят, нет – яростно
взирают. И опять крик, прямо мне в лицо:
– Жь-жюлик, видь из класс-са!
Я оскорбился и сказал, чтобы бы он не обзывался. А еще сказал, что если бы
он по-доброму, то я бы вышел без задержки, а теперь не выйду нарочно.
Он сходил за директором. И директор увел меня из класса, уверив в том, что
Давид Соломонович ещё не познал всех тонкостей русского языка и, конечно, по
чистому недоразумению использовал слово «жулик». Директор благоволил ко
мне. Он жил на той же линии – через барак от нас. Время от времени он
захаживал к нам. Мать и бабушка рассказывали ему о своей женской доле. А
доля у них была горькая, особенно в пору их деревенской бытности. Потчевали
его белым вином, селедкой, желтоватой бочковой капустой и черемуховым
маслом, представляющим собою смесь сливочного масла с истолченной в ступке
сушеной ягодой. Свои воспоминания они перебивали отступлениями,
касавшимися меня. Мать просила директора смягчиться, не прогонять меня из
школы, а там я, глядишь, войду в «твердый разум и налажусь». Бабушка,
поддерживая дочь, обещала каждый вечер творить молитву за его здоровье. Он
без того твердо придерживался цели – сделать из этого сорванца человека – и
поэтому выслушивал их благосклонно, а потом наставлял, как обходиться со
мной. Хотя он говорил для них. они то и дело требовали от меня, понуро
сидевшего на сундуке и приткнувшегося виском к шкафу, чтобы я крепко
усваивал внушения Ивана Тарасовича.
И в этот раз директор тоже заглянул к нам, но с Лиргамером. У него было
смеющееся выражение лица. Он таинственно мне подмигнул, указав глазами на
Лиргамера.
Я так понял ею кивок, что давай, мол, малыш, приготовься к диковинной
потехе. Но потехи не было, то есть, с его точки зрения, она была, а с моей – была
стыдобушка: Лиргамер извинялся передо мной, матерью и бабушкой за
непомерную нетактичность. Мы уверяли его, что это нам надо просить у него
прощения. И просили прощения. Но он тряс головой и доказывал своё. Он
страдал и не знал, как ему очиститься перед школой и прежде всего передо
мной.
– Ты пей и закусывай черемуховым маслом, – говорил Лиргамеру директор, -
и в тебе образуется стерильная чистота.
Приход Лиргамера и директора отозвался на участи моих голубей.
– Завтра же ликвидируй голубятню, – сказала мать, когда ушли директор и
Лиргамер.
Я собрался схитрить – если поволынить и быстро наладить успеваемость и
дисциплину, то она смилостивится. И она бы смилостивилась, кабы не
коварство бабушки. На птичьем рынке она сговорилась с барышником о том, что
оптом и по дешёвке продаст ему голубей. Пока я был в школе, сделка
состоялась, и барышник унёс в мешке всю мою стаю.
Утром, постояв у дверей будки, я зачем-то побрел на переправу. Над прудом,
отслаиваясь от воды, лежал туман. Местами он вздувался серыми башнями.
Неподалеку в нем бодро стучал катерок, и, накрывая этот стук, то и дело широко
и тонко распускались клубки звона – ударял паромный колокол.
Едва паром, сплющивая бортом автомобильные покрышки, подвалил к
пристани, с него на берег прошёл верблюд, таща рыдван с арбузами, пара быков
проволокла воз сена, просвистела свадебная тройка, проехала цыганская
кибитка, влекомая низкорослым башкирским коньком, высыпали красили-
артельщики из России, с мая по ноябрь живущие в Магнитной, у каждого за
плечом узел для разноски трафаретных ковриков, покрывал, накидушек и всякой
перекрашенной одежды.
Возчики с веревочными кнутами стали уговаривать киргиза, управлявшего
верблюдом, продать арбуз. Киргиз был доволен, что ещё не доехал до базара, а
уже навязываются покупатели, но торговать не стал: нужно прицениться.
Кибитку задержали бабы в чёрных полушалках, цыганки что-то наборматывали
им из тёмной брезентовой глубины, и зубы их сверкали, и закатывались
плутоватые глаза, и качались плоские золотые серьги. Кудрявый парень увязался
за тройкой, прося взять его в дружки, а ему кричали, что все свадебные
должности позаняты своими и пришлые не требуются. Красилей окружили
плотники и уговаривали их бросить свое маркое ремесло и подрядиться вместе с
ними строить в зерносовхозе элеватор.






