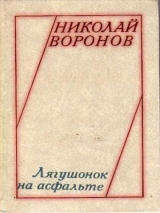
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
опять придумала что-нибудь и в ы с т у п и л а бы перед ним.
В горнице, начав ревнивый сыск, он тотчас зацепил взглядом цветастую комбинацию,
небрежно брошенную на спинку стула, поверх комбинации мерцали сквозные трусики.
«Развесила «флаги»! – подумал Вячеслав.
Рюкзак и энцефалитку он швырнул под лавочку. Зачехленную двустволку собрался
бросить на энцефалитку, да передумал: «Авось пригодится». Во дворе осудил себя за
черное злорадство, а через миг взбеленился на то, что пробовал смягчить себя:
«Размедузился, вегетарианская твоя душонка!»
Дверь квакала, как только ее растворяли, и старуха услышала, что он выскочил из
сеней, и посоветовала, ежели не застал постоялицу, идти огородами в околок – по околку
или дальше, в ракитниках, шастает его болезная женушка.
Была секунда перед плетеной дверкой в огород, когда на ум Вячеславу пришло
благоразумное решение вернуться восвояси. От этого решения ему стало отрадно, вольно,
словно он находился в плену, под угрозой смерти, и вот – свободен.
Но машинальное движение руки с легкой простотой победило благоразумие
Вячеслава. Рука взяла да потянулась к вертушке, пальцы взяли да повернули вертушку,
дверка поехала на него, он отступил и шагнул в огород, где лоснились капустные кочаны,
янтарно желтели ряды табака, пышная дыбилась ботва моркови, высился над ними мак с
голубыми еще коробочками.
Дальше была другая плетеная дверка. Она открывалась на картофельную делянку, по
краям уставленную подсолнухами. Подсолнухи созрели, поникли головами. Воробьи,
лакомясь подсолнухами, так изловчились взлетывать с межи, что, прежде чем выклюнуть
семечко, опрокидывались на спину. Но охота за семечками не всем из них удавалась, и они
неуклюже хлопались в траву. Попробуй-ка зависнуть в воздухе вверх брюшком.
Жаворонок и тот бы сплоховал, подумал Вячеслав, брюзгливо ухмыляясь, что сама
природа сегодня всячески отвлекает его от Тамары. Дескать, для тебя весь мир свелся к
ней одной, а ведь не меньшее счастье солнечным днем любоваться затейливым
циркачеством воробьев и впервые догадаться о том, что соображают ведь они, озорники,
даже всем гамузом потешаются над неудачниками, да как-то так по-свойски, необидно, что
неудачники тоже потешаются над собственной незадачливостью.
29
За пряслами Вячеслав угодил на старинный проселок, который порос травой-муравой,
зеленой, как бильярдное сукно. Приманчиво-праздный цвет проселка возбуждал азарт и
решимость. Пока не очутился на этой дороге, Вячеслав плелся, а здесь пошел по-армейски
бодро.
Он двигался вдоль околка и, сам не зная почему, внезапно повернул в лесок. И раньше
было удобно податься к околку и чуть дальше, нет, он повернул тут, где жесткими волнами
полег телорез с полукруглыми желобами на листьях. Под телорезом и в зарослях хвоща
хлюпала вода. После же надо было прыгать с кочки на кочку, рискуя угодить в колужину.
Мелка она или ухнешь с ручками – не поймешь из-за пышных водорослей, рисунком
похожих на веточки лиственницы.
Вячеслав рискнул. Скачки по кочкам окончились удачно. С последней кочки он
махнул на сухое, к бояркам, которые стояли в густой осыпи необклеванных ягод. За
боярками, в просветах меж березовых стволов, сквозили яркие одежды какой-то парочки.
Он пригляделся. Мелькнула голова Тамары, туго повязанная итальянским платком.
Платок был синий, с красным обрамлением. Теперь обрамление пламенело вокруг ее шеи.
Мужчина, петлявший возле Тамары, потрясал рукой. Рукав лиловой куртки
сосборивался к локтю. Глухой, потому и неразборчивый голос мужчины звучал ритмично.
«Стихи начитывает? – подумал Вячеслав. – Охмуряет. А может, охмурил».
Что-то там Тамару не устроило на пути. Она подалась вбок и, повиляв среди березок,
пошла лицом на Вячеслава. Он пригнулся, упал в траву. Осенило: как Тамара притянула
его сюда с дороги, так и он притянул Тамару. Обрадовался всего лишь на мгновение.
Наткнутся на него – не оберешься стыдобы. Получится, будто подслеживал за ними. Пока
не поздно, притвориться надо. Лег и уснул. Мог ведь уснуть.
Зажмурился. Спит. А стыд не отпускает. Совестно стало, накалились щеки. Хрупанье
и пошелестывание опавших листьев мешало разбирать бубнежку баса. Но вот бубнежка
прекратилась. Неужели заметили? Нет, идут! Заметили бы – стали. К прежним звукам
прибавилось тупанье шагов. Пронесло: мимо протупали. Ох, невезение! Стали. Уж
наверняка заметили. Не ворохнуться. Дрыхну, как солдат в пустой казарме. Погоди! А и не
заметили! Томка обратила внимание спутника на красочную осину. (На «вы» называет, на
«вы»! Не охмурил, значит!)
Спутник согласился, что осина красочная, и уточнил: свекольная вперемежку с
баклажанным и лимонным. И сразу же забыл об осине и потащил свое:
– Тамариск, я читал тебе («На «ты», негодник, называет») любовные стихи Лорки,
пронизанные восторгом. Есенин еще умел так обнажать интим. Но главные стихи у Лорки
трагические, доведенные до непроглядности. Смрад костров инквизиции быстро
рассеивался, а впечатление от костров инквизиции прожигало столетие за столетием.
Настигло оно и Лорку. («Малый не без ума. Старшекурсник, поднахватался».) Мы
склонны переоценивать влияние современности на формирование человеческой натуры и
очень недооцениваем влияние истории. Имеется наука: психология войны. Пора
возникнуть науке «психология истории».
Тамара подбодрила спутника:
– Создавайте. Вы сумеете создать. Как бы кто не опередил.
– Никто не опередит. Правда, идей не таю. Имеются перехватчики самолетов.
Имеются в гораздо большем количестве и перехватчики идей.
– А вы не рассказывайте.
– Не имеет смысла, Тамариск. («Что еще за Тамариск? Фамильярничает... История,
психология...») Постепенно все идеи постигает участь денег: они становятся
общеупотребительными. («Взгляну-ка я на этого притвору. Изображает щедрость....
Жадюга – точняк. Томка уши растопырила, наверно? Падко бабье не умничанье. А на что
не падко? На звания падко. «Он офицер!», «Он директор!», «Он секретарь!» На
обеспеченность падко. «Квартиру, машину, радиокомбайн!..») Так что, Тамариск, идею не
положишь на личную сберкнижку. Да, Тамариск, я удалился от Лорки. Слушай
трагические стихи, доведенные до непроглядности: «Крик оставляет в ветре тень
кипариса. (Оставьте в поле меня, среди мрака – плакать.) Ведь все разбито, одно молчанье
со мною. (Оставьте в поле меня, среди мрака – плакать.) Тьму горизонта обгладывают
костры. (Я же сказал вам: оставьте, оставьте в поле меня, среди мрака – плакать.)»...
Поэтическая тьма, Тамариск, ослепнуть можно. Нельзя такие стихи писать. Душат
упадничеством. В трагических стихах должен оставаться выход к свету. («Все-то
определил с точностью до миллиграмма. Кому лучше знать, что нужно, а что не нужно,
поэту или тебе?»)
Таиться он больше не хотел. Перекинулся на спину. По тому, что Тамара вздрогнула, а
мужчина по-жонглерски быстро убрал ладонь с ее плеча, Вячеслав понял, что они
услыхали шум травы. Когда они повернулись, он уже вскочил на колени. Вскинутое над
собой ружье держал за шейку ложи.
– Славик! – испуганно воскликнула Тамара.
Он молчал, не улыбался, толкнул вверх двустволку, чтоб указательный палец очутился
подле спусковых крючков.
Она еще пуще испугалась. Но продолжала изображать восторг:
– Как с неба ты!
– Из рая на лету выпрыгнул!
– Почему на лету?
– Земля-то летит с атмосферой. Дышать там нечем. Дай, думаю, посмотрю, как Томаха
в деревне помогает убирать урожай.
– Горло заболело, была температура.
– Температуру, конечно, согнали?
– Норсульфазол меня спасает. Повезло, что у Григория Михайлыча оказался.
Познакомься с Григорием Михайловичем. Декан нашего факультета. Кандидат
педагогических паук. Читает педагогику и психологию.
Вячеслав оставался на коленях в той же подозрительной позе со вскинутым ружьем.
Знакомиться он не хотел. Зато Григорий Михайлович, хотя Тамара и не представила ему
Вячеслава, изъявил желание познакомиться. Правая рука Вячеслава была занята, а левую
он ему не протянул.
– Левой здороваюсь с друзьями.
– Я вам не друг и не недруг.
– Самый, может, злостный недруг.
– Я докажу, что это не так.
Неожиданно для себя Вячеслав оказался на ногах. И поднял его на ноги Григорий
Михайлович: подхватил под мышки и поднял рывком.
– Недруга бы держал на коленях, – торжественно сказал Григорий Михайлович.
Декан, декан, а спортивен, да и силач: хоп – и поднял. И недурен собой. В черных
волосах сизые пряди, лицо мулатски-коричневое, ямку на подбородке словно сверлом
вдавили. А смотрит, как охмуритель!
– Работать, значит, горло болит, а прогуливаться – здорова?
– Ваш, Тамара, товарищ-то – морализатор.
– Хотя бы.
– Не по возрасту и не по положению.
– Особенно не по...по...ложению. На вас можно межконтинентальные ракеты возить, а
вы прогуливаетесь. Совесть...
– Молодой человек, что бы вы понимали в совести!
– Пожилые крестьяне убирают куузику, ваши студентки убирают...
– У меня был обширный инфаркт.
– Работать нельзя, а пить можно?
– Пить?!
– Пить коньяк.
– Имеете доказательства?
– Славик, умоляю! Григорий Михайлович – наш руководитель.
– В Целиноградской области я раскидывал кучи пшеницы, чтобы не сгорели, с
доктором технических наук. Интеллигенция там вкалывала – будь здоров!
– Интеллигенция не обязана заниматься не своим трудом.
– Ага, интеллигенция не обязана?! Раз вы – мозг, измениате положение.
– Изменишь... В колхозе имеется картофелекопалка. Пользоваться не хотят: половину,
дескать, засыпает во время падения с решетки.
– Дайте прекрасную машину.
– Дайте, дайте... Брюзга, Тамара, ваш товарищ. И вдобавок к сказанному – пусть будет
ему стыдно – демагог.
– Господин декан, уходите. Сегодня я не ручаюсь за себя.
– Совесть – смешно. Ревнивец вы, молодой человек. Совесть была в кодексе дуэли:
соперники вооружены. У вас ружье, я безоружен. И вы же на высотах совести,
гражданской и прочей.
Сам о том не ведая, Вячеслав держал двустволку в таком положении, которое спасало
его от преступления. Держи он ее дулами вперед, при сегодняшней своей
испсихованности саданул бы, наверно, в упор по декану, как стрелял в детстве из
пистоночного автомата.
Оскорбления, будто он брюзга и демагог, приготовили кисть правой руки к повороту
сверху вниз, а кисть левой к тому, чтобы она подхватила стволы. Все это не удалось бы
предотвратить, кабы не слова о кодексе дуэли.
Вячеслав воспринял от своего отца горестно-чуткое отношение к человеческой
беззащитности. В последние годы он не однажды страдал из-за беззащитности других
людей, а также из-за собственной беззащитности. Это и сработало в нем неуловимо и
прочно. Не то чтобы он разумом понял, чтов ы с т у п а л в роли неуязвимо сильного
человека. Кроме того, что в нем проявили себя самопроизвольно достоинство, честь,
справедливость, он еще ощутил и неловкость ситуации, а когда декан укорил его
«кодексом дуэли», почувствовал, что прискорбно виновен в ясной своей правоте, потому
что вооружен.
Декан не был труслив, никому не давал спуска, когда уязвлялся, и если отступал, то с
уверенностью, что победа на его стороне. Щеголеватой развальцей он прошел к бояркам,
набрал горсть ягод, поворотясь, сказал с издевательской занудливостью:
– Вас, молодой человек, клеймили благородством, коль вы позволяете мне перед
расстрелом полакомиться боярышником.
Картинность была в облике Григория Михайловича: лиловая куртка, горчично-желтая
водолазка, мулатская коричнева лица и сизые пряди гривастой шевелюры.
«Любит нарываться», – подумал Вячеслав не без уважения.
– Чем вас расстреливать: бекасинником, утятницей, глухариной картечью?
– Славик, неужели не надоело вздорить? Григорий Михайлович старше тебя. Знаешь,
как его уважают в институте! Ни с того ни с сего – раздор.
– Я предпочел бы медвежью пулю.
– Жакана у меня нет.
Мальчишкой Вячеслав ездил с Леонидом на тетеревиную охоту. Леонид отыскал
поляну, где прошлой весной токовали тетерева. Поправили скрад, залегли в нем перед
рассветом. Из той охоты Вячеслав вынес впечатление, что петухи балдеют в поединках из-
за самок, а самки тупо глазеют на битвы тетеревов, на их поражения, на их внезапную
гибель.
Едва Тамара, невозмутимо присутствовавшая, по крайней мере с виду, при том, как
Вячеслав зубатился с деканом, стала увещевать его, он вспомнил созерцающих тетерок, и
его забрала такая досада, что он выругался и побежал на дорогу.
Тамара постояла, виновато глядя на Григория Михайловича, приложила ладони к
сердцу, потом перевернула их и легонько двинула, словно оставила вместо себя нежность
и еще что-то дорогое, что не выразить жестом.
Вячеслав скоро сбавил шаг. Побрел по траве-мураве проселка, нервно перхая.
Тамара догнала его, вкрадчиво примкнула к боку, зацепилась пальчиками за плечо,
стала нашептывать, что нельзя же быть вечно злопамятным и нельзя раздувать в себе
подозрительность. Возможно, она привлекательна для Григория Михайловича не только
как студентка, но и как женщина, однако культура не позволит ему волочиться за ней, а
она совершенно безразлична к нему.
Перепады настроения, которые он воспринимал как температурные, привели
Вячеслава в состояние, определяющееся словом п е р е г о р е л . После купания в реке
он о х о л о н у л , но крутого душевного спада не испытал. А теперь ему, охваченному
безразличием, мнилось, что его душевные силы скачались до нуля. Надо было бы
отстраниться от Тамары, а он позволяет ей притираться к себе, и она уже не пальчиками за
плечо уцепилась – обхватила талию, и твердая ее грудь жжет спину под лопаткой, будто
каленый металлический шар.
К тому, что он безмолвствует, она относится, как к раскаянию. Раскаяние глушит
прежние обиды, заставляет обольщаться. Мужская натура только представляется
железной, на самом деле она пластилиновая. Назир – исключение. Он случаен в ее судьбе.
Родись она в Средней Азии – ужилась бы с Назиром. Усвоила бы восточное воспитание.
По крайней мере знала бы, что ее ожидает. Правильно тетя Устя говорит: «Не знамши
броду, кинулась в воду». Жизнь-то нужно знать, но как этого мало! Нужно знать себя. А
что мы можем знать о себе?! Возникает желание, и не догадываемся, откуда оно, для чего,
к чему приведет. И не противимся ему. А если и знаем, чем оно вызвано, и даже знаем, что
оно дурное, губительное, все равно не стремимся вырваться из-под его власти. Пьяницы
знают, что губят себя вином, а продолжают пить, и ничего желанней для них нет. Пьют и
тогда, когда их подкарауливает верная смерть. Мы думаем, что мы разумны. А мы
безрассудны. Как будто для того возникаем, чтобы испортиться и все вокруг подвергнуть
порче. Разве она сделалась лучше, окончив школу? Голубая стрекоза стала зеленой
гусеницей. Безбожница во втором поколении, скатывалась к магометанству.
Клятвопреступница... А кто она, если не клятвопреступница? Пообещала дождаться из
армии – дождись. Клятвопреступница, которую возмущают страдания жениха.
Исковеркала Славке армейские годы, а хотела бы, чтобы он по-прежнему воспринимал ее
как стрекозу, которой не коснулась и пылинка. Нелепо думать, что Славик молчит по
причине раскаяния. Каяться должна она. И не про себя, а перед ним.
Мягкость проселка приманивала Тамару. Крикнуть бы на всю степь. Упасть на траву-
мураву. Кататься до изнеможения. Славик, конечно, придет в смятение. Но когда она
затихнет и отрешенно уставится в небо, он опустится к ней.
Но она помнила, что Григорий Михайлович остался возле боярышника и наверняка
наблюдает за ними, однако ей чудилось, что вот-вот она не совладает с собой, отключится
на нет, как бы ни было после совестно и позорно.
Из состояния безудержности, сам того не подозревая, вывел ее Вячеслав. Он
притормозил их шаг и таким голосом, который весь был охвачен безнадежной надеждой,
спросил:
– Ну, что ты мне скажешь?
– Хочу забыться.
– От стыда?!
– Какой стыд?! Хочу обвить тебя и забыться. По-страшному наскучалась. Обвить и не
отпускать тысячелетие.
– Ему ты то же говорила?
– Назиру?
– Да этому, вон..
– Не трогай ты Григория Михайловича. Он преподаватель, декан, не больше. Бежим. Я
говорила хозяйке, что замужем. Ты мой муж.
– Я уж сказал.
– Что не муж?
– Наоборот.
– Не смей терзаться. Умничка! Это же святой обман.
30
Старухи не было в избе.
Тамара велела Вячеславу нырнуть в постель. Сама – за ворота и обратно, и защелкнула
на шпингалет дверь горницы, и занавесила рядном оба окна, глядевшие во двор, и
сбросила длинноворсную кофту.
Он, когда Тамара помчалась проверить, сидит ли хозяйка у каменного забора,
опустился на подоконник палисадничного окна, закрытого ставнями. Окно было глубоким
и низеньким, как амбразура. Для удобства он пригнулся, уперся кулаками в колени и
словно спрятался за комод. Зашвыривая кофту в угол, Тамара взглянула на кровать и, хотя
в горнице было сумрачно, сразу заметила, что постель пустует.
Он пригляделся к сутеми, от него не ускользнул бурный испуг Тамары. И как только
она бросилась к двери, чтобы носиться в поисках Вячеслава, он обнаружил себя
ухмылчивым покашливанием. Она оскорбленно налетела на Вячеслава, захныкала, да так
по-девчоночьи тонко (ниточка жалобного звука), что он бросился ее обцеловывать, лишь
бы замолкла, не растеряла вихревой взметенности. К Тамаре вернулась лихорадочность.
Сорвала с себя водолазку. Водолазка осыпалась прыгучими искрами. Прожужжали
«молнии» на бедрах, и Тамара выступила из упавших на пол оранжевых брючек.
Ее спешка походила на беспамятство.
В своем воображении, жаждая Тамару, Вячеслав бывал горячечно скорым, но никогда
до такой степени не воспламенялся. И теперь, когда все должно было совершиться наяву,
он так волновался, видя и слыша Тамару, что боялся впасть в безумие. И еще сильней
боялся за сердце: оно, как мнилось, разрослось во всю грудную клетку и скакало с
быстротой, которую можно выдержать, не шелохнувшись.
За минуту перед тем как пролететь на кровать, Тамара разодрала кнопки пояса, потом
сдернула чулки, и они, словно бы продолжая свой пленочный шелест, пушисто сверкнули,
отброшенные невесть куда.
Лишь запахиваясь одеялом, Тамара спохватилась о Вячеславе, и приняла его
неподвижность за робость, и спрыгнула на пол, и с шуршанием пробежала по полу на
цыпочках, и успокаивала внушением, что он безмерно устал, но эта усталость мгновенно
схлынет, едва он приляжет к ней на плечо, что она освободит его от скованности, что он
будет вознагражден за печальное томление и ни разу не пожалеет, что не отрекся от нее.
Ему вспомнился его сослуживец по армии Лычагин. Вячеслав удивлялся тому, что,
будучи наивняком, не предрасположенным к восприятию резкого человеческого опыта, о
чем бы въедливо-плоском ни говорилось, он тотчас об этом забывал; чисто духовное
вбирал полно, как насос воду. Лычагин обладал способностью догадываться о
таинственных взаимодействиях в обществе людей и в природе. Пробовал выяснить
скрытое гравитационное взаимодействие между Солнцем и планетами: почему существует
орбитальное постоянство, почему неизменны скорости вращения и обращения планет?
Искал причины того, почему сосна долговечна в обществе липы и ели и почему рябина с
удовольствием соседствует с березой, а ольха с черемухой. И вдруг сказал, что равновесие
жизни мужа и жены, которые неизменно близки друг дружке от молодости до старости,
поддерживается не только инстинктом продолжения рода, общими взглядами и
хозяйственными заботами, но и взаимодействием полей, должно быть родственных по
своей природе тем, которые удерживают в состоянии гармонии солнечную систему.
Неужели бы он, Вячеслав, оказался в этой избе и разве бы Тамара желала бы обвить
его и забыться на тысячелетие, если бы между ними не было взаимодействия полей, еще
не распознанных человечеством?
Он покорствовал и царил.
Раньше только узнавал, а теперь совершал открытия. Он всегда воспринимал себя в
особицу. В детстве у него возникало желание, когда испытывал незащищенность,
обратиться в один организм с матерью, с отцом, с какой-нибудь из сестер и обычно
трагически переживал невозможность стать с кем-то из них общим существом. А тут
моментами, минутами, часами он чувствует свою нераздельность с Тамарой, и это так
прекрасно, что охватывает впечатление: никто тебе не нужен и не опасен, не будет болей и
невзгод и ничто не омрачит твоего счастья.
Опять исчезли, забылись заботы, красота, ценность мира. Тамара была
всеподчиняющей его заботой, всезатмевающей красотой, единственной ценностью.
Что бы в ней ни проявлялось, все доставляло ему радость, даже рыдание, неутешное,
голосливое, как над гробом.
Эти вечер и ночь были вечером и ночью согласия. Тамара нашептывала, что принесет
Вячеславу сыночка, и он лепетал, что давно мечтает об этом (а не мечтал). Она решила,
что сыночка мало, лучше сразу близнецов, и он приветствовал восторгом их вероятное
рождение.
Она
открылась
Вячеславу,
что
ее
не
прельщает
возможность р а с п р е д е л и т ь с я после окончания института в родном городе: куда
интересней обосноваться где-нибудь в Сибири, при научно-исследовательском центре, где
все молоды, воздух чист, природе не угрожает уничтожение. Он тотчас пообещал поехать с
ней хоть к черту на кулички.
Она заставляла Вячеслава пить коньяк, он пил, несмотря на то, что терпеть его не мог,
и невзирая на то, что был уверен: коньяк сюда притащил декан Григорий Михайлович.
31
Вячеслав как бы проснулся от наваждения, когда услышал из прихожей сухой звон
холодных древесных угольков, разгребаемых кочергой на просторном печном поду.
Строгая старуха. Он напрочь забыл о ней с вечера. Боже мой, что она подумает о
них?! Засветло закрылись, и уже позднее утро, судя по солнечным щелям в ставнях, а все
еще валяются в постели.
Пока не зазвенели угольки на поду, старухино присутствие в избе ничем не
обозначалось. Да что старухино – деревня ничем не обозначалась. Словно оглох: ни
машин, ни людей, ни скота, даже петушиного крика не слыхал.
Если старуха ночевала дома, то впору дождаться ее отлучки и удрать через огород,
чтоб не угодить на глаза.
Стыдоба. Стыд. Стыдище.
Он улизнет, как последний шкода и срамник. И хотя будет казниться, никогда не падет
так низко и, наверно, достигнет сознания, что о ч и с т и л с я , но душевного покоя не
обретет: с городских и деревенских особо строгий спрос, не устранить старухину
взыскательность. Сколько ей поживется, дотоле и честить будет квартирантку Тамару с ее
муженьком-прелюбодеем.
Он-то скроется... А Тамара?
Вячеслав хотел сказать Тамаре, что им надо убираться вместе, но увидел – она спит, да
еще и безмятежно. Он пристальней всмотрелся в ее лицо. Должно же оно, пусть
бессознательно, выражать стыдливость или, по крайней мере, смущение. Безмятежное
лицо и, увы, невинное, как будто ни к чему, что творилось в горнице с вечера, а может, и
того раньше, она не причастна.
Вячеслав потерся носом о мочку ее алого в утреннем полусвете уха. Она мгновенно
повернулась на бок, чуточным толчком скользнула вверх по подушке. Ощутив у себя на
затылке ладони Тамары, Вячеслав уткнулся в знойную ее грудь. Приглашение ко сну, и
такое магическое – никнешь к ней с дитячьей отрадой, тычешься губами в
навострившиеся, пахнущие земляникой соски, забываешься, забываешься!
Невинна! Ничем не смущена! Ни тем, что не муж, ни тем, что он соврал старухе, он,
который жил без обмана, ни тем, что они безвылазно в горнице черт знает сколько часов, а
Тамара еще собирается дрыхать.
Попытка Вячеслава выпростать голову из-под ее руки была воспринята Тамарой как
призыв, и тотчас она отозвалась готовным порывом, который развеял его уговоры: старуха,
мол, бодрствует, может прислушиваться и окончательно проклянет их бессовестность.
Вячеслав не уследил, какое время протекло, когда опамятовался от собственного стона
и чувства происходящей катастрофы. Наступило успокоение, равное апатии. Мало-помалу
сквозь него просочилось смущение. Оно было щемящим, взволновало, перелилось в
раскаяние.
– Мы гибнем, – промолвил он с грустной потерянностью.
Тамара почему-то не беспокоилась, что они гибнут. Нелепая веселость как бы
вселилась в ее руки. Балуясь, она оглаживала его волосы на затылке.
– Малюточка! Славный смешнуля! Кутеночек!
– Перестань сюсюкать, – огрызнулся он.
– Что случилось, Славик?
– Пощады у нас нет.
– К кому?
– К бабушке.
– Откуда ты взял? Она сама по себе...
– Наловчилась прикидываться.
– Теперь не нужно прикидываться.
– Кабы она сама по себе, а мы сами по себе!
– Она поймет. Не все старые злобятся. Она хмурая, но с душой. У сестры ночевала.
– Знаешь ты – ночевала...
– Не слыхать было. Пришла – услыхали.
– Врать-то.
– Хочешь спрошу?
– Ладно.
– Нет, спрошу. Твою подозрительность иначе не умиротворить.
– Тихо.
– Не спрошу – после будешь цепляться.
– Вполне возможно.
– Ну, разрешаешь?
– Действуй.
– Нетушки. Поощрять твою подозрительность – позора не оберешься.
– Виль-виль. Не переношу я неправду. Мы беззастенчиво забылись.
– И чудесно! Любовь!
– Плоть. Жадная. В землю бы провалился.
– Ребеночек! Обычные ласки.
– Для кого обычные, а для...
– Обычные для молодых. Медовая ночь. Зря ты убиваешься.
– Почему ты рыдала?
– Не помню.
– Страшно рыдала.
– Рыдала, – значит, истосковалась. Сам обидел, решил отречься – могло повлиять. От
счастья могла рыдать.
– От счастья?! На кладбище так рыдают.
– К чему ты клонишь?
– Ни к чему я не клоню.
– Противоестественно?
– А то?..
– Кутеночек. Было горе – мой брак с Назиром. Страдала за тебя. У тети Усти так не
болела за тебя душа.
– Мать не затрагивай. Пуще матери никто не страдает о детях.
– До их женитьбы. Из плена возвращаются, из тюрем – рыдают при встрече с
родными. Мое замужество было пленом, тюрьмой.
– Голословно. Давай порассказывай...
– Без иронии не мог обойтись? Я понимаю твои переживания, а ты к моим
безразличен. Ты учитываешь только свои. Не меньше для меня значит, чем любовь, нет,
больше, одно чудесное чувство...
– Назови.
– Боюсь.
– Напрасно.
– Обожглась на молоке, дую на воду.
– Не томи.
– Истомишь вашего брата... Сострадание ценю выше любви.
– Не всему возникает охота сострадать.
– Я сострадаю твоим переживаниям, чему виною сама. В тебе бы открылось
сострадание к моей судьбе. Рассказывать не буду. Почитаешь.
Тамара свесилась с кровати, доставая чемодан. Среди вещей отыскала тетрадь в
обертке из полиэтилена. Зарылась головой в подушку, затихла.
Он догадывался: внезапное сомнение охватило ее. Тревожно отдать на суд то, чему
находишь оправдание, и опасаешься, что это будет воспринято совсем иначе и без
послаблений. Да, он, Вячеслав, осознает ее свойства и поступки гораздо строже, чем она,
потому что любой человек оценивает себя со скидками и естественной внутренней
слепотой, не зависящей лично от него, вовсе не зря говорят, что мы не слышим своего
подлинного голоса, не чуем запахов собственного тела и знакомы со своим обликом всего
лишь в его зеркальном и фотографическом отражении, где лево есть право, право – лево.
Хотя смятение Тамары затягивалось, Вячеслав не захотел отказаться от ее дневника.
Да, мир личности сокровенен, а в чем-то он – зона священного запрета. И все-таки ему,
Вячеславу, не до благородного великодушия: необходимо составить собственную истину о
Тамаре.
Если бы Вячеславу не показалось, что она опять уснула, и он бы не притронулся к ее
спине, то Тамара, наверно, спрятала бы тетрадь обратно в чемодан. Его прикосновение
прервало ее колебания. Она соскользнула с кровати, оставив тетрадь на углу огромной
цветастой подушки.
Пока Тамара не сказала, чтоб Вячеслав читал, и покуда он не вник слухом в ее голос
(решение твердо, после не станет его виноватить), он не взял и не раскрыл тетрадь.
Числа не указывались, населенные пункты назывались редко, однако, судя по тексту -
паста, чернила, карандаш, тушь, – записи делались в разную пору и, вероятно, не в одной и
той же местности.
32
«Большие неприятности у меня: математик Шурлин ненавидит. Добрая половина
мальчишек и девчонок почти не волокет по его предметам. Назначил дополнительные
занятия. Я класс обманула: «Шур гриппует. Разбегайтесь по коробкам». За срыв занятий
вызвали на педсовет, решили исключить. Я и раньше портила математику нервы, изводила
его, даже хамила. Я не явилась на педсовет. Собралась сбежать. Не сбежала: Камаев
Славик отговорил. Уеду, – значит, пропал его аттестат зрелости. У Славика наступит апатия
без меня.
Конец года. Надо переводить учеников. Расщедрились: перевели в десятый класс.
Комсомольский лагерь. Ущелье. Просыпаюсь – на тумбочке охапка колокольчиков.
Колокольчики синие, громадные, девчонки их называют «дар Урала». Славик нарвал.
Приехал на велосипеде. Спал возле палатки. Побежали купаться. Запруда на ручье.
Окунулись, фырк на берег: ледяная вода. Из репродукторов на лиственнице звучат шейки
и роки. Славик дивился. Объяснила: «Сынок тянет пленку. Закроется в красном уголке со
своими «шестерками» и выдает поп-музыку. С транзисторного магнитофона. Директриса
лагеря кипит. Но справиться с «сынком» не может: ключи от уголка у него, нахальный до
бесстрашия. Это Кричмонтов Анатолий – задавака: «Мой папа – горисполком».
Одноклассник и поклонник. Весь джинсовый, глядится англосаксом. Таскает на себе
транзисторный приемник и транзисторный магнитофон японской фирмы «Сони». Стиль
разговора в форме повторения – придумает фразу и твердит, как попугай: «Урою, как
мамонта»; «Человечество – это чело и овечество».
Славик побежал к финскому домику. Пробовала вернуть. Не послушался. Директриса
Язева Мария Германовна кипятилась у дверей красного уголка. Славик был не из лагеря.
Поперла его. Кричала на Славика злее, чем на «сынка», который забаррикадировался в
финском домике. Хулиганы только в кино трусливы. Славик и я подались на гору Три
Сестры. Под березами собрали костянику. Здесь нас нашел Кричмонтов. Напал на
Славика. Применял приемы карате, жуткие удары ногами. Чуть руки не выбил из плеч.
Славик по-простому бил: в ухо, под дых. За приемы я налетела на Кричмонтова. Нос ему
расколотила. Хлынула кровь.
Славика перед армией в больницу поместили. Ангины мучили. Промывали какие-то
лакуны, прямо в гланды делали уколы, диски УВЧ на горло наводили. Приезжали
навещать Славика. Горную клубнику привозила. Мать на другую смену хотела устроить
меня в комлагерь. Догадалась я, что с отчимом без меня она блаженствует. Правда, отчим
перед лагерем чего-то больше со мной общался, чем с ней. До ума, до чуткости моего отца
отчиму далеко, но со мной говорил красноречиво, очень интересные жизненные
наблюдения раскрывал. Заслушивалась. У отчима широкая фигура (он не толстый,
нормальный), широкое лицо. Из-за низкой стрижки верх головы слишком широкий. С
первого прихода внешность отчима забраковала. Когда рассказывал, очень привлекательно






