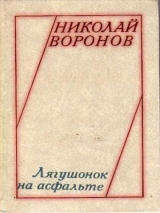
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
– Отыгрывайся лучше сам.
Резкий отцов удар в плечо, наблюдение за игрой Бриля и Стругова рассеяли
магнитные силы сна, и Вячеслав шепнул Брилю:
– По четвертному билету.
Рыжий отшатнулся. После с лихой наигранностью щелкнул пальцами: превосходно!
Вячеслав подряд выиграл две партии. Ожидая, когда Бриль наполнит шарами
треугольник, он взглянул на отца. Отец покачивался на стальной табуретке. Его лицо
багровело, будто он держал на плечах невидимую тяжесть и покачивался вместе с нею.
Едва Вячеслав наклонился, чтобы разбить пирамиду, кто-то выхватил у него кий.
Через мгновение он почувствовал, что оторван от пола и брошен к двери. Ударился боком
о косяк, очутился в коридоре. Карающие руки не дали ему очухаться: подняли и столкнули
с крыльца.
Когда глина перестала скользить под ногами, Вячеслав обернулся. Он хотел кинуться
на того, кто позволил себе такую разнузданность, и увидел что-то коричневое, с
шуршанием летящее к глазам. Коричневым и шуршащим оказался плащ, обидчиком -
отец.
24
Леонид резал крест-накрест вилки капусты. Ксения чистила крупный, сладкий
репчатый лук. Они всегда солили одну бочку капусты с головками лука.
Обрадовались Вячеславу, но быстро поскучнели: он был бледен, усталый,
молчаливый.
– Отдохну у вас?
– Только что хотел просить тебя об этом.
Ксения положила голую луковицу в эмалированный таз, повела Вячеслава в спальню.
– Я поживу у вас? Немножко поживу. Демобилизованных очень скоро наделяют
квартирой.
– Что стряслось?
– Отец... Разлом, одним словом.
– Чё ты в панику впадаешь? Такой парняга! Ты у нас в большие люди выйдешь.
– Невезение, Сень. Лечу в никуда. Наступают, Сень, последние времена. Себя-то не
жаль. Не разбирай постель, на диван лягу.
– Бери, пока не поздно, Томку. Ее любой инженер с руками оторвет. Опасновато,
разумеется. Роскошная внешность. Гулять, боюсь, будет. Отец того же боится. Падки вы на
красивых да на искушенных.
– При красоте она еще и умна.
– Хватила лиха – вот и умна. Была бы раньше умна, не попалась бы. Рассказывала,
муж-то ее детдомовцем прикинулся.
– Сень, ты объясни, как она могла чуть ли не до состояния рабыни докатиться? В
магометанство едва не склонилась?!
– Дочка. И поскольку ее женская суть попала в зависимость... Ты это позже поймешь.
Оно еще войдет в твое соображение.
– Спасибо тебе, Сень.
– Валик больно жесткий. Приподнимись-ка, подушку подложу. Отец в тебе души не
чает. О твоем будущем беспокоится. Томку ты не упускай. Сказка у вас с ней должна быть.
– Не надо, Ксения.
– «Наступают последние времена»... Ишь, сказанул. Душа заходится.
Вячеслав уткнулся в подушку. Она издавала луковый запах, оставленный ладонями
Ксении..
Где сейчас Тамара? Где-нибудь в овощехранилище, потому что на полях нечего делать
– грязь. Будь он с ней, он бы перебирал картошку за двоих, она бы, тепло закутанная, пела
ему.
Он услышал ее грудной, пронизанный нежностью голос. И увидел ее. Она переходила
горную речку. Он побежал к ней. На тягуне его сшибло и понесло вздувающейся водой.
Тамара швыряла в него галькой и хохотала табачным басом Леонида.
Не просыпаясь, Вячеслав понял, что уже скован забытьем, порадовался, что видел
Тамару. После он ходил среди костров. Они казались потухшими, и лишь еле заметно
высверливавшиеся в пепле ноздри указывали на то, что костры полны скрытого
устойчивого жара.
Овеянный сырым холодом, Вячеслав очнулся. На улице ревел огромный грузовик.
Узоры занавесок скользнули по стенам. В нахлынувшей тишине уловил хрипловатое
дыхание матери.
– Ты, мам?
– Вставай, кабы не опоздал на работу.
Она присела на край дивана, прислонилась холодной щекой к его затылку. Горячее
дуновение задело ухо Вячеслава.
– Папа где?
– По улицам слоняется. Беда мне с вами.
Не отворачиваясь от стены, он нашел своей рукой руки матери. В армии они
вспоминались мягкими, гладкими, невесомыми. И то, что теперь они были шершавы, со
вздутыми жилами и раздавшимися суставами, испугало его. Глубокая старость.
Приближение немощи. Тревога, как бы внезапно не умереть.
– Прости, мам.
– Чё ты – «прости»?
– Обещал спокойствие, а заставляю страдать.
– Виноватить не смею. Сам знаешь: мы с отцом убегом поженились. И моложе.
Терпления не хватает. Сами одно исделали, с тебя требуем другое... Напраслину легко
призвисти.
Леонид незаметно прокрался в комнату, включил люстру, проказливо прыгал перед
зажмурившимися Устей и Вячеславом.
Он сцапал Вячеслава за ногу, потащил с дивана, беззаботно приговаривая:
– Мы пахали, ибо ночью будем резать трактора...
25
Перевозчиков еще не был отчимом Тамары, когда Вячеслав увидел его впервые.
Вячеслав выходил из квартиры, чтобы спуститься к Тамаре, которая пригласила его по
телефону мигом примчаться – ей принесли на полчаса ролик с записями поп-музыки, и тут
на лестничной площадке раздалось клацанье.
Из лифта под звяканье подковок появился незнакомый человек. По звуку подковок -
их следовало привинтить потуже – легко было предположить, что он из небрежных, но
внешность и одежда вовсе не подтверждали этого. Прическа с боковым пробором, как
отлитая, щеки и подбородок гладкущие, наверняка они были бы глянцевы до
стеклянности, если бы после бритья он не припудрился. Костюм и расстегнутый плащ
совсем новенькие, ну только что со швейной фабрики, настолько пропитались
нафталином, что дурманили своим запахом. Устя, оберегая камаевские вещи от моли,
подвешивала в шкаф мешочки с нафталином, и вещи задыхались. Плащ и костюм
коренастого человека с подковками были з а д о х н у в ш и м и с я . Позже Вячеслав узнал
о том, что одежда Перевозчикова долго находилась в камере хранения Дома молодых
специалистов, а сам он лечился в туберкулезной больнице, где Светлана
Николаевна, м а т у ш к а Тамары, работала врачом.
В кулаке, поднятом на уровень плеча, человек держал фиолетовый с черными
«коготками» георгин. Локтем другой руки он прижимал к боку огромную коробку, судя по
ее форме и шелковой, крест-накрест, ленточке, с дорогими конфетами. Человек спросил
доктора Светлану Николаевну. Его появление могло помешать Вячеславу побыть наедине
с Тамарой, потому он, не отвечая, – мимо, мимо.
Притвориться неслышащим Вячеславу ничего не стоило. Маленьким мальчиком часто
сидел дома один: мать толклась в очередях за продуктами, отец работал, сестры учились в
школе, и, когда кто-нибудь возвращался и звал его, Вячеслав притихал, словно спит или
умер.
Домашние, обнаружив Вячеслава, шумно радовались. От того, что заставил их
волноваться, а также от того, что они щекотали и обцеловывали его, Вячеслав испытывал
такое счастье, словно ему удалось полетать по комнате.
Детское невинное лукавство – повод для игры и радости – стало привычным для
Вячеслава и постепенно преобразовалось в черту характера. Он так наловчился
отмалчиваться, что те, кто обращался к нему – учительница ли, отец ли, командир ли, -
думали: он плавает в мечтаниях.
Служа в армии, Вячеслав нет-нет и вспоминал скользящую встречу с Перевозчиковым
и подчас склонялся к тому, что в той в ы х о д к е у лифта как бы выразилось его
предчувствие горя, невиноватым виновником которого стал Перевозчиков.
Года за три до появления Перевозчикова в их подъезде от Светланы Николаевны ушел
муж, отец Тамары, Заверзин. Он был умен, красив и с таким непостижимым обожанием
относился к ней, что это вызывало недоумение родственников и знакомых. Саму ее,
женщину обыкновенную, однако сознававшую свою обыкновенность, даже пугало это
обожание, как психическая ненормальность. Другие женщины для Заверзина не
существовали, разве что на стройке, да и то как рабсила: крановщицы, обойщицы,
плиточницы...
А ушел Заверзин потому, что пил запоями. Он мог держаться месяц-два, и тут не было
человека заботливей, нежней, старательней. Но наступал день, когда он оказывался утром
возле круглого и плоского пивного павильона, зовущегося в питейном обиходе «Шайбой».
Обратно он являлся ночью. Чуть тепленький. Едва позвонив в квартиру,
сразу о т к л ю ч а л с я , и Светлана Николаевна, обнаруживая Заверзина под порогом,
торопливо волокла его в кабинет.
Алкогольный вираж Заверзина продолжался не меньше недели. Увещевать и
совестить было бесполезно. Светлана Николаевна выдавала ему на день бутылку
портвейна объемом 0,75 литра, и он, довольный, оставался дома. Иначе он, если бы его
закрыли в квартире, сорвал бы замки и сбежал в «Шайбу».
Пил он глоточками, лежа на тахте «при параде»: в праздничном костюме, в
нейлоновой сорочке с черным галстуком, в чешских мокасинах. Отнюдь не из-за того, что
страдал в это время бессонницей, он неутомимо читал: разряжал тоску по книгам.
Отхлебнет портвейна – и дальше читать или тормошить голубоглазого сиамского кота
Мишку. Престранный был этот Мишка! Ел только сырую треску. Другой рыбы и всякой
прочей еды ему на дух было не нужно. Даже от сливок морду отворачивал. В дни, когда
Заверзин ублажался вином и книгами и когда Светлана Николаевна с Тамарой всего лишь
на минутку заглядывали к нему, Мишка неотлучно находился при нем. Заверзин
бодрствует, и Мишка недремен, Заверзин прикорнет, и Мишка забудется, да не как-нибудь:
сидя у хозяина на груди, уткнувшись лбом в лацкан пиджака. Зато уж ценил Заверзин
Мишкину привязанность! По шторам взбирается кот на карниз – хоть бы не сорвался,
дерет обшивку на тахте – ладно, не на век покупали, возьмется руки ему царапать -
пожалуйста, паши до крови.
Догадываясь, что противен жене и дочери во время запоя, и сознавая, что доставляет
им тяжелые нравственные страдания, Заверзин наконец-то решил освободить их от самого
себя. Взял Мишку и ушел, а немного погодя уехал на строительство рудообогатительного
комбината. Впервые он понаведался на бывшую квартиру именно в тот день, когда туда с
цветами и коробкой конфет явился Перевозчиков, чтобы выразить матери признательность
за спасение: она излечила его от туберкулеза. А Вячеславу казалось, что он явился для
знакомства с Тамарой. Светлана Николаевна, похоже, не хотела сходиться с
Перевозчиковым, пока он не о п р е д е л и т с я п о о т н о ш е н и ю к Т а м а р е .
Тамара сердилась: мать должна любить только ее отца, никакого другого мужчину в
доме она не потерпит. Тамара была в том возрасте, когда чувство родителей друг к дружке
представляется вечным. Не тут-то было: мать упорно не соглашалась, чтобы Заверзин
вернулся к ним, хотя он и перестал пить после того, как белая горячка довела его до
психиатрической клиники. И пришлось Заверзину ехать обратно в Краснояшминск, а
Тамару Светлана Николаевна будто бы отправила к своим родителям во Фрунзе.
Вячеслав считал Перевозчикова невольным виновником Тамариного
скоропалительного замужества и своего горя. Как до службы в армии, так и теперь
Вячеслав относился к Перевозчикову надменно. На его «здравствуйте, Слава»,
произносимое тоном невинного человека, который еще и умеет прощать презрение и
несправедливость, Вячеслав отвечал откидным движением головы, словно находился в
долгом нырке и рывком выбросился из воды, чтобы не погибнуть от удушья.
И вот этот самый Перевозчиков появился у Ксении в квартире и попросил Вячеслава
отвезти Тамаре резиновые ботики, джинсы и теплый свитер.
Хотел Вячеслав сказать, что все у него с Тамарой, что она еще почище Светланы
Николаевны будет, да передумал. Перед кем распахиваться, в ком искать сочувствия?!
– Ладно, несите шмотки.
26
Поезд, на который он сел, обиходно называли т р у д о в ы м . Изначально трудовой
служил для перевозки рабочих и пригородных крестьян. Теперь он возил еще и дачников,
ягодников, грибников, охотников, а в зимнее время – лыжников. Вагоны были
перевалистые, с массивными скамьями и узкими проходами. Голоса отдавались в вагонах,
как в горных ущельях. Приноравливаясь к странному резонансу, люди разговаривали тихо,
сторожко, шепотом, но тем не менее нежелательная громкость скрадывалась слабо. Так
как Вячеслав не собирался глазеть в окно и прислушиваться к чужим разговорам, он
нахлобучил на глаза кепку, а уши заслонил пиджачным воротником. Однако, вопреки
своему желанию, он слышал, о чем толковали на ближних скамьях. Картавая девушка,
вероятно студентка, восхищалась тем, что в Англии любой колледж может иметь свои
оригинальные учебники, написанные собственными преподавателями. Другая девушка,
она ездила в город, чтобып р и б а р а х л и т ь с я к свадьбе, но ничего необходимого не
смогла купить, в подробностях рассказывала встреченным ею поселковым соседям, по
каким магазинам околачивалась целых полмесяца, и время от времени на пределе
отчаяния повторяла: «Чего надо – нет, чего не нужно – полным-полно». Ее слова не
остались без отзвука. Кто-то сварливо пробурчал, что некуда деваться от тряпичников и
тряпичниц: куда ни зайдешь, в учреждение ли, в автобус, в театр, – везде только про обувь
на платформах, про дубленки, про мохер... Кто-то подивился ее упорству:
– С такой настойчивостью не мудрено пробиться в космонавты.
А кто-то третий подвел итог невестиным исканиям!
– Напоминаю лозунг: «Шейте сами».
Гидротехник, ехавший в колхоз, чтобы наладить поливальную установку, потешал
своих спутников байкой о старой доярке, которая, подвыпив, гоняет коров по выгону.
– Кураж ей положен: кормилица наша.
– Молодых надо залучать. Желают сельским трудом заниматься – вот вам коттедж со
всеми причиндалами, включая телевизор, вот автомобиль, вот бетонка до города.
Ничто из разговоров не затрагивало Вячеслава. Душа его, в общем-то, осталась в
прежнем состоянии отчуждения от всего на свете. Разве что по ней на мгновение
пробежал чуточный ток беспокойства. Вячеслав взволновался, что после Тамариной
измены его переживания в основномз а м ы к а ю т с я на ней, да в связи с нею – на самом
себе. Так безумно, так чудовищно сузить мир людей до одного-единственного человека. И
стать таким безразличным к природе.
Чуть позже под воздействием раскаяния он обернулся в детство. Как он любил траву-
мураву! Такая в ней ковровая мягкость. Похолодает – она тепла, наподобие овечьей
шерсти, жарко. – она прохладна! А как он любил ее цвет – микроскопический, бело-алый,
красный, голубенький! Воробьев, которых он беспощадно стрелял из рогатки, стал
обожать из-за травы-муравы. Заметил: сбиваясь к осени в стаи, они кормятся на траве-
мураве. И щиплют прежде всего не что-нибудь, а цвет. Лакомый он для воробьев, как для
него земляника. Да только ли травой-муравой и воробьями завораживался он?!
Бронзовками завораживался, когда они наперебив с пчелами и шмелями накачивались
нектаром на розовых гроздьях кустарника козья борода. Кротовым озером завораживался -
берега вокруг озера в холмиках, нарытых кротами. Однажды Леонид завез его сюда на
мотоцикле – маленьких чибисят показать, и Вячеслава до того поразило озеро, что все лето
ежедневно ходил на Кротовое, хотя туда и обратно было двадцать километров. Многим
притянуло его Кротовое: качкими мхами, шоколадными початками рогоза, которые
красиво выделялись в воздухе над водой, как трубы мартенов на чистом небосклоне,
игривыми ондатрами, весело плюхавшимися с высоких кочек, прозрачными стрекозиными
личинками – они беспонятливо шарашились под водой на стволиках и листьях камыша.
Но, пожалуй, ничто так сильно его не приманило, как звуки над озером. Он заслушивался
сыпучим шурханьем растительности, трескучим бормотком чирушек, цвиньканьем
трясогузок, лаем сычиков, буханьем выпи, угрюмый крик которой всегда был с возвратом
и производил такое впечатление, будто кто-то рывками дул в горло огромной пустой
бутылки. Врастая слухом в эти звуки, он улавливал в них оркестровую слаженность и
примечал самые легкие из них, меленькие, иглистые: потинькивание куличков, слюдяной
шелест стрекозиных крыльев, стрекот резцов ондатры, перестригающей листья
ежеголовки. Да и позже обычно так было: он всласть запечатлевал природу, постройки,
людей, пока не узнал о Тамариной измене. Она, нет, всеопутывающее чувство к ней
подорвало в нем интерес к миру. Разве бы он ехал сейчас на поезде, закрыв глава, горестно
угнувшись, пробуя не слышать людских разговоров.
Нет-нет, не итожить. Пускай все течет, как течет. Реки редко меняют русла. Реки не
думают, куда им течь. Любовь или то, что мы подразумеваем под нею, – хитрая ловушка
для деторождения, действующая при помощи каких-нибудь генетических сил тяготения
или биологической гравитации. А, дуралеску! Отдаться во власть чувств. Слушаться
интуицию, одну интуицию.
27
О спину Вячеслава, одетого в зеленую энцефалитку, терся чехол с двуствольным
ружьем. Так как в лесу мелькали в качающемся полете птицы голубиной величины, он
было подумал, что не мешало бы собрать ружье, но вспомнил, что взял его в сердцах,
подчиняясь настоянию матери.
– Поохотничай. Тетерку подшибешь, повезет – глухарика. Счас глухарик в Сибири у
нас на листвень садится, веточки общипывает. Может, там листвень растет?
Вячеслав сказал матери, что ему противно убивать и горько слушать ее: в какую
уменьшительно-ласкательную оболочку ни упаковывай кровавый смысл, он от этого
добрым не станет.
Устя рассердилась на сына. Чего он к ней придрался? Все твари на земле созданы для
людей. Никакого греха в том нет, чтоб подстрелить птицу. Грешно лебедя убить: у него, по
поверию, человеческая кровь. Остальную птицу бей. Испокон веку люди мясом кормятся.
Его отец если мяса не поест, то сыт не будет. Опять же мясо самое экономное из продуктов
и здоровье хорошо поддерживает. В таком газовом городе, как их, на овощах быстро
протянешь ноги.
Возражать Вячеслав не стал. Хоть он и взял ружье, его негодование долго не
унималось. Через практическую убежденность матери он вдруг постиг закоренелую
человеческую несправедливость: то, что люди считают преступным по отношению к себе,
они почему-то не находят опасным, дурным, предосудительным по отношению к другим
живым существам.
Это рассуждение представлялось Вячеславу бессомненным. На земле есть
вегетарианские народы, а также группы людей и просто отдельные лица, не посягающие
на чью-то жизнь, будь то сверчок, гюрза, тапир или кит. Но в оценке его ума, носящей
всеохватный характер и не подразумевающей, что никто не поддается абсолютизации, не
было ничего опрометчивого: эта оценка была естественной для Вячеслава теперешнего
развития, как естественно для человека то, что в своих даже самых проникновенных
выводах он всегда не столько глубок, сколько ограничен; как ни странно, это и сохраняет
за ним возможность серьезней мыслить и не извериться в неиссякаемости собственной
прозорливости.
Входя под сосны, Вячеслав ужаснулся своему недавнему побуждению собрать
двустволку. Какая-то вымороченная непоследовательность. Взвился против матери,
презрительно думал об ее уменьшительно-ласкательных словечках. А сам-то?!
С развилки он побрел на голоса и вышел к реке. Тут был перекат, кочковатый от
подскакивающей воды.
Хотя женские голоса он услышал в хлебах, сами женщины еще и отсюда были далеко.
Он всегда переживал тяжело скоропалительное появление среди незнакомых людей.
Стесняется, сгорает от мнительности. Правда, теперь он одобрил свое волнение. Покуда
дойдет до них – поуспокоится. Ну, а в это время о н и попривыкнут, что какая-то фигура
маячит на дороге, и не станут разглядывать в упор так въедливо, как разглядывают
внезапного незнакомца.
Пока Вячеслав дошел до них, кто пялился в его сторону, кто посматривал, а кто всего
лишь зыркнул мельком, но действительно почти все они, поглазев, неразборчиво
покричавши (о нем, конечно о нем), похмыкав и нахохотавшись, успокоились, и, когда он
приблизился, посерьезнели, и засмущались, и выразили сожаление, что он не застал на
поле Тамару (она больна), а то бы помог собирать урожай.
Вячеслав, довольный тем, что студентки и колхозницы вели себя приветливо,
пообещал им, как только отнесет Тамаре одежду, вернуться на поле.
Длинная девушка, волочившая за ботву трубчато-тонкой рукой громадные
корнеплоды, похожие и на брюкву и на редьку, походя сказала:
– Сейчас Тамариска охотно побудет без одежды.
– Она просила в письме...
– Речь о текущем моменте.
– Вы правы: погода смилостивилась.
Длинная девушка брякнула корнеплоды в бурт; он складывался кругом, ботвой
наружу.
Чикая ладошкой о ладошку, она винтом повернулась на каблуке. Ее волосы, плоско
провисавшие по спине, на миг скрутились в жгут. И вот она выструнилась перед
Вячеславом. Негодованием ли, вызовом подчеркнута неожиданно высокая грудь, как бы
застывшая на полном вздохе.
– Вы подразумеваете погоду вообще, – вкрадчиво промолвила она и переступила с
ноги на ногу, выкругляя бедра, – а я веду речь о специфическом микроклимате, созданном
ради Тамары.
– Что, она сильно простудилась?! – озаботился Вячеслав.
Плечистая студентка в тренировочном костюме из силона крикнула ей:
– Доната, человек окружен заботой. Неужели нельзя порадоваться?
– Чему?
Вячеслав терялся от презрительных намеков Донаты. Страшно очутиться среди
людей, которым известно что-то стыдное, чего не знаешь только ты!
Колхозницы – женщины в возрасте – сидели на земле кольцом. Они отделяли от
корнеплодов ботву. Быстрей своих товарок работала ноздрястая баба, она не отрезала
ботву – секла. Взмах тесака – и корнеплод летит за ее спину, где его подбирает студентка в
силоне. Управляясь с делом скорей других, ноздрястая еще и успевала все углядеть,
расслышать, взвесить. Таких баб восторженная Устя называла вертиголовыми. Именно
вертиголовая осадила Донату, которая прибегнула к притворству:
– Завистуешь, девонька. Я сразки уцепила в твоем характере: завистуешь.
– Заблужденье, Александра Федоровна.
– Наветки твои понимаю. Лучше луачше думать о человеке, чем в плохом подозревать.
– Вас не переубедишь.
Александра Федоровна засмеялась, ловко вскочила, подошла к Вячеславу:
– Подставляй ладони, моалодец прохожий.
Он сомкнул ладони, на них упал прохладный, цвета снега, кружок, отрезанный
Александрой Федоровной от корнеплода. Чтобы Вячеслав не убрал ладони (это он хотел
сделать), она прицыкнула на него.
– Держи! Еще две коляски отполосую. Думаешь, брюква? Нету. Куузика. Спарили
брюкву и, что ли ча, капусту. Промеж себя зовем ее кузьмика, подкузьмика, распузика.
Мужики наши, те почище навеличивают. Все три коляски уплети.
Едва Александра Федоровна заняла свое место, Доната сказала ей, что она за
строгость, будь у нее власть, не прощала бы никому нравственной слабинки.
– Себе бы прощала.
– Заблуждение. К женщинам я предъявляю самые строгие требования.
– Почему не к мужикам? Они все сподряд греховодники. Черти верченые, перченые, в
табаке копченные. Мужиков прищучивай, а ты за нас примаешься.
– На нас держалось и держится здоровье общества. Речь о физическом и моральном. В
том, что наши девушки курят, выпивают...
– И вертихвостничают, – прибавила Александра Федоровна.
– По истории, тетя Шура, угроза для общества, где женщина перестает быть
хранительницей целомудрия.
– Бабы, гляди-кось! Ну и Доната! Чать, на учительницу выучишься, в деревню не
поедешь?
– Не поеду. Население городов будет расти.
– Правильно, пожалуй. В городе чего-чего не творится. Бабы, вот времечко: красавица,
по моде одета – и за строгость.
– Зря иронизируете, Александра Федоровна. Речь...
– Глагол речи упал с печи. Ежли б, Доната, делалось, как говорится, на земле бы давно
рай. Завистуешь?
– Борюсь.
– Хо, борется?!
28
Перед избой, куда Тамару определили на квартиру, был палисадник. Над ним, как и
над другими палисадниками деревни, синели ивовые кроны. Над плетнем виднелись
верхушки бурьяна. Меж лебедой, репейником, осотом, перевитыми вьюнком, каким-то
чудом прострелились мальвы и смотрели на улицу огромными цветами.
Сразу за палисадником, на лавочке возле забора из камня-плитняка, сидела старуха.
Ее глаза были закрыты, голову, повязанную пуховой шалью, она приткнула к забору.
Солнце осенью нежгучее. Наверно, оно приластилось к лицу старухи, будит в душе отраду
и надежды. Какая нелепость, однако! Надежды, они в прошлом для нее. Впрочем... Нет,
возраст меняет надежды. У Вячеслава самого лет десять назад были совсем другие
надежды. Мастерить модели самолетов, работающие на спирте, околачиваться на водной
станции, зимой гонять шайбу по дворовому катку – ни о чем другом он не мечтал. Если бы
тогда ему сказали, что все человеческие желания сведутся в нем к
одному:д о с т и г н у т ь Тамару, он бы отнесся к этому с презрительным неверием. И
вот... Не понять ему старухиных надежд. И жалко ему, всегда жалко людей, время которых
на исходе.
Чуткость у старухи все же молодая. Приоткрыла веки от его взгляда, следила из-под
ресниц (поразительно – не выпали, не поседели!): не то ждала вопроса, не то
догадывалась, к кому пожаловал.
Когда назвал имя Тамары, оттолкнулась от забора, заправила шаль под лацканы
старого мужского пиджака.
– Муж?
Не ожидал от себя обмана. Привычно, даже покорно вырвались чуждое ему слово
«муж»... Не ожидал и того, что старуха, разнеженная предвечерним светом, вдруг
остервенеет:
– Муж, дак держи около себя!
Он тоже остервенел, но голосом не выказал этого:
– Прикажете на цепи держать?
– Другую и на цепь не грех посадить.
– За что вы так на нее?
– Хлипкая.
– Сомнительно.
– На помощь прислали, а все в горнице киснет. Теплынь, дак по околку шастает.
Получается – для отводу глаз присылают.
– Не охотница сачковать.
– До чего охотница, не мне разбирать. Муж, дак ты и разбирай. Проходи в избу. Там с
утра обреталась.
Толкнул кулаком в калитку – не отворилась, двинул плечом – не поддалась.
Старуха велела дернуть за ремешок. Ремешок перед носом. Глянцевитый. Пахнет
дегтем. Дернул. Лязгнуло. Войдя во двор, посмотрел на щеколду. «Механизация!» -
подумал.
Тамары в горнице не было. Отмахнутое к стене одеяло указывало на то, что она
отлучилась на минутку, иначе бы, наверно, застелила постель. Он опустился на лавку.
Пустовато в комнате: кроме лавки да громоздкой кровати с облезлой никелировкой на
спинках желтой меди, стоял в ней березовый комод и два венских стула. Бревна стен
скобленые, голые, если не считать пучка сморщенной калины, нацепленного на гвоздь. В
красном углу, под горящей лампадкой голубого стекла, икона Николы Можая.
Удивило отсутствие фотографий в горнице. Еще раз оглядел стенные бревна, которые,
как говорил ему Коняткин, скоблят специальным ножом – косарем. Но одну фотографию
он обнаружил в сутеми комнаты: стояла на комоде. Взял в руки, чтобы рассмотреть у
теневого палисадничного окна. Карточка семейная, царского времени, кремоватая. Сидят
мужчины: бородатый крестьянин в косоворотке, по сторонам от него, опершись на
сабельные эфесы, – усатые кавалеристы с лычками на погонах. Женщины стоят. Старшая
держится за плечи бородача, молодые – обочь ее, все три в шелковых платках, завязанных
вокруг шеи. Должно быть, крестьянин снялся с женой, сыновьями и снохами. В
пухлогубой молодайке смутно проступала сердитая старуха.
Возвращая карточку на прежнее место, Вячеслав обнаружил две серебряные рюмки,
чуть больше наперстка, вложенные друг в дружку. На дне золотела пленка влаги. Он
склонился пониже. Ноздри обвеяло ароматом коньяка.
Вячеслав был насторожен, но, перешагнув порог чужого жилища, как бы оставил
перед сенями свою распаленную подозрительность... Теперь она словно прорвалась, и он
принялся за ревнивый сыск.
Еще в школьные годы он приметил за Тамарой разбросливость. Где читала книгу, там
и оставит, а потом рыщет по квартире, сердясь на родителей: якобы они куда-то ее
задевали. Где вздумалось разуться, там и скинет туфли, а если они ей не по вкусу или
надоели, то свистанет с ног под тахту, за гардероб. Ее колготки и чулки иногда
оказывались за отцовскими пейзажами, написанными гуашью, в ящиках кухонной горки.
Мать устраивала Тамаре п р о ч у х о н к и , клеймила неряхой. В ту пору Вячеслав заметил
за собой, что вспышку нежности к Тамаре, когда не заставал ее дома, могла вызвать любая
ее вещь, а то и особенность вещи: шубка искусственного меха, с рисунком «под ягуара»,
синий зимородок на апельсинового цвета платке, лаковые сапожки с голенищами выше
колен, дымчатый пушок на шлепанцах. Со стыдом и замиранием в груди он зыркал на ее
лифчики, рубашонки, купальнички. Тамарина мать, прежде чем провести Славу в комнату
неряхи-растеряхи, пробегала мимо дивана, кресел, батарей парового отопления, собирая
белье. Как-то она, уверенная, что Слава не слышит, укоряла Тамару в прихожке:
– Всегда поразвесишь «флаги»... Есть тайны туалета, секреты косметики... Ни твой
отец, ни Перевозчиков, ни мой папа не видели моего белья.
– А мне, мамочка, нравится. Старо, старо. Условности. Не свободный человек, а
линеечник. Ать-два по одной доске, ни сантиметра в сторону.
Тамара была десятиклассницей, когда отец привез ей из Киева французскую грацию.
Обычно Тамара находила предлог или уловку для демонстрации обновы. Тем летом в
городе была мода на хула-хуп, поэтому в спортивных магазинах нельзя было купить его.
Тамарина мама заказала кольцо какому-то благодарному ей легочнику, работавшему на
метизном заводе, и вскоре он доставил им на квартиру три хула-хупа: медный,
дюралюминиевый, стальной в пластмассовой оболочке. Одно из колец Тамара хотела
подарить Вячеславу, но он отказался: презирал повальные увлечения. Она обиделась, с
ноткой мстительности пообещала, что будет крутить одна сразу все три хула-хупа.
Вячеслав пожелал ей успеха, но усомнился в том, что она сумеет вращать вокруг себя
сразу три кольца. Не в чем-нибудь, именно в грации, французской, кружевной, шоколадно-
коричневой, она показывала, как крутит все три кольца. Стальное, в пластмассовой
оболочке кольцо летало по гладким икрам, медное как бы обтачивало талию,
дюралюминиевое вращалось то по ключицам, то снижалось на грудь. От восторга
Вячеслав скалил зубы, по-бесенячьи подскакивал на диване. При этом он не переставал
замечать, какая довольная сосредоточенность в ее лице, как весело вьется тело среди
мелькания обручей, как разжигает его пританцовывающее скольжение босых ступней. С
каждым новым подскоком в нем нарастала радостная алчность. Он бросился к Тамаре,
ушибся о кольца, они сгрохали на деревянный пол, она обозвала его зверем, он опомнился
и удрал.
Потом долго Тамара представлялась Вячеславу сквозь скрытные желания.
Коричневым веретеном она вращалась среди золотого сияния обручей. Этого не было
наяву, по виделось Вячеславу, как и то, чего не приметил, когда она демонстрировала
французскую грацию: высокую шею над впадинками ключиц, прогибы талии, как у
испанок, танцующих малагуэнью, квадраты коленных чашечек.
Видения эти, обычно невольные, Вячеслав вызывал и по воле желания, чаще всего на
скучных уроках, и снова испытывал мучительное наслаждение и мечтал, чтобы Тамара






