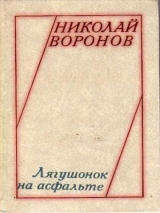
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
позади нее и словно бы отделила на свои ладони часть тяжести, как удержала от
падения и мать и ящик.
Потом она представила себе левобережный больничный городок, куда
увезли мать, однако, кроме карбидно-серого здания морга, где обмывали и
положили в гроб ее замерзшего в буран дядю, ничего себе представить не могла.
Это карбидно-серое здание, назойливо проявившееся в памяти, навело ее на
мысль, что мать, вероятно, собираются оперировать, раз поместили в хирургию.
И не невозможно то, что она не выдержит, тем более что нет рядом ее, Маши.
Решение возвратиться в Железнодольск она приняла быстро, но что-то в ней
противилось отъезду, и ей казалось, что это потому, что мало погостила, не
облазила город и окрестности. Немного погодя догадалась: из-за Владьки. С
резкостью, присущей ее натуре, она усовестила себя, а все-таки не отделалась от
желания погостить тут подольше.
Отец и Лиза, когда узнали о письме, согласились с тем, что Маше надо
ехать. Правда, денег у них не было, и придется ждать до отцовой получки. Хотя
и одолевало Машу нетерпение умчаться к матери, она была довольна, что
задерживается. Вполне вероятно, что он уже не очень-то нравится ей. Но она
хотела бы понаблюдать за ним после его возвращения: как еще он выставится
перед ней?
До отъезда она все-таки постарается узнать, что оторвало отца от матери и
от нее.
Для разговора наедине с отцом никак не выдавался момент; да и дома он
бывал редко, вероятно из-за того, что добивался вместе с Бизиным, чтобы
Трайно вывесил газету «Коксовик». Они ходили в партбюро цеха, в партком
завода, к инструктору отдела пропаганды и агитации горкома партии. Везде
возмущались поступком Трайно, обещали ему разъяснить и, должно быть,
основательно разъяснили – день ото дня он становился мрачней.
В те редкие часы, когда бывал дома, отец только о том и говорил, куда
наведывался из-за газеты, что сам говорил партийным руководителям, что
говорил Бизин и что им говорили. Ни на чем другом его ум не удавалось
сосредоточить. Коля Колич, довольный, что Бизин и Константин Васильевич не
отступаются, забегая на квартиру Корабельниковых, был хмельноват (в погребке
отметился), задорно-весело вздыхал: «Жизнь, жизнь, хоть бы ты похудшела».
В беспокойстве и одиночестве Маша пошла разыскивать техническую
библиотеку.
Наталья Федоровна сидела в маленькой солнечной комнате, переводя
оглавления свежих заграничных журналов и печатая их на машинке «Колибри».
Свет проникал в комнату сквозь падучие веточки цветов, росших в горшочках,
которые висели на нейлоновых нитях.
Маша было хотела ретироваться, чтобы не мешать, но Наталья Федоровна
усадила се напротив себя за письменный стол с книжными застекленными
полками в лицевой стороне тумб.
Коснулись косметики, замужества Натальи Федоровны, доброты
Константина Васильевича. Поболтали о Владьке. Наталья Федоровна ценила
племянника, но, хваля его, намекала, что если бы Маша познакомилась с ее
сыном (он играет на гитаре, пародирует пение знаменитых французских
шансонье, рисует пастелью, не изображает из себя ученого), то Владька померк
бы перед ним. Было лестно и странно Маше настойчивое, даже в чем-то
потаенное желание Натальи Федоровны непременно познакомить сына с нею.
Говоря о талантах сына, Наталья Федоровна словно бы хотела сказать, что
Владьку ограничивает его талант к математике, да и что вообще не следует
отдавать предпочтение математике перед другими областями человеческой
деятельности.
Маша спросила Наталью Федоровну о Галуа. Со встречи с мальчишками-
велосипедистами в березовой роще она помнила фразу Сивого о том, что
Владька хочет быть новым Галуа, а ее нет-нет да терзало, что она, вероятно, не
знает того, что известно всему миру.
Галуа великий мальчик! Был гордецом, в том смысле гордецом, что и на
крошечную несправедливость отвечал всеми силами чести. Однажды ее сын
сказал, что его привлекает честь как нравственная категория и что в ближайшие
годы он создаст монографию об истории и трансформации чести, начиная от
древности и кончая современностью. Гордец типа Галуа неизбежно становится
правдоискателем. Следующая его ступень – революционер.
Наталья Федоровна еще в юности читала о Галуа. Запомнилось, что тонкая
шея Галуа была несоразмерна с крупной кудрявой широкой головой, что его
отец, честный, мудрый человек, покончил жизнь самоубийством, что сам он
погиб на дуэли, что современная математика обязана ему идеями, связанными с
теорией алгебраических уравнений.
Еще запомнилось: на девушек он не засматривался.
Пришел раскосый инженер. Поручил Наталье Федоровне переводить из
американского журнала статью о тэндемных печах.
Маша как жительница металлургического Железнодольска знала, что сталь
выплавляют в мартенах, и ее заинтриговало, что это за тэндемные печи и почему
раскосый инженер ими так интересуется, что его аж лихорадит. Оказалось, что
если построить мартеновскую печь не с одной плавильной ванной, а с двумя, то
получится тэндемная печь, которая будет быстрей и экономней плавить сталь.
Догадываясь, что перевод статьи, написанной техническим языком, займет
уйму времени (Наталья Федоровна и инженер часто ныряли в словари и
справочники), Маша вызвала Наталью Федоровну из солнечного кабинета и без
обиняков спросила, рассказывал ли ей Константин Васильевич, почему сбежал
от семьи, или нет.
– Говорить-то говорил... Да рассказать об этом сложно...
– О тэндемных печах вон какие предложения составляете, тут проще
составить.
– Психологически сложно.
– Мне, – сказала Маша, – куда сложней психологически.
– Будет еще сложней.
– Я готова.
– Кто такие Донцовы?
– В войну мама у них жила. Он художник, она учительница. У мамы мать
умерла. Донцовы и мамина мать вместе росли. Они и взяли маму к себе. Из
барака. У них квартира в каркасном доме и с паровым отоплением, а барак
строился как времянка, промерзал, не натопишься. Они к маме приезжают. Для
них она родней родной. Они, когда папа скрылся, не в маме искали причину, а в
нем. Возможно, отвык от мамы на войне или избаловался... Папу они уважали,
поэтому терялись в догадках. Теперь скажете?
– Нет, девочка, Константин Васильевич сам решится.
– Что-то слишком долго решается. Да, честь. Что она такое и с чем ее едят?
Покорность знаю. Смелость наблюдала: бутылки – и вокруг смельчаки.
Принципы? Принципы в принципе существуют. Я разозлилась. Не сердитесь,
Наталья Федоровна. Я оптимистка. Хмырь будет добивать маму, а я все равно
буду оптимисткой и не казню Хмыря. И все будет в порядке. Успеваемость? По
поведению «пять». В институт не поступлю. Некому протолкнуть. На завод. С
нормой буду справляться. Возможно, буду получать премиальные. Может, не
свыше пятнадцати процентов, может, не меньше шестидесяти. Замуж. Комната в
коробке. Дети. Вибрационка. Пункция спинного мозга. Простите, простите,
Наталья Федоровна. Я распсиховалась. Жалко маму. Жалко себя.
Маша не могла долго не прощать. Не потому, что от природы не способна
была сильно и стойко гневаться, и не потому, что была добра, покладиста и не
старалась строго смотреть на собственное поведение, – а потому, что Клавдия
Ананьевна постоянно склоняла ее своими уговорами к мягкосердечности. Разве
не зажмешь в себе обиду на человека, за которого мать унижается до мольбы
перед тобой? Зачастую этим человеком был Хмырь. То он «пришьется» к Маше
из-за пустяка и ругает, как рыночный пропойца, и мать упрашивает не сердиться
на него, то он ударит Машу по лицу, да еще и пнет кирзовым сапожищем куда
попало, и мать умоляет позабыть это и разговаривать с отчимом без прохладцы.
Поначалу Маше не просто было уступать увещеваниям матери: какое насилие
нужно производить над собой – но постоянно она привыкла переламывать себя я
уже отчаивалась, что никогда не сможет быть гордой.
После разговора с Натальей Федоровной в научно-технической библиотеке
Маша металась по городу, пытаясь отделаться от навязчивого побуждения
сейчас же В потребовать от отца, чтобы сознался, почему бросил их с мамой.
Потом она настолько настроила себя против отца и настолько ей стало
ненавистно смиряться, а сердцем она постигла, как ей показалось, главную
мудрость: людей нужно судить не но их обходительности (вполне возможно, что
она временная и намеренная), не по тому, как они выставляют себя или
преподносят на словах, а по их поступкам и проступкам.
Из этих переживаний и горьких выводов сложилось в ней нетерпеливое
желание уехать сегодня же вечером, – пусть где хотят, там и достают денег на
билет.
Лизу озадачило требование Маши занять ей денег на дорогу. Деньги на
металлургическом комбинате начнут давать завтра, и завтра же Константину
Васильевичу получать, так как коксохимикам вместе с доменщиками и
мартеновцами выдают деньги в самый первый зарплатный день. Сегодня навряд
ли у кого перехватишь. У кого левый есть, те либо прижимисты, либо держат их
на книжке и неохотно с нее снимают.
Маша не отозвалась на Лизины уговоры и тотчас ощутила радость от
собственной непреклонности. Правда, через мгновение она застыдилась того,
что опечалила Лизу и что гонит ее за деньгами. И все-таки отказалась ждать, и
Лиза обегала чуть ли не весь дом, покамест не взяла взаймы.
Стоять за билетами пришлось в здании вокзала. Воздух в зале был горячий,
клейкий, мерзостно разивший дустом. Ядовитая духота, гощение, которое
оканчивается так неприкаянно, без надежд на встречу с этим приглянувшимся
ей городом, где ее чувства и мысли время от времени как бы овеивало чудом, и
ко всему этому обида на недолю матери – ожесточили Машу. И она спрашивала,
почему именно ее мать должна была потерять всю родню до основания, что
теперь ей некуда податься, если она надумает уйти от Хмыря; почему из всех,
кто работает в зеркальном гастрономе, должна была поскользнуться на
огуречной шкурке и попасть в хирургию именно ее мать...
Остановил этот приступ ожесточенных вопросов Владька Торопчин, тем
остановил, что она вспоминала о том, что он называл «вопросничеством», и тем,
что пришел на вокзал и бросился к ней, сияя глазами. И она обрадовалась ему,
однако слегка сердилась на него. Все-таки тютя: обидел и до сих пор не
сообразил, что обидел.
В дни, пока Владька отсутствовал, она вроде бы забыла о нем. Теперь, когда
он маячил возле нее, вперебив болтая о ночевках в лесу, о старике, вырезающем
из жести карнизы, которые узором не хуже тарусских кружев, о проколотых
велосипедных шинах, заклеенных медицинским пластырем, о предстоящей
жизни в математическом лагере, Маша догадалась, что помнила Владьку через
рассерженность, которой загораживалась от него.
Состояние гордости и требовательности к себе, длившееся в ней со вчера и
понравившееся Маше, с Владькиным приходом стало избываться, заменяясь
привычным бесхитростно-естественным и неумным. Но противиться обычному
своему настроению Маше не хотелось, потому что с появлением Владьки в ней
исчезла сиротливость, кроме того, навязчивое предчувствие катастрофы
перестало бередить ее сердце, а признание Владьки, что он, возвратясь из
велопробега и прочитав вызов Московского университета, сразу бросился к
Корабельниковым, чтобы уговорить Машу ехать вместе до Москвы, озарило
отрадой ее настроение.
Проводы были в тягость Маше. Лиза, хлопотливая, добрая, все-таки
успевшая довязать рябиновый свитер, почему-то плакала, извинялась. Игорешка
то и дело прошмыгивал в вагон, прятался, его силком выносили оттуда, он
рыдал, кричал, как ясельный малыш: «Ту-ту, ту-ту!» Наталья Федоровна была
непонятно-безразличная, крутилась на каблучках-шпильках, оглядывая
перронный народ. Подвыпивший Коля Колич топтался с бутылкой портвейна и
стаканчиком из-под финского сыра «Виола» перед Сергеем Федоровичем и
Владькой, предлагая принять по пять капель. На отказы он не сердился. Прятал
в нагрудный карман бутылку и, улыбаясь, вздыхал:
– Жизнь, жизнь, хотя бы ты похудшела.
Константин Васильевич явился сразу незадолго до отправления. С ним был
низкорослый, рессорный в походке и жестах газовщик Бизин. Константин
Васильевич обнял дочку. Когда он возносил руку за ее спиной, Маша отвердела
в плечах. Но нежная застенчивость, которую Маша ощутила в прикосновении
отцовой руки, невольно распустила ее плечи, отозвалась в душе желанием
простить. Припоздал Константин Васильевич к поезду потому, что Бизина и его
принимал секретарь парткома металлургического комбината. Бизину казалось,
что история со снятием стенгазеты «Коксовик» волнует всех присутствующих,
поэтому он юркнул в центр их маленькой группки и заговорил о том, что, в
общем-то, они добились, чего хотели: секретарь парткома сделал при них
«прочес» Трайно. Хотя самовольно снятую газету Трайно не мог вывесить,
поскольку забыл ее в трамвае, вопрос о начальнике они могут поставить в
очередном номере «Коксовика». Коля Колич предложил выпить.
– Примем-ка по пять капель. Портвейный облагоразумит, портвейный
успокоит.
– Что, майор, не принять ли действительно?
– Отрубили.
– Только не здесь, – обеспокоилась Лиза.
– В купе, в купе. Владик, проводишь?
– Условность, тетя Лиза.
Корабельников выхватил у Коли Колича бутылку, снял с горлышка пробку.
Со словами: «Погладь, майор, дорожку молодежи» – он налил в стаканчик вина.
Бизин быстро выпил. Константин Васильевич выпил и сам, а Коле Количу не
разрешил – лишку будет.
Коля Колич не протестовал.
– Согласен. Решительно со всем. Ничего нигде никому не докажешь. Имею в
виду – под турухом, клюкнувши, стал быть.
Отец потихоньку отвел Машу к ограде.
– Вот, дочь, прощаемся. Может, на год, а может, и навеки. Виноват я
наверняка и перед Клавой и перед тобой. Из Германии я вернулся, Клава у
Донцовых жила. Хорошо относились. Но слишком показалось хорошее
отношение с его стороны... Город примеры прибавлял – о других, не о Клаве.
Думал: «Да как же верить людям, если Клава что-то позволила?» Бабы выше
этажом сплетничали, как раз одна из них тень на Клаву бросила... Ну, я и совсем
заболел. Прекрасный у меня друг по работе, а я думаю: «Неужели ошибаюсь в
нем?» Стал впадать в неверие. В черное. С ума схожу, Ну, и уехал. Понимаешь,
война еще раньше меня ранила... Прости...
– Эх ты, папа.
Когда выносили из вагона Игорешу – он хватался за перегородки, полки,
поручни, – Маша и Владька встали возле окна купе. Провожающие задирали
головы.
В последний момент Корабельников хватился, что забыл передать подарок
дочери. Он кинул в окно что-то вроде кошелька на «молнии» и, когда уже
вагоны стронулись с места, крикнул:
– Приборчик. Ноготки подделывай.
Едва на желтоватое лицо Константина Васильевича накатилась лавина
чужих лиц, Машу подкосила внезапная усталость. Стоило притулиться к стене и
замереть, как изнеможение куда-то делось, но легче не стало. О чем только не
была печаль Маши! О том, что на прощанье не обняла отца. Зачем быть с ним
гордой, непрощающей? Кабы у него море счастья, довольства, независимости, а
то работа газовая, угольная, огненная, а иногда в турме гибельно опасная. Еще о
том печалилась, что есть люди, будто затем и созданные, чтобы не давать ходу
справедливости. И остаются ненаказанными и надеются, что в сложной
переделке всегда сыщутся те, кто их защитит. Неужели и тогда, когда она станет
большой, так будет? Почему так: мальчишки за критику бьют, девчонки дуются,
учителя и родителя пресекают. . Может, норов у людей сильнее ума?
Запутанность! А как в других странах? Тоже, наверно, крысятся на критику? У
Торопчиных на столике лежала французская газета «Юманите». Президента де
Голля разрисовали. Прямо гадкий утенок с вытянутым вверх черпаком. Как
пропустили! Попало, видимо, карикатуристу. Ну его, все это. Где теперь наши?
Лиза с Игорешкой домой на автобусе едут. Зачем она плакала и извинялась? Как
я ее люблю! Торопчины едут вместе с ними. Сергей Федорович был
скучноватый, без очков и щетиной подзарос. Если верить Владьке, Сергей
Федорович бреется два раза в день. Только про спекание кокса говорит, про
футбол, про песни шансонье. Что он думает о Франции и про нас?
Наталья Федоровна почему-то сильно переменилась. Неделю нет писем с
Кольского полуострова, от детей. Чего тут такого? Залезли в глухомань. Почему
она не вышла замуж? Ведь милая. Так о Родине говорила! Интересно, я бы
захотела переехать в Россию, если бы родилась за границей и много лет прожила
там? Захотела бы! Во у нас какой Урал! Все на свете на Урале!.. И в прибавок то,
чего нигде нет. Обидно, с отцом мало говорили и не узнала, что для него Родина.
Домой он, конечно, не поехал. Нет, поехал. Проводит Колю Колича и пойдет с
Бизиным в «Поддувало» выпить с получки и с горя. Правда, Бизин не с горя, в
честь победы. Бизину что? Он рессорный! Хоть что самортизирует.
Глупо я. Вид одно, в душе иногда другое. Моя мама прилюдно радостная.
Как солнышка напилась. Что у нее на сердце – никто и не догадывается. «Зачем
буду втягивать в свои невзгоды. Собственных у каждого хватает».
Владька, кособочась, стоял между столиком и сиденьем. От проводов у него
осталась легкая неловкость. Хоть он и считал, что в кажущемся неединстве
форм, красок, явлений заключается целостность, его раздражало, что на перроне
находились строгая, безукоризненная в помыслах, речи и одежде Галина
Евгеньевна и неутюженый, пьяный Коля Колич. Он подумал около вокзала, что
несоединимость каких-то элементов действительности, видимо, не
материальная и не абстрактно-философская категория, а нравственная,
обусловленная привычками, обычаями, моралью определенной среды и
особенностями личного восприятия. Это его успокоило, как всякое продвижение
к ясности.
В отличие от Маши он не был склонен улавливать, как изменяется
настроение тех, с кем он общался. Не то чтобы он был черств – просто ему
претило гадать над колебаниями в чьих-то чувствах, тем более вытягивать из
человека, что там с ним творится. Если потребуется, человек сам заговорит с
тобой. А пока он молчит, в его душу никто не должен лезть. Закручинилась тетя
Наталья Федоровна, – он ни о чем ее не спрашивал. Не имел привычки вникать в
чужие истории. Оставаться сторонним тому, что отвлекает от математики и
саморазвития – с таким девизом он старался жить вот уже два года. Все то, чем
люди занимались, он делил на три сущности: значительное, чуждое, нестоящее.
На том, что находил значительным, он концентрировал сознание; к тому, что
представлялось чуждым или нестоящим, пребывал в равнодушии. Быт -
пустяковое. Отношения вне труда и познания – скукота. Политика – за пределами
его склонностей. Любовь – банальность, уступка физиологии... Он скучал, когда
Торопчины принимались вспоминать свой переезд в Россию; в нем закипало
презрение, когда кто-нибудь кичился тем, что провел каникулы в Москве, а кого-
то распирала гордыня, что их семья переберется на Кавказ. «Географическое
тщеславие» – он его выводил из мещанства. Для Владьки было важно не где
жить, а чему учиться и служить, как проявить себя перед человечеством...
Маша, чтобы не увязнуть надолго в мучительности перронных впечатлений,
стала смотреть за окно. По закрайкам березняков четырехгранные под крышами
стожки. Чудно! А у нас никогда сено не закрывают и не стожки – стожищи!
Роторный канавокопатель. Солдаты, стягивающие кабель с катушки. Сорока на
сосне. Меркло-зеленые клубы ивняка над речкой. Возле всего хотелось бы
остановиться. Вдохнуть сенной аромат. Подбежать к солдатам. Отразиться в
реке. А все – пролетом. Убегающее пространство жадно: всасывает деревни,
леса, равнины, путников, а заодно как бы всасывает твое прошлое со всем, что в
нем было: с надеждами, смятением, боязнью смерти, открытиями, тягой к
достоинству и состраданию...
На подъеме свалило на сиденье Владьку тепловозным рывком. Маша
заулыбалась. Он усмехнулся. Что ты за существо, Владька? Почему ты спокоен
и важен? И сомнений у тебя, кажется, нет, и родных, и друзей?
«Интересно, как ему мой отец?»
– Нормальный дядька.
– Определенней?
– Не выдающийся и не посредственный. Нормальный. Торопчины чтут.
Значит, порядочный.
– А умный?
– Не мыслитель. Из-за стенгазеты чего-то... Мелочь – и столько усилий.
Крупно расходоваться надо. Ради значительного общественного отзвука.
– Он не о масштабах заботится. Для тебя это соринка, для него – бревно в
глазу. Он проводит на коксовых печах почти полсуток и желает думать сам, не
по-трайновски. Если я начну тебе указывать, как ехать в поезде и как обходиться
с проводниками, ты меня сразу возненавидишь.
– Указывай сколько угодно. Я оглохну.
– Не у всех такие нервы.
– В твоем возражении есть смысл. Кстати, твоему отцу не мешает
познакомиться с моим папашей. Вот у кого замах! Под шестьдесят. Три высших
образования. Тартуский университет. Физмат. Ленинградский. Филфак.
Троицкий ветеринарный институт. Знает все – от анатомии животных до
спиральных галактик. Он астматик. Дома бывает только наездом. Город-то
загазован. Скитается по стране в поисках поселков с чистым воздухом. Не
задыхается – оседает на полгода. Любая умственная работа в его возможностях.
Ветврачом бойни был, экскурсоводом планетария был, инспектором по
растениеводству, заведующим райотделом культуры... Чаще преподает: физик,
латинист, литератор, обществовед... Универсал! С месяц даже физкультурником
был, это при своей-то астме... Мотается по стране. Значительные наблюдения.
Периодически суммирует. Сядет – и раз-раз-раз – записку в Центральный
Комитет партии. Я, дескать, такой-то, имеющий три высших образования,
проведя несколько лет на целине, пришел к выводу, что нельзя терпеть дальше,
чтобы так мало было элеваторов. Сейчас много полигонов по изготовлению
железобетонных конструкций, стыкуются, свариваются, собираются они
стремительными темпами, потому это надо осознать и покрыть целину широкой
сетью элеваторов, иначе не меньше трети зерна будет сгорать и терять сортность
в буртах. Но и это не все. Там-то надо протянуть асфальтовое шоссе, оттуда
дотуда налить бетонку, сюда проложить узкоколейку или широкопутку. Все
распишет тщательно – по пунктам и подпунктам. Остается лишь принять
государственное постановление. Великолепный папаша?
– Хорош.
– Когда заглянешь к нам, сможешь лицезреть борца за усовершенствование
общества. Если будешь внимать его речам, узнаешь, что он давал
дипломатические советы Молотову, и тот, разумеется, принимал их, что он
предсказал президенту Кеннеди гибель от руки террориста в письме по поводу
Карибского кризиса. Твое внимание его растрогает. В благодарность он
примется играть на скрипке, поясняя при этом, что он самоучка, что инструмент
расстроен, растрескался... Все наши улизнут в соседние комнаты, но тебе-то не
удастся. Он еще сообщит тебе, что Герцен умный писатель, что Врубель не
признавал Репина и был талантливей, что он отрицает все космогонические
гипотезы, за исключением гипотезы Канта, что сверхволя и сверхмужество
Заратустры дали повод для зарождения фашистского надчеловека и
недочеловека.
Маша, хотя она и сама «завела» Владьку, досадовала, что он, иронизируя над
отцом, говорит, совсем не стесняясь женщины с янтарным браслетом на
запястье, таджика, двух, длинной и пеньковатой, старушек в черном, едущих не
то с богомолья, не то на богомолье. И когда пеньковатая старушка смиренно
отметила: «Честит сынок папашу», а длинная на это кивнула, а таджик
покривился, Маша покраснела и заерзала, стыдливо ожидая, когда Владька
замолчит.
Владька слыхал, что сказала старуха, и видел, как восприняли ее замечание
товарка и таджик. Однако не замолчал: он говорит об отце не им, а Маше, и они
не имеют моральных оснований выказывать свое отношение к его словам:
только невежды не признают права на обособленность человека и человеческих
групп в любом многолюдье; привыкли врываться по-налетчески в мир чьей-то
откровенности и доверительности. А Маша не понимает, что это ненормально,
негуманно.
От внимания Владьки не ускользнуло и то, что его отец чем-то понравился
Маше и что она хотела бы это высказать, да ее удерживает локаторная
пристальность посторонних ушей.
Якобы для того, чтобы узнать у проводниц, где будут долгие стоянки, он
позвал Машу с собой. И хотя она еще не возразила ему, начал убеждать, едва
очутившись в тамбуре, что на бумаге, которую зря переводит отец, кто-то мог бы
научиться решать задачи, изложить инженерный реферат или провести
социологическую анкету.
– Отец указывает на очевидное, поэтому – презирай меня за это – я издеваюсь
над ним.
– Ну и дурак. Он заботливый, а ты равнодушный. Наш город заволакивает
газом. Мы судачим, ноем, ворчим и никуда не обращаемся.
– Заблуждение! Крапунов, вроде папаши, довольно много. Возможно,
каждый пятый пенсионер.
– На котлы ЦЭС поставили пылеуловители. Уверена – крапуны помогли.
– Наивно. Трубы электростанции выбрасывали в сутки сто тонн угольной
пыли. В год получалось тридцать шесть тысяч тонн. Расточительно. Поставили
пылеуловители. Продиктовано экономикой.
– И заботой о здоровье.
– Объективно – да.
– Молчать, по-твоему, лучше?
– Бумагомарание не производит действия. То есть нет, производит:
смехотворное действие. Пора, Маша, мыслить. Для начала осознай, какое место
отведено человеку в металлургической промышленности.
– Ты меня не забивай и не уводи от спора. Твой отец тревожится...
– Он кокетничает. Будто бы печется о благе народа. В сущности, он
эгоцентрист. Сколько помню, от семейных забот он всегда уклонялся, в другие
не успевал войти. Сегодня в Одессе, через месяц в Бобрике-Донском, через
месяц – под Искитимом.
– Ладно. Ты меня не склонишь к безразличию.
– Я тебя склоняю к разуму.
– Как будто я дурочка.
– Дурочка не дурочка...
– А ты, а ты...
Негодование Маши перестригло ее дыхание, и она бросилась из тамбура.
В гневе и растерянности она остановилась перед стеклянной дверью,
захватанной пальцами. Хотелось упасть, заплакать, погибнуть.
Позади железно бухнула дверь. Мимо скользнул Владька. Распахивая
стеклянную дверь, полуповернулся.
– Первое: я нарочно провоцирую на спор. Второе: я подтверждал крыловское
«А Васька слушает да ест». Третье: хорошо тебе, Маша, ты не думаешь, что ты
гениальна! И четвертое: поехать бы нам вместе в математический лагерь!..
Он пошел по вагону, Маша невольно потянулась за ним. Боялась, что в купе,
встретясь с Владькиными глазами, засмеется. Посматривала в окна направо-
налево, затягивая лицо в строгость. А когда увидела Владьку – он забрался на
верхнюю полку, лежал на животе, приложив щеку к мягкому хлорвиниловому,
исполосованному «молниями» чемоданчику, – прыснула в ладони. Он
улыбнулся, но как-то присмирел, – словно откуда-то из одиночества, где горевал
о самом себе.
К областному городу, конечному пункту следования поезда, подъезжали в
зеленоватом свете заката. Их вагон, московский, отвели на боковой путь,
занятый прикольным составом снегоочистителей. В полночь вагон прицепят к
московскому поезду, и они поедут дальше.
Попросили старушек покараулить чемоданы. Спрыгнули на кучу щебня.
Поле, заплетенное рельсами, зубцы разноцветных сигнальных огней в
притуманенности сумерек, небо, отделенное от планеты крупноячеистой сетью
троллей, – во всем этом чудилось что-то ярко-неземное, наводящее оторопь,
влекущее. Невольно взялись за руки. Скакали через рельсы. Лучи светофоров,
желтые, зеленые, красные, вращались, как самолетные лопасти.
За рельсовым полем был пустырь; дальше огнился город пластинами окон,
вязью газовых реклам, фарами, фонарями. Среди зданий выделялся стеклянный
куб, наполненный сварочно-голубым светом. На этот стеклянный куб, не
придерживаясь тропинок, Маша вела Владьку. В кубе находилось кафе.
Согласно вошли туда. Пробирались к свободному столику, чувствуя в себе
что-то новое. Казались себе взрослыми и, как никогда, красивыми. Оба впервые
были в вечернем кафе, и это безотчетно возводило их отношения на ступеньку
выше детских. Они не догадывались об этом, но в их ощущениях уже
увязывались придавшие им новизну светонаполненность кафе и любование,
которым встречала их публика, та независимость, с которой входили в зал,
радуясь существованию этого сверкающего мирка.
Столешница черноногого с алюминиевыми копытцами стола была розова.
Стулья, гнутые из металлического прута и оплетенные чем-то синтетическим,
тоже розовы. Официант – тоненький юноша, пронося на соседний столик
приборы, подтолкнул к локтям Маши карточку, а вскоре гарцевал перед
Владькой, записывая заказ. Официант не удивился тому, что они не брали вина,
мигом определив, что пришли абитуриенты, – так он называл всех непьющих
посетителей. Но все-таки искушающе, с лукавым прищуром предложил Владьке
взять шампанского.
– Не жажду, – ответил ему Владька и вопросительно взглянул на Машу.
– Давай попробуем? – сказала она.
– Считаю – незачем.
– Закажи. У меня есть деньги.
Владька холодно, словно диктуя, тем самым давая официанту знать, что
презирает его, произнес:
– Бутылку шампанского.
Когда официант удалился, Маша, которой понравилось, что Владька легко
поддался ее уговору и проявил твердость к официанту, скользнула ладонью по
его плечу. Владька понял: она благодарна ему и просит не сидеть букой. Он
переменился и больше не проявил к официанту враждебности.
Официант – он приготовился подкусить широту кавалера с черной челкой -
обрадовался его неожиданному дружелюбию, потому что ему хотелось
поглазеть на милую девчонку, у которой необычайный цвет волос – голубые
сквозь сигаретный дым – и которая совсем не походит на фиолетово-чулочных
разгульных малолеток. Он уверился, что не ошибся: Маша слегка пригубила из
бокала шампанского и не стала больше пить, хотя ее и упрашивал заносчивый
паренек.
Странно и приятно было Маше смотреть на пьянеющего Владьку. Ей
захотелось, чтобы шампанское ударило Владьке в ноги и она бы вела его на
поезд, как однажды вела домой англичанка Татьяна Петровна поднабравшегося
мужа, а он хорохорился, уверяя Татьяну Петровну, что его любовь к ней
безначальна и бесконечна, как время.
Владька выпил почти всю бутылку, но шампанское подействовало ему не на
ноги (держался он твердо), а на голову: он безудержно хохотал, рассказывая о
гильотинировании великого французского физика Лавуазье.
Над пространством пустыря призрачным облаком вздулась электрическая
белизна: то горели в высоте световыми сотами надстанционные прожекторы.
Выпала роса, и запах полыни приятным волнением отзывался в груди.
Владька прельстился тщеславным желанием показать перед Машей свой ум
и начал кричать в небо, будто оттуда управляли земной жизнью, что ни за что не
променял бы трагическую ненадежность двадцатого века на идилличную
безопасность древности.
Приспустив ресницы – он отметил, – Маша уставилась на него, и






