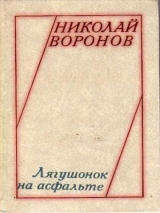
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
согласилась на пункцию, потому что накануне у ее подруги по цеху отнялись
ноги от этой самой пункции. А Маша согласится. Она жизнерадостна и все
выдюжит. И бегать будет. И шарики за ролики не зайдут, как не зашли от
падения с лестницы на асфальт. Затем почему-то Маша вспомнила экскурсию на
блюминг, куда мать, отстраненную из-за вибрационки от работы на наждаках,
посылали убирать окалину из-под рольгангов. В зеркальные валки центрального
поста втягивало стальные малиновые слитки. Грохотало. Кометы искр. По
верхней плоскости слитка каталась вода, взрываясь, сгорая зеленым огнем.
Слиток куда-то делся. В зеркальные валки понеслась вода с берегами,
селеньями, заводами, сплющивает людей, животных, птиц, муравьев. И
закричала, но голоса не было. Чтобы голос появился, откинула плечи, как
крылья, и очнулась.
Вслушалась в виски. Боль исчезла. Качнула головой. Нет боли. Тут Владька
принес крюшон с пирожками. Выпила крюшону и поела пирожков. Встала у
борта. Теплоход скользил к туче, разверзавшей вислое брюхо. Тень тучи
пласталась вблизи, синя бетонный мост, бетонный же, выложенный плитами бок
стрелки и реку, сужающуюся перед выбегом в море.
Владька смотрел на Машу из салона. К ней он не решался выходить,
останавливаемый какой-то суеверной робостью. Было удивительно, потому и
мнилось, будто все это не наяву, что он не замечал раньше, как может быть
прекрасна девчонка. Это открытие явилось его душе в тот момент, когда солнце
золотило Машин профиль с чуть вздернутым кончиком носа и когда вихрились
по ветру ее волосы.
Врач поликлиники металлургов Чебуняев, к которому советовала обратиться
Маше коренастая женщина, четверть часа назад закончил прием, но оставался в
кабинете. Склонясь над столом, он сидел с закрытыми глазами. Перед ним на
белом лежал черный, еще не просохший рентгеновский снимок. У Чебуняева
был друг детства Григорий Кислян. Рос он в семье, которую за
многочисленность называли хором Пятницкого. Рано женился. В первые же
годы обзавелся кучей ребятишек. Работал горновым на домне. При такой-то
огненной специальности да при такой ораве ему взбрендилось учиться. Три года
в школе рабочей молодежи да восемь (делал передышки) вечерником горного
института. С весны начало поташнивать. Обследоваться не хотел. Недавно
защитил дипломный проект. Сегодня понаведался в поликлинику. Невмоготу. И
вот уже известно Чебуняеву, что у Кисляна рак настолько запущенный, что
поздно оперировать.
Владька узнал в регистратуре, что Чебуняев хотя и закончил прием, однако
все еще у себя. Владька скачками на второй этаж. Распахнул дверь кабинета.
Выпалил с порога, что случилось, и только тогда до него дошло, что врач не
шелохнулся за все это время.
Уснул. Никаких! Разбудить!
– Доктор, проснитесь, необходимо.
Врач, не открывая глаз, строго спросил: имеет ли он право на покой. И
Владька ответил с настырной категоричностью – она странна была самому, – что
у врача, если он действительно человеколюб, не может быть такого права. Во
Владькином голосе была еще и торжественность мужчины-опекуна, и Чебуняев
улыбнулся и сказал, что готов принять больную.
То, что они не привезли с собой клеща, Чебуняев осудил. И Маше и Владьке
клещ запомнился чисто красненьким. Это ободрило врача. Энцефалитные
зачастую в черном ободке и с желтой мушкатостью сзади. Температура у Маши
была нормальная. Чебуняев повел девчонку в процедурный кабинет, следил за
тем, как сестра вводила ей гамма-глобулин. Выработанным до безошибочности
чутьем Чебуняев определил, что никакого энцефалита у девчонки не будет; и
вдруг растрогался, что сохранится ее жизнь, заключенная в эту прекрасную
конструкцию тела; и обнял Машу и паренька, смахивающего на Багрицкого, за
плечи, вывел из вестибюля, весело подтолкнул к лестнице.
В кабинете, опять наставляя на оконный свет лист рентгеновской пленки,
вспомнил, как были счастливы, спускаясь по лестнице, паренек и девчонка.
Предполагая, что их, куда-то девавшихся, собираются искать, Маша и
Владька неслись по улицам чуть ли не бегом. Неподалеку от стадиона они
встретили Торопчиных, спешивших на футбол. Маша подосадовала про себя:
такие культурные люди и им интересно, как здоровенные мужчины (по Хмырю -
коблы) пинают мяч, толкаются, куются, рычат, корчатся, сшибленные на поле.
В том, что черные волосы Сергея Федоровича глянцевели, а лицо было
чисто выбрито, а также в этой белой полотняной рубашке, в коричневых брюках
и сандалетах было столько праздничности, что Маша подумала, что, видимо, в
футболе, кроме беготни и силовых приемов, есть и еще что-то. Сергей
Федорович, наверно, чтобы разглядеть ее, надел очки. Золотая планка очков
поблескивала. К его возрасту Владька тоже станет благородным и красивым,
только ему надо будет зачесывать волосы назад и носить очки со стеклами,
привинченными к позолоченной планке.
Беловолосые люди всегда казались Маше тускловатыми. И она поразилась,
что Кира, жена Сергея Федоровича, не выглядела невзрачно рядом с ним. Она
была высокая, с золотистыми бровями и ресницами и розовым румянцем.
Сергею Федоровичу не терпелось очутиться на стадионе. Он велел Владьке
отправляться восвояси: извелась бабушка – с утра ведь пропал.
Сергей Федорович взял под руку жену и сестру. Но Наталья Федоровна
вдруг расхотела идти на футбол.
Когда брат и Кира отошли, она сказала Маше, что скучает о сыне и дочери,
которые отправились в туристический поход на Кольский полуостров, поэтому
охотно побудет немного вместе с нею и Владиком.
Маша предупредила Наталью Федоровну, что побежит домой, но та
ответила, что и она побежит с ней. От неожиданности, от того, что лицо Натальи
Федоровны было замкнутое и какое-то иностранное: смуглота, тонкий нос,
составляющий прямую с наклоном лба, кольчатые волосы, обрушивающиеся до
середины спины, – от того, что почти невзаправдашна была ее судьба, от всего
этого Маше представилась подозрительной навязчивость этой женщины.
Но посмотрела на Владьку, который начал весело рассказывать тете об их с
Машей путешествии, и подосадовала на себя. Едва проводили Владьку, еще
сильней, чем он, стала потешаться над своими энцефалитными страхами.
Отец смутился: был по пояс голый. Он ускользнул из прихожки и, пока они
разувались, надел и зашнуровал футболку.
Маше пришлось обедать в одиночестве: Наталья Федоровна отказалась.
Было досадно, что ее отец робеет перед Натальей Федоровной. Может, она ему
нравится? Дохлебывая окрошку, Маша насторожилась: голос отца, который
слышался размыто, стал отчетливым.
– «Нам нужна, – говорит, – критика, поддерживающая авторитет
руководителя». Бизин ему: «Было бы что поддерживать». А Трайно:
«Демагогия». Как нечем крыть: демагогия. Я и привел пример с особняком.
Наискосок от краеведческого музея старинный особняк стоял. Никто в нем не
жил, и не ломали.
– Памятник архитектуры?
– Не знаю. У него все нутро завалилось. Уличная стена тоже. И подперли,
значит, три остальные стены и потолок бревнами. Чего подпирать, коль
внутренность улькнула вниз? Убрать и заменить новым домом. А Трайно: как,
мол, можно неодушевленный предмет сопоставлять с человеком. Это не
отвечает природе нашего духа. Навострился языком орудовать. Мы с Бизиным
сразу на таран: а отвечает-де нашему духу ваше поведение? Чем он может
возразить? «Дисциплину не уважаете». Плюнули. Ничего ему не докажешь.
Освинцевал мозг. Что не по его, то и вредно. Коллектив ему за слепца, а он сам
себя мнит поводырем.
– Чрезмерно волнуетесь вы, Константин Васильевич, – сказала Наталья
Федоровна. – Снимут начальника блока. Уже всем, очевидно, что он слишком
зауряден. Вот его жена – талантливый энергетик. Она часто бывает у нас в
научно-технической библиотеке. Славная. У нее трое детей. Никогда ни на что
не посетует. Как только все успевает? Она знает, что ее муж не на месте. Скорей
бы, говорит, освобождали... Я поражаюсь... Семейный бюджет изменится,
положение мужа изменится...
Опять голос отца:
– Не за личный достаток пекется, и ложное мужево положение ей не нужно.
Высокоубежденная, значит. Забота об общем благе. Не то что как некоторые -
лишь бы верх держать над людьми и лишь бы темнить, если новая истина на
свет просится.
И Маше очень захотелось жить тут, у отца, потому что он беспокойный
человек и, вероятно, умеет добиваться справедливости, и никогда не думает, что
плетью обуха не перешибешь, и уж конечно он не ходит к магазину, чтобы
«нарисовать» с кем-нибудь всеразрешающую бутылку водки.
У Натальи Федоровны белые с прорезями туфли на гвоздиках. Уже по звуку
гвоздиков можно определить, что Наталья Федоровна величественная женщина,
несмотря на свою хрупкость.
Едва Наталья Федоровна направилась на кухню, Маша поклялась, что к
выпускному вечеру купит себе точно такие же туфли. Выплачет у матери, а
купит.
Стоя в дверном проеме кухни, Наталья Федоровна подмигнула Маше и
крикнула Константину Васильевичу, что намеревается умыкнуть его дочку. Он
не возражал. Настроение у него дохлое, только пасмурь на Машу нагонит. Да и
надо в садик за Игорешей. Время выходит. И Лизе звякнет по телефону в цех:
чего-то она задержалась.
Не сговариваясь, они стали спускаться к морю. При виде разноцветных
дебаркадеров, водной равнины, как бы хромированной вечереющим, но еще
ярым солнцем, северянка, которая развешивала на барже вышитые кофты,
трехпалубного дизель-электрохода, приветствовавшего город гудением, Маша
подумала, как прекрасно, что она не сбежала, что встретила сегодня Владьку,
что прогуливается с Натальей Федоровной.
Мимо них прошли девушки. Помадные малиновые губы, по верхним векам,
над ресницами, черные полосы, от уголков глаз, к вискам, черные отчерки.
Среди молоденьких продавщиц маминого зеркального гастронома тоже есть
смазливые девушки. До того иногда намалюкаются – страхолюдины
страхолюдинами. Маша подсмеивалась над ними, подражая Стефану
Ивановичу: «Опять наваксились, ведьмины ветродуйки?!» Они сердились:
малявочка, ничего не смыслишь. Маша смешно показывала, как они выглядят, а
потом спросила Наталью Федоровну: права она или нет? Ура! Права! Недаром
англичанка Татьяна Петровна находит, что у нее от природы эстетическое чутье.
Потеха! Ты думаешь, в тебе ничего нет, а бац – у тебя обнаруживают
эстетическое чутье. Прямо не из-за чего: зверюшек слепила из репейника,
перелицевала себе в костюм мамино старое платье, оформила в «модерновом»
витринном стиле (цветные треугольники, квадраты, загогулины, абрисы
предметов, строений) альбом клуба интересных встреч.
Наталья Федоровна за естественность. Вот тебе на! Во Франции, те же
продавщицы говорили, и мужчины красятся и делают маникюры-педикюры.
Естественность? Любопытно!
Молодость сама по себе – украшение.
Молодость – украшение? Пожалуй. Одобряю.
Важен тщательный уход за собой.
Ого! Уход! Тщательный!
Человека нельзя судить за то, что он стареет и становится менее
привлекательным или неприятным, уродливым, потому что это нормально и
всякому уготовано. А девчонки, которые прошли, и те, из гастронома, – дико. Не
подражай им, Маруся. Ты симпатичная, милая. Возможно, будешь красавицей.
Следи за своей внешностью, особенно за волосами. Если бы они были мои, то я
имела бы тысячи всяких расчесок, щеток, гребней. Я молилась бы им.
Наталья Федоровна лукаво улыбнулась, чтобы свести свой восторг к
полушутке.
– Маруся... Прости, мне нравится не Маша, именно Маруся. Что, Маруся,
привыкаешь к отцу?
– Помаленьку.
– Он добрый и заботливый. Мы приехали на родину в пятьдесят восьмом.
Здесь у нас никого не было. Он много нам помог. Быт устраивать. Понимать
действительность. Мы нуждались в ясности. Мы благодарны ему. Мы слишком
мечтали о России, слишком стремились в Россию, чтобы разочаровываться. Но
мы страдали бы от миражей, от непривычного в укладе, в обычаях... Мы,
например, думали: можно брать продукты в кредит. В первые дни в СССР мы
опрометчиво израсходовали деньги на мебель. Мама надеялась взять продукты в
кредит. В магазине решили: она тронулась. Твой отец выручил нас.
– К вам он добрый.
Они приближались к дебаркадеру, где вчера ужинали. По отмели в мокрой
одежде потерянно брел вчерашний старик, жаловавшийся на кого-то, кто
вынудил его бросить дом и сад, и обещавший за это отомстить.
С той минуты, когда Маша увидела старика, в ее сердце возникла боль,
неотступно напоминавшая о себе. Теперь эта боль разрослась и затвердела,
будто камень. И Маше так стало жалко старика, что она подумала: если у него
нет никого на свете, то возьмет и поедет с ним и будет ухаживать, как за родным
дедушкой.
Она остановила старика и узнала, что он едет вслед за сыном и невесткой,
которые уже определились на работу в лесозаготовительный пункт.
– Дедушка, да кто же вас выжил?
– Соседи.
– Что же вы поддались?
– Нелюди. С нелюдями, девочка, разве сладишь? Человек-то беззащитный
против них. Сколь раз побеждали их люди. Опосля все равно их верх. Почитай,
всю историю напролет их верх.
– Не может быть...
– И, маленькая... Что-то я не слыхал, чтоб конфетки сбрасывали с самолетов.
Брали чтоб ящик с конфетами и сбрасывали на парашютах во дворы детских
садов. Не конфетки сбрасывают, а бомбы. На тем... Во Вьетнаме...
– Так то американцы.
– Нелюдей везде хватает. У нас, должно, поменьше. А, да кто их считал...
Ведется нечисть, и ничем ты ее не изничтожишь.
– До поры до времени, дедушка.
– Может, опосле детей твоих правнуков. Не, не верю, не. Никак не
изничтожишь.
– Дедушка...
– Спасибо на добром слове. Жить тебе долго и в счастливой надее.
Гурьба цыганят натягивала и отпускала трос, которым пристань была
приторочена к берегу. Свекольномордый вербовщик от того же ресторанного
столика и из того же окна объявлял, что теплоход, плывущий с севера за
вербованными из Грузии, задерживается. Внизу, вдоль служб и на помосте,
галдел, томительно ждал перевалочный люд.
От моря, от моря. Вверх. В город. Ветер, полируя наклонный булыжник
мостовой, шибал Машу и Наталью Федоровну по ногам. Обе уносили в себе
дебаркадерное существование, которое только что обминули. Наталье
Федоровне было неловко за уют и оседлость собственной жизни, а в Маше
продолжилась вчерашняя растерянность перед человеческим миром. Осколочек
этого мира ворвался в ее душу, а она даже не может его понять. И ей нечего
надеяться и в старости сложить вместе все происходящее среди людей, чтобы
постичь, что с ними происходит и куда они придут. Понять бы хотя немногие
судьбы. Тех же цыганят и вербованных, дожидающихся теплохода. Еще что...
Старик этот и вербовщик... Не должны они, старик и вербовщик, вязаться в один
узел, а, выходит, увязываются. Они и в разноречии и в целом. Как так? Да как же
это так? Да почему же старик думает, что нелюди всегда в конце концов берут
верх?
На изгибе улицы выставил желтобалконную стену дом Торопчиных. Маша
тотчас сосредоточилась на том, что увидит Владьку.
В квартире Торопчиных, стоя у винно-красного углом диванчика, Маша все
ждала, что вот-вот появится Владька, куда-то спрятавшийся. Появится
неожиданно, будто собирался напугать, а на самом деле для того, чтобы
дотронуться до нее. Но она слукавит, словно напугалась, и сразу не вывернется
из-под его ладоней, если он положит их ей на плечи. Вместо Владьки появилась
магниево-седая Галина Евгеньевна.
Пунцовея, Маша спросила, где Владька.
– Уехал на велосипеде. С дружками.
Галина Евгеньевна усадила Машу на диванчик и ушла. Наискосок от Маши,
посреди комнаты – трубчатый стеллаж, привинченный к потолку и полу. Перед
книгами темнели вороненый шлем с паутинками орнаментальной позолоты,
выветренной временем, черная лаковая дощечка, на ней красивый поп в
серебряной ризе. На середине стеллажа лежали кожано-сухая голова меч-рыбы и
бивень мамонта, из него были вырезаны круглоголовые мужички с косицами,
едущие на осликах меж фанз, деревьев и зевак.
Наталья Федоровна уже в халатике проскочила за стеллаж. Клацнула,
вспыхивая, зажигалка. Табачный дым протек меж книг, загибался к потолку. Она
сказала, что курнет два разка и тоже сядет на диванчик. И Маше, которой
Наталья Федоровна при всей своей приятности неотступно казалась
иностранкой, послышалась в простодушном ее тоне и в словечке «курнет» такая
Россия, что захотелось подбежать к женщине и обнять ее.
В срединном просвете стеллажа, затканном табачной голубизной, блеснули
глаза Натальи Федоровны.
– Кое в чем, Маруся, мы старомодные. Увы, сохраняем семейные реликвии.
Рыбу-меч поймал мой папа в Бискайском заливе. Папа был тогда слесарем по
газовым аппаратам на химзаводе в Жэфе. В отпуск выбрался. Рыбу-меч поймал.
То было перед захватом Франции бошами.
– Рабочий и сбежал за границу?
– В России он был дворянин, полковник генштаба царской армии. Еще он
был полиглот. Я знаю, кроме русского, четыре языка. Он знал больше.
– А в слесаря устроился?
– До слесаря был такелажником, смологоном, люковым. Знания, звания и
достоинства человека претерпевают девальвацию, лишь только он становится
эмигрантом.
– Как при денежной реформе?
– Относительно.
– За десять рублей дают один?
– За тысячу.
– Понравилось ему рабочим?
– Труд у него был пагубный. Отравления были. Но среду свою он полюбил.
Самих рабочих.
Маша радовалась, что ловко завязала разговор. Но она беспокоилась, как бы
Наталья Федоровна не восприняла ее вопросы как Владька. Может,
пренебрежение к вопросничеству – их фамильная особенность? С проказливым
видом Маша подняла руку.
– Спрашивай.
– Раз вашему отцу понравилась рабочая среда, почему он вас отдал за
миллионера?
– Я вышла замуж против его воли. Но не потому, что метила за миллионера.
Мы учились с женихом в коллеже. Он был сыном итальянского виноградаря.
Жил у тети в Жэфе. Мы нравились друг другу. По выходе из коллежа
поженились. Кстати, тогда муж и не предполагал, что он станет сыном
новоявленного миллионера. До сорок пятого, когда Советский Союз разбил
Гитлера, он тоже работал на химзаводе. Родители мужа сколотили миллионы за
войну. Поставляли вино в армию. Прикупали виноградники.
– Наталья Федоровна, зачем вы курите? Вы ведь дробненькая.
Улыбаясь, Наталья Федоровна появилась из-за книжных полок.
– Тише, мама против, чтобы я курила. Я правильно, как ты славно молвила,
дробненькая. У меня противоречивая натура, потому что противоречивая судьба.
Для многих я дочь эмигранта, для себя – дочь рабочего. Ко мне многие – подавай
историю замужества за миллионером. В действительности я была женой сына
миллионера.
– У вас еще одно противоречие.
– Да?!
– Вы родились во Франции, а про нашу страну все родина да родина.
Наталья Федоровна, сторожившая выражение лица Маши, вдруг будто
перестала видеть ее: то ли потому, что обиделась, то ли чутко вслушивалась в
себя.
– Ты не искала, не вслушивалась. В самом слове «родина» есть ядро смысла.
Род, род – цепь поколений. От древнего предка до нынешнего потомка. Наш род
возник в России. Один из далеких прадедов моего отца был боярином. Наш род
значился в геральдических книгах. Родина – это земля твоего рода, и сам род, и
все другие роды этой земли, и все то, что они создали на этой земле, и все то,
чем они пожертвовали, и чего не сумели, и что еще совершат и выстрадают. .
Боль, кровоточащая рана... Много лет. Особенному папа и у моего деда по
матери. Ты видела на стеллаже его портрет. Да и у всей семьи вплоть до моих
детей. Когда я с детьми прилетела из Чехословакии в Москву, я поняла: гляжу
глазами рода, люблю его любовью. С той поры я верю: то, что входило веками в
глаза, в сердце рода, – передается. Лицо передается, физическая конституция и
память... Нет, не память. Результат отложений в памяти и чувствах. И еще язык,
Маруся. Тогда, в день прилета, хожу по Москве. Кругом русская речь. Пью и
никак не напьюсь. Ехали сюда из Москвы. Иду по вагону. Слышу: «Дождя с
весны не было. Как намедни лен закраснел, так и сейчас лежит. Лен-от обычно
синеват, а этот красноват». Я остановилась. Слушаю. Плачу. Знаешь, как мама и
отец сохраняли нам родной язык? Дома – ни слова по-французски.
Наталья Федоровна опять скрылась за стеллаж покурить. Оттуда сама
заговорила о том, почему ей не ложилось с мужем. Не следовало бы шевелить
эту эпопею. Но ничего... Расскажет ради Маши, чтобы ее, Натальи Федоровны,
юность чем-то послужила Машиной юности.
В религиозных картинах над головами некоторых людей сияют нимбы -
значит, они отмечены святостью. Когда в нас любовь – мы думаем, что отмечены
чем-то сверхъестественным, и боимся утратить его. Но возникают другие
обстоятельства, и для нас приобретают высшую ценность иные чувства. Не для
всех, к сожалению.
Он был ласков, справедлив, заботлив, ее муж Джу, Джузеппе. Она
уговаривала его не переезжать на жительство в Италию. Погостим, вернемся. Не
получилось. Старший брат, приверженец Муссолини, считавшийся пропавшим
без вести, оказался убитым в Триполитании, и теперь он, Джузеппе,
единственный сын у родителей. Они уже старые, надо быть возле них. Разве
отвертишься. Поехали. На руках у нее – грудная Анн, Аня. Чем-то зловещим
отозвался вид родительского дома Джу в ее сердце. Крыша грифельная. Фасад
голый. Ни плюща. Ни балкона. Серый клин на ровном подножье. Отец и мать
Джу копили, должно быть, для первой встречи улыбки, но все их израсходовали
до порога дома. И уже с каменными застольными масками только и разговоры о
наследстве, которое ждет Джу, если он и невестка освоят все работы на
виноградниках и в винных подвалах. Дали понежиться одно утро. Потом
поднимали на рассвете, гоняли по хозяйству до вечерней зари.
Кормишь грудью Анн – торопят. Роды были не совсем удачными. Ей бы
окрепнуть... В других семьях свекор жестокий, свекровь добрая или наоборот.
Здесь – нет. Еще слаба была, свекор стал знакомить с трактором. Хотел, чтобы за
день научилась ездить. Путала... Вместо скорости включила тормоз. Свекор как
ударит наотмашь. Она с трактора, на камни. Увидел Джу, прибежал. До этого
отмалчивался, наедине успокаивал: надо терпеть. Накричал Джу на отца,
пригрозил уехать. Отец не испугался: «Уедешь – оставлю без наследства».
Никогда Джу не был жаден, не мечтал о богатстве. Здесь же всем его умом, всей
честью завладела мысль о наследстве.
За два года изнурительной работы она совсем ослабла. Часами лежала, не в
силах шелохнуться. Муж повез к врачу. Истощение нервной системы.
Необходим полный покой. Устроить в горах, поближе к вершинам. Фрукты,
альпийское молоко, дышать. Вот и все лекарства. Нужны деньги. У Джу нет.
Попросил у родителей. Отказали. Какое там лечение?! Глупости. От труда
увиливает. Послала письмо отцу. Он выкроил из заработка. Поселилась с Анн у
пожилых украинцев. Они перебрались в Италию в начале века. Горное
селеньице. На отшибе от мира. Здесь никому не довелось видеть людей из
России. Крестьяне были рады. Заботились. Прожила в украинской семье
полгода. Тут, у вершин, родился Морис. Свекор нашел в Морисе сходство с
собой. Был щедр на гонорар педиатру, которого приглашал к внуку. Но к ней
отношения не изменил: хватит, дескать, притворяться больной. Посылал в
винный подвал. Он выбит в горе. С километр. Посылал удалять из шампанского
осадок: дегоржировать. Воздух спертый. Без солнца. Сам процесс не из
простых. Берешь бутылку. Раньше ее наполнили вином. Открываешь, чтобы
выхлестнулся осадок. Опять закупориваешь. Уже окончательно. Винные брызги.
Ноги мокрые от шампанского. Молоко выжимаешь из груди, потому что,
откупоривая и закрывая бутылки, то и дело придавливаешь к ней руки.
Свекровь паралич разбил. Веди дом. Джу часто в разъездах. Теперь
физически он не работал. Отец называл его управляющим, а он себя -
погонялой, который служит у родителей за кормежку, вино и одежду. Мне и того
не доставалось. Я поизносила свои девичьи платья, даже неловко надевать.
Сказала свекру: «Батракам лучше живется...» Орал, что Россия – страна лентяев
и скотов и жаль, что Гитлеру не удалось ее растоптать. В тот же день она заявила
Джу, что уедет, если его отец не извинится перед ней и если не кончится их
бесправие... Джу клялся, что заставит отца извиниться, но не сделал этого. И все
осталось по-прежнему. Она целый день всходила в селеньице, где жили
украинцы. Одолжила у них на дорогу. Через месяц, когда свекор и муж были в
отъезде, спустилась с детьми в долину, оттуда улетела во Францию. Мать
плакала над ней, как над умирающей, так высохла и подурнела она за три года.
Следом явился Джу. Торопчины не приняли его. Она видела из окна, как он
слоняется по улице. Сама не показалась. Анн не пустила.
Бога нет. В этом она не сомневается. Но она верит, что сама жизнь творит
возмездие. Ровно через столько, сколько ей пришлось страдать, не стало на свете
ни свекрови – умерла от нового кровоизлияния в мозг, ни свекра – погребло
снежной лавиной в Швейцарии на курорте. Джузеппе прилетел в Жэф. Он был
уверен: коль пришли миллионы, то вновь придет и любовь жены. Но где ей было
взять любовь, коль от нее и пепла не осталось?
Он был взбешен. Хотел отсудить детей. Процесс затянулся. Все Торопчины
бедствовали, потому что нанимали адвоката. В конце концов, суд постановил
детей оставить у нее, с правом для Джузеппе заполучать их к себе в
каникулярные месяцы, а также с правом разрешать или не разрешать им выезд
из Франции. Чтобы этот пункт записали, он потратил много времени и денег:
узнал, что Торопчины ездят в Париж и там, в советском посольстве, хлопочут о
возвращении в Россию. Семья, разумеется, была в отчаянии. Невозможно ехать
без Анн и Мориса. Оставаться ради них во Франции – тоже трагедия. Сильней
всех хотелось в Россию отцу. И всякое дополнительное препятствие для кого-то
из семьи вызывало у него паническую тревогу. Он и так горевал, что во
Франции останется старшая дочь Елена и младший сын Бернар. Елена была
замужем за ненавистным всем Торопчиным украинским националистом
Пудляковским, выступавшим с антисоветскими статьями и речами. Бернар
принял наше подданство, однако остался в Жэфе: женился на очаровательной
француженке. И вдруг такое постановление суда, что вынуждена оставаться во
Франции и младшая дочь с детьми. Отец умер... Перед смертью он взял клятву с
Галины Евгеньевны и Сергея, что они уедут в Россию. Заставил поклясться и ее,
Наталью Федоровну, что и она выполнит его последнюю волю: уедет, как бы ни
было сложно, и непременно с детьми.
Уехали мать и брат. Она делала вид, что никуда не собирается. Подозревала,
что муж нанял шпионов. По совету адвоката рискнула вписать в паспорт Мориса
и Анн. Поехала. Дрожала, что муж узнает и что ее схватят в ФРГ и вернут во
Францию. Ночью, в самую глушь, таможенный полицейский, этакий громадина,
проверил у нее паспорт. Когда пересекли границу Чехословакии, все трое
торжествовали, пели, дурачились. После они узнали: Джу прилетел из Италии в
Париж. Но он опоздал на сутки. Шпионы не очень тщательно шпионили.
Пока Наталья Федоровна и Галина Евгеньевна поили Машу чаем, вернулись
Кира и Сергей Федорович.
Сергей Федорович подсел к приемнику. На чуточной громкости плутал в
суматошном эфире, натыкаясь на певцов, что-то машинно балабонивших под
джаз, на проливни скрипичной музыки, на разноязычных дикторов,
сокрушавших противников своих правительств.
Его рука замерла: издалека, сквозь цикадный шелест прорвался мужской
голос. Хриплый, гундосоватый, картавящий. Он почему-то не отталкивал. За
мелодией, которую он гнул, разглаживал, золотил, можно было идти в
безлунном лесу, как за лучом фонарика.
Сначала за спиной Сергея Федоровича встала сестра, затем – мать. Едва
голос затих, словно его утянуло туда, откуда он пробился, выпутываясь из
цикадного шелеста, Галина Евгеньевна, ее дочь и сын восторженно загалдели,
дробя «р» и говоря в нос.
Кира провела ладонями от щек к вискам. В этом жесте почудилась Маше
неловкость.
Через мгновение, ощутив за собой безмолвие, разом умолкли и муж Киры, и
свекровь, и золовка.
– Шансонье, – промолвила Наталья Федоровна. – Скорей всего рабочий.
Транслируют из какого-нибудь парижского кафе.
Кира вздохнула.
В прихожей Наталья Федоровна, стоя рядом с Машей, приглашала ее
заходить и сюда на квартиру, и в техническую библиотеку. Маша помнила, что
дети Натальи Федоровны студенты, но воспринимала ее как подружку: так
просто, сердечно и ровно держалась с ней женщина.
Маша чиркнула ладонью о ладонь, щипками одернула платьице, а потом,
чувствуя губами свое отраженное дыхание, шепнула Наталье Федоровне на ухо:
– Вы счастливы?
Наталья Федоровна погладила Машу по голове.
– Еще бы! Но, конечно, не во всем. Ох, до того очаровательные волосы!
Неземные какие-то!
– Марсианские, – подсказала Маша.
– Я сразу догадался, что ты с Марса, – пошутил Сергей Федорович.
Мимо подъезда, вихляя с ноги на ногу, ехал сивый, который определился в
ее уме после встречи в березовой роще как начальник велосипедной ватаги.
Едва вошла в ворота, навстречу ринулась повернувшая с шоссе гончая стая
велосипедистов. Сверканье, перемеженье цветных пятен – футболки, жокейки,
шелест – и уже никого. А она-то подумала, что сшибут.
Сивый, конечно, сивый организовал. И Владька, наверно, был среди них!
Рассказал или нет? О чем, собственно, рассказывать? Теплоход. Клещ.
Поликлиника. Мальчишки любят хвастать чем-нибудь таким или лгать о чем-
нибудь таком. Но не Владька. Наверняка он врать не станет.
Трель велосипедного звонка. Владька. Вопросительный. Выдернул носки
парусиновых тапок из стремян, что ли, прилаженных к педалям. Чего он строго
так воззрился?
– Ну как?
– Что – как?
– Никаких симптомов?
«Вон он про что! Дура! Совсем недавно бесилась, почти умирала. И уже
забыла и думать...»
– Я психопатка, Владик.
– Не убежден.
– Ты уезжаешь?
– Завтра.
– Зачем?
– Меня, к примеру, привлекает деревянное зодчество, в частности, резьба.
– А как же я?
Маша шла по тротуару, Владька катился на велосипеде, отталкиваясь ногой
от гранитной бровки.
Ее вопрос настолько обескуражил Владьку, что он приостановил велосипед.
– То есть?
Еще ни один человек, кроме сестры и брата, не посягал на его волю, чтобы
он не был волен в каникулярные дни и недели.
– Не с кем будет кататься на теплоходах.
– Людей на них с избытком.
– А ты черствый.
– Математик.
– И все равно славный.
– Я не падок на похвалы. И я свободолюбив, потому что мне ясен смысл
несвободы.
Он отъехал.
Маша всегда была чем-то загружена: личное, семейное, школьное. В те
месяцы, когда она сама себе напоминала трамвай – с утра до ночи круженье,
мельканье, короткие остановки, ее мозг, будто запрограммированный,
неутомимо творил мечты, загадки, замыслы, исполнение которых откладывалось
на после.
В немногие необъятные дни, в которые время полностью принадлежало ей,
у Маши и не возникало мысли осуществить что-нибудь, будоражившее ее






