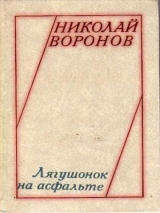
Текст книги "Лягушонок на асфальте (сборник)"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Еще вчера, как и у всех этих людей, у меня был интерес, который окрылял
душу, а теперь его нет, и я не представляю себе, зачем жить.
За спинами плотников я проскользнул на паром, и когда переплыл на правый
берег Урала, то ударился вверх по холму.
В станице гоняли дичь. Стая взрывника, кружившая быстро и слитно, белела
на солнце. С новой силой вспыхнула моя маета. И, проклиная себя за измену
обещанию, я не знал, куда деться от обиды и тоски.
Поздней осенью такая пустота в степи за Уралом, что кажется – всё вымерло.
Сусликов и тех почти не видать. А было многозвучно от жаворонков, и ящерицы
струились меж кочковатыми кустиками старника, и совы спали на копешках, и
горностаи шастали в ложбине. Обесцветились растения, кроме конского щавеля,
кровохлёбки и нивянок. Да еще выделяются среди глинистого однообразия
стеклянные волоконца семян кипрея. Татарник и тот поблек, и только и
заметишь его по скрюченной верхушке. И запахи как ветром унесло. И словно
не пахла, как березовый сок, серебристая по ножке и лепесткам сон-трава, и не
тянуло через увалы аромат горицвета, фиалки, ястребинки, цикория, кипрея,
пижмы, поповника...
Я ломился напрямик по этой тусклоте, и моя неприкаянность скрадывалась,
как бы терялась в бурьянах.
Я быстро добрался до Мартышечьего озера. Полежал на мхах. Нарезал
рогозовых «палок» и успел вернуться домой до ухода в школу. Боль во мне,
похоже, перегорела, и я вроде бы смирился с запретом держать голубей. Я не
подосадовал на бабушку, когда она, зачерпнув ложкой сливочного масла,
полезла под кровать. Даже мысль о том, что теперь не меньше недели бабушка
будет праздновать на голубиные деньги, не обострила меня.
Возвращаясь из школы, я то ли загадывал, то ли умолял кого-то: «Хотя бы
они не прилетели», – но на всякий случай пошел вдоль сараев, балаганов, будок.
Взглянул на барачную крышу. Там сидел голубь. Я подумал, что обмишулился.
Уже темновато, и можно принять за голубя какой-нибудь рваный ботинок,
закинутый на крышу. Чего только туда не забрасывают. Я решил больше не
смотреть на крышу и хотел уйти домой, но не утерпел. Действительно, на
гребне крыши сидел голубь. По белой гладкой голове и вытянутой шее я узнал
младшего Цыганёнка. Уже через мгновение я бросился в барак за ключом. Едва
открыл будку, Цыганёнок слетел на землю и торопливо побежал к порогу. Я так
был обрадован, что понёс Цыганёнка домой. Мать с бабушкой подивились:
пискунишка, которому году неделя, прилетел, да еще и раньше старых голубей.
Мать налила в блюдце молока, а бабушка насыпала чечевицы на жестяной лист,
прибитый перед поддувалом голландки. Я сказал, что в незнакомой комнате он
не станет есть, а вот стекло наверняка вышибет. Чтобы Цыганёнок не убился
или не порезался, прежде чем пустить его на железо, я открыл окно. Он сразу
вспорхнул, вылетел и сел на пол, возле огуречной грядки. И это поразило их.
Я накормил Цыганенка возле будки, и когда, оповестив своих дружков о его
возвращении, пришел домой, то мать с бабушкой всё ещё восхищались тем, что
младший Цыганёнок – башка, а также толковали о поверье, будто у голубей
человеческая кровь, и склонялись к тому, что в этом есть резон: умом,
повадками, семейным укладом, привязанностью к дому они напоминают людей.
Со дня на день я ожидал прилёта Страшного и Цыганки, но они не
появлялись. Пискуну было одиноко. Много им заниматься я не мог – подгонял
успеваемость. Чтобы он не сидел в затворничестве, я выпилил в нижней части
двери отверстие, и Цыганёнок покидал будку и залазил обратно, когда ему
вздумается. Он летал с Петькиной стаей и со стаей Жоржа-Итальянца. Но чаше
всего он летал со стаей Мирхайдара и всегда рядом с хохлатым Цыганёнком.
Иногда он исчезал из неба нашего участка. Где его носит, я не знал, да и не хотел
знать. Мне было ясно, что Цыганёнок любит летать, что он вольный голубь и
что, хоть убей, не сядет у чужой голубятни, если даже к Мирхайдару, куда
садится его брат, ни разу не спустился. Меня бесило, когда кто-нибудь из
мальчишек говорил в его отсутствие:
– Опять Цыганёнок шалается над городом.
Для голубятников ожидание первого снега – как ожидание первого
несчастья. Снег перекрашивает мир. Были горы верблюжьего цвета, выше
землянок на склонах темнели убранные огороды, а верх землянок был пестр:
черный – полито смолой, бурый – крыт железом, сизый – досками, белый -
берестой. Пропали серые крыши конного двора, красная крыша клуба
железнодорожников, зеленая крыша детского сада, разномастные крыши
бараков, оранжевый зонт над трубой котельни, изумрудные крыши завода, в
стекле которых мерцала на солнце медная проволочная арматура. Исчезли
черные домны, глинисто-рыжий ручей, текущий с горы Атач через город, и
глинисто-рыжий лед пруда в месте впадения ручья. Куда-то делись другие
цветовые ориентиры. Голуби дуреют от этой перекраски. Они не кружат над
свежей, слепящей, беспредельной белизной – плутают, носятся, мечутся, будто
промчался в небе ураган и расшвырял их, и они никак, не могут собраться в
стаи. Но понемногу налаживается привычный порядок. Стройность ему
возвращают голуби, уже зимовавшие не однажды. Сбиваясь в маленькие кучки,
они начинают размеренное вращение над угаданной, тысячу раз облетанной
площадью, ожидая, когда соберется вся их разбредшаяся стая. К вечеру редко в
какую голубятню соберется вся дичь. В некоторых голубятнях не
досчитываются и старичков.
Нежеланный день. Лень хаоса, обожженных резким светом глаз, отчаянной
беготни, невероятных потерь.
А для кого и день азартной ловли и богатой поживы!
Приближение первоснежья тревожило меня не только тем, что я могу
лишиться Цыганёнка, а также и тем, что после него навряд ли дождусь
Страшного и Цыганку.
Как я был счастлив, когда холодным утром с иссиня-свинцовыми тучами
услышал крик Саши:
– Цыганка, Цыганка идет по крыше!
Я схватил Цыганёнка и побежал за Сашей. Голубка, отдыхая, сидела на
бараке директора школы Ивана Тарасовича. Я выбросил Цыганёнка, и она
тотчас взлетела. От радости было попыталась бить крыльями и кораблить, да
чуть не врезалась в землю. Там, где она жила, у нее оборвали крылья. Они еще
не отросли как следует, а она подалась восвояси и вот уже летит около
Цыганёнка. И прекрасно, что она прилетела накануне первого снега. Значит,
есть надежда, что если Страшной в зимнюю пору будет стрелять над участком в
своем поисковом полете, то он увидит Цыганку с Цыганёнком и сядет за ними,
хотя и не узнает ни нашего барака, ни моей будки.
Ночью, как и предполагала бабушка – у нее кололо под крыльцами, – выпал
снег. Я очумел от того нежного преображения, которое совершилось во всем.
Замок на будке напоминал полярную сову, трансформатор, взгроможденный на
помост высоковольтного столба, походил на хлопковый тюк. Что-то гусиное
было в паровом подъёмном кране, который стоял на железнодорожном пути
близ вагонного цеха. В дырке над порогом появился Цыганёнок и мигом
отпрянул назад. Немного погодя он повысовывался из лаза, опять выскочил на
порог и, поозиравшись, спрыгнул на белое. Оттого ли, что он провалился в снег,
оттого ли, что не знал, что это такое, а может, ему показалось, что лапки его
обстрекало, Цыганёнок взвился и с лёта нырнул в лаз.
Я наспех оделся, подмел веником землю перед будкой и выпустил Цыганку с
Цыганёнком. Они долго таращились по сторонам и в небо, где уже происходила
голубиная суматоха. Дичь Мирхайдара переполошилась сильней, чем Петькина
и Жоржа-Итальянца.
Мирхайдару нравилось жевать воск. Он жевал его беспрестанно, стараясь,
чтобы получалось с прищёлком. В прищёлках, по словам Мирхайдара, была
самая что ни на есть сладость. Учителя мирились с его дурной привычкой, но
все-таки выставляли с уроков из-за этих прищёлков. Желваки на скулах
Мирхайдар нажевал себе чуть ли не с кулак величиной.
Растерянное лицо Мирхайдара с огромными двигающимися желваками
вдруг представилось мне, когда я услышал, что пуще всех переполошились
именно его голуби. Я не хотел ему урона и даже взволновался, как бы он не
потерял сегодня нашего хохлатого Цыганёнка.
Мой Цыганёнок, набив зоб пшеницей, взмыл вверх, а Цыганка лишь
дотянула до крыши. Там она и сидела, обираясь и наблюдая за небесной
неразберихой, покамест он не вернулся. Он тоже принялся охорашиваться и
весело глазел в лучистый воздух.
Я не понял, почему они вдруг вытянулись. Было впечатление, что они
заметили неподалеку ястреба, хотя никакой хищной птицы в это время в городе
быть не могло. И сорвались они с крыши так резко и сильно, как в опасности.
Через какую-то секунду, к моему недоумению, Цыганёнок начал звенеть
крыльями, а Цыганка, летевшая вровень с ним, принялась кораблить своими
тупыми крыльями. Секундой позже мне всё стало ясно: от заводской стены
тянул Страшной. Он косокрылил – правое крыло у него было короче левого.
Узнав Цыганку и Цыганёнка, он перекувырнулся, сел на хвост и угодил на
телеграфные провода, тянувшиеся вдоль дороги.
Я бросился огибать будки, сараи, балаганы. Поднять! Спасти! И когда
обежал их, то увидел, что Страшной тянет к моей будке над пышной порошей и
от взмахов его крыльев взвихриваются снежинки.
Чтобы избавить Страшного от косокрылия, я оборвал ему левое крыло.
Отрастание перьев ослабляло холодоустойчивость Страшного и Цыганки. В
морозы я заносил их домой. А Цыганенок не мёрз в самую огненную стужу. Я
оставил его в клетке; он решался летать даже в остекленевшем от мороза небе.
Однажды я запозднился в школе. За моё отсутствие к будочной двери надуло
сугроб, и он успел затвердеть, как фаянс. Цыганёнка в клетке не было. Вполне
возможно, что дырку замуровало перед наступлением вечера, поэтому он не мог
попасть к себе в гнездо. Поиски не принесли утешения. На рассвете я встал и
обнаружил Цыганёнка в тупичке между нашей будкой и соседским балаганом.
Он спал на черенке совковой лопаты. И до этого происшествия я знал о
холодоустойчивости голубей и лишь теперь догадался, что зиму они коротают
почти с пингвиньей выдержкой и бодростью.
Голубятничать, как раньше, до бабушкиной сделки с барышником, у меня не
было желания. И не потому, что я не хотел школьных неприятностей и боялся,
что участь Страшного и Цыганки с Цыганёнком повторится. Просто мне
открылась в вольной воле, которую я дал Цыганёнку, какая-то необъятность
простора, движения и красоты, что я не представлял себе, как смогу лишить
всего этого Страшного и Цыганку, и мечтал сохранить в голубятне неожиданно
возникший свободный порядок.
Когда они стали вылетать втроем, то пропадали в небе почти все светлые
часы дня. Иногда они приводили с собой чужаков, я дарил их бабушке, и у неё
возникал повод для залезания под кровать.
По теплу голуби начали приводить с собой голубку оригинальной масти: по
белому фону синеватые закорючки, напоминающие арабскую вязь. Голубка
ходила вместе с Цыганёнком, но к вечеру, поднявшись, нарезала через
металлургический комбинат и скоро скрывалась в его железисто-чёрной копоти.
Как-то увидел (уже просохло, и на полянах зеленела мурава), что Цыганёнок
целуется с этой голубкой. Вот тебе штука! Я даже замахнулся на них. Их
недоумение было недолгим. Они снова принялись целоваться, а потом со
счастливым боем крыльев совершила кольцевой облет барака и сели.
В этот час возвращался со смены бородатый взрывник. По пути к переправе
он купил на базаре пшеницы и нёс её в мешке, разделив плечом надвое.
Отдыхая, он расспрашивал меня о Страшном, как бы для себя сказал, что
Чубарая до сих пор без пары. В масти голубки – по белому синеватые закорючки
– он увидел сходство с письменным камнем, на том тоже такие значки. Тем, что
назвал голубку Письменной, он вывел меня из затруднительного положения и
опять оставил о себе хорошее впечатление. Голубка словно ждала, чтобы её
нарекли. С этого дня она поселилась у Цыганёнка в гнезде.
К июню Страшной и Цыганка вывели птенцов. Я исполнил свое обещание:
отдал их Петьке Крючину, едва они окостышились. Клевать они умели, но с
неделю донимали Петькиных голубей приставаниями, просили себя покормить,
за что старички секли их крыльями.
Страшной и Цыганка подолгу сидели на конюшне, с тоской глядя на
пискунов, и оба возмущенно ворковали, если при них обижали малышей.
Письменная почему-то неслась на бараке, всякий раз яичко скатывалось с
крыши.
Когда началась война, я решил, что Страшной и Цыганка с Цыганенком – в
Письменной я сомневался – могут пригодиться на фронте. От кого-то я слыхал:
умные голуби после специальной тренировки бывают прекрасными войсковыми
гонцами.
Мы с Сашей принарядились. Саша был в сатиновой косоворотке, сереньком
с коричневой ниткой бумажном костюмчике, в ненадеванных ботинках,
шнурующихся на крючки. Всё сидело на нём из-за своей большины, как чучело
на колу, и все-таки ему было радостно: мать держала его выходные веши в
сундуке под ключом. Ожидая меня у будки, он пел что есть мочи:
Люба, Любушка. Любушка-голубушка,
Я тебя не в силах прокормить...
Я надел парусиновые тапочки, брюки из темного сукна с мохнатым ворсом,
матроску, угрожающе трещавшую в подмышках. Я подсунул Страшного и
Цыганку под резинку, вдетую в подол матроски. Саша приткнул Письменную и
Цыганёнка к плечам, под полы френчика. И мы направились в городской
военный комиссариат. Дорогой со стороны переправы промчался танк Т-34.
Едва мы проскочили сквозь пыль, поднятую танком, то увидели Мирхайдара.
Под вельветовой курткой у него возилась дичь. По тому, как он был раздут в
корпусе, можно было прикинуть, что тащит он под курткой чуть ли не всю свою
стаю. Я подумал, что Мирхайдар идет в комиссариат, и сильно расстроился.
Вдруг да выберут его голубей, а наших забракуют? Оказалось, что вчера он
играл с Бананом За Ухом. Тот выкинул у его барака дюжину голубей, и все они
улетели. И Мирхайдару пришлось расстаться с парой Жёлтых. Мирхайдар шел
на трамвай, надеясь отыграть Жёлтых у Банана За Ухом. Я было повеселел, но
тут же ощутил разочарование. Он и не додумался до того, что голуби могут с
пользой послужить на фронте, и отнесся к нашей затее снисходительно. Зачем,
дескать, использовать для связи беззащитную птицу, коль существуют для этой
цели телефоны и рации? Телефону или рации что? Мертвые аппараты, им не
страшно. А голубя убить может. Жалко.
– А людей тебе не жалко? – спросил я.
– Людей жальчей, – сказал Саша.
– Сами виноваты. Кто затевает войну? Кто оружие делает? Чем же голуби-то
виноваты?
– Ничем. Правильно. Только, ежели фрицы нас перекокают, голубям хана:
всех, гады, сожрут. Значится...
– Я паспорт получу, – перебил меня Мирхайдар, – сразу добровольцем
запишусь. А дичь братьям оставлю. Она мне дороже меня.
Соображение Мирхайдара и озадачило и поколебало нас, но оно не
изменило нашего намерения.
Мы перебежали шоссе перед головой длинной пехотной колонны,
спускавшейся к Одиннадцатому участку. Красноармейцы двигались в обычной,
табачного цвета, форме, наискось перехваченные скатками. Хотя слышался не
грохот их сапог, а только слитное шуршанье, однако оно гулко и почему-то
больно отзывалось в ушах, вероятно из-за того, что шествие было молчаливым,
лица суровыми, командиры не подавали команд. С металлургического
комбината не доносилось ни звука, словно ему было известно, что они уходят, и
он примолк, прощаясь. Я был потрясён этим совпавшим молчанием.
Не меньшее потрясение произвела в моей душе и моя собственная бабушка.
Возвращаясь с базара, она остановилась по другую сторону карагача, близ
которого стояли мы с Сашей. Она не замечала нас, вглядываясь теряющими
зоркость глазами в ряды проплывающих лиц. И вдруг она опустила на землю
кошёлку, истово как-то выпрямилась и начала, высоко воздев руку, крестить
бойцов, миновавших её, и негромко, но твердо произносила:
– Милостивец, спаси и сохрани!
Я не стыдился, что бабушка верит в бога, а тут испытал за неё гордость: она
любит этих людей, которые шагают на вокзал и которых никто не провожает, да
и не может проводить: их родные не здесь; она чувствует, что они нуждаются в
чьём-то горячем благословении, в каких бы словах оно ни выражалось; она
желает им жизни и победы, чего им сейчас хочется больше всего на свете.
Пробраться к сосновому двухэтажному дому военного комиссариата было
трудно: на подступах к нему рокотала, громоздилась, страдала, тешилась
музыкой темноодежная толпа. Группа крупных мужчин волновалась из-за того,
что их долго не выкликают. По спецовкам и по синим очкам, привинченным к
козырькам кепок, можно было догадаться – это сталевары. Вокруг старика с
гармонью вились женщины, постукивая подборами и охая; самая удалая,
красивая, заплаканная то и дело останавливалась перед высоким мрачно-пьяным
кудряшом и частила задорным голосом:
Да разве я тебя забуду,
Когда портрет твой на стене?!
– Все и всё забывают, – повторял кудряш.
Глаза его с цыганским коричневым блеском как бы отсутствовали.
Кольцом стояли физкультурники, почти все были любимцами городской
пацанвы: Иван-пловец, лобастый добряк, называвший предметы в
уменьшительно-ласкательной форме; длинный волейболист Гога, гимнаст
Георгий с прической «ежик», центр нападения из футбольной команды
металлургов Аркаша Змейкин. Теперь не скоро увидишь, а может, и совсем не
увидишь, как Иван своим угловатым кролем торпедой проскакивает
стометровку на водной станции; как мощно «тушит» Гога, иногда сбивающий
мячом игроков; как Георгий, качаясь на кольцах, делает стойку; как Аркаша
Змейкин всаживает штуку за штукой в ворота «Строителя», «Трактора» или
«Шамотки». Мы бы пролезли между парнями, теснившимися в сенях и в
коридоре, если бы не боялись раздавить голубей. К нам подкатился один из этих
парней – мордан блондинистый.
– Что, огольцы, принесли папке выпить-закусить? Ваше дело в шляпе.
Грузовик оттаранил вашего папку на вокзал. По червонцу за бутылку. Сойдемся?
Саша не утерпел и захохотал. За Сашей и я покатился со смеху. Повиливая
боками, он обождал, пока мы просмеемся, и подступил с угрозой:
– Берите за бутылку по червонцу и хиляйте отсюда, а то в лоб замастырю.
– Ну, ты! – тоже с угрозой сказал Саша, ссутулясь и вытянув шею. Блатяга,
чистый блатяга! – Ну, ты, не тяни кота за хвост.
Тут вышел с кипой бумаг в руке сам комиссар. Мы кинулись к нему. Он
опешил от нашего предложения, но сразу смекнул, что огорчать нас не следует,
и, взглянув на Цыганёнка и Письменную и ласково притронувшись к их
головам, поблагодарил нас за патриотичность и велел крепче учиться, особенно
по физике и математике. Про голубей же сказал, что, если они потребуются для
армии, об этом будет сообщено в школы через администрацию.
Выбираясь из толпы, мы увидели, что длинный Гога, Иван-пловец,
футболист Аркаша Змейкин и гимнаст Георгий заскакивают в кузов полуторки.
Когда машина тронулась, мы запустили в воздух голубей, и физкультурники
вскинули над плечами кулаки.
Держать голубей так, как держал их я, было, по выражению бабушки,
начётисто. Пока я ловил и продавал чужаков, пока с помощью Страшного и
Цыганки выигрывал, дичь и деньги, мне было выгодно иметь голубятню.
Прибыль, которую получал, я тратил на пшеницу и коноплю. Но стоило мне
отказаться от ловли чужаков и от голубиных игр, как я почувствовал, что
расходы на корм – дело нешуточное.
Голуби – жоркие птицы, первые чревоугодники среди них – жирнюги,
ленивцы, сладострастники, сизари, засидевшиеся. Однако и среди голубей
встречаются малоежки. Тут особняком летуны: почтарь, турман, чистяк,
оренбуржец – лишь он один может взлетать и опускаться по прямой, как
жаворонок, – а также голуби, озабоченные своей красотой: дутыши, трубачи да
ещё те, кто чистоцветной масти и одарен артистической статью – пульсирует
шейкой, хохочет, принимает декоративные позы.
Хотя Страшной с Цыганкой и Цыганенок с Письменной быстро
наклевывались, забота о корме становилась для меня с каждой новой военной
неделей все более сложной, даже трудновыполнимой. Денег, выдаваемых
матерью на буфет, – я совсем не расходовал их на школьные завтраки, – не стало
хватать на покупку пшеницы; коноплю за ее кусачую цену я ещё в июне
исключил из голубиного меню. Пришлось покупать зерновую дроблёнку, затем
охвостье, после того – смесь проса с овсом, а потом – только овес. А цены всё
росли. И основным кормом для голубей стал хлеб нашей семьи, который мы
получали по карточкам. Коль голуби были мои, я старался есть поменьше, чтобы
в основном на корм им шла моя пайка. С хлеба, как и с овса, у голубей пучило
зобы, да как-то всё на сторону, и они маялись, потягиваясь вверх, словно что-то
глотали и никак не могли проглотить. Петька Крючин, жалея Страшного и
Цыганёнка, иногда приносил карман пшеницы или ржи и вытряхивал зерно
перед ними, а голубок отгонял: он считал, что они гораздо живучей самцов и
спокойно выдюжат на дрянных кормах. Когда на конный двор привозили жмых,
то Петька приглашал меня на разгрузку; за помощь старший конюх выдавал мне
целую плиту жмыха, и тогда на некоторое время у нас в семье и у голубей
наступал праздник. Для себя мы калили жмых на чугунной плите, а для них
дробили в медной ступке.
Банан За Ухом, узнав через Мирхайдара о моих затруднениях, пришел ко
мне. Голуби клевали овес, и он грустно посетовал: «Экий плевел приходится
есть такой прекрасной дичи!» – и выразил желание их купить. Банан За Ухом
работал на мельничном комбинате. Уж он-то будет кормить их отборной
пшеничкой! Я недолюбливал его, а здесь вдруг он мне понравился. Наверно,
тем, что с восторгом смотрел на моих голубей, а может, просто стало жаль, что
на щеке у него багровое родимое пятно, а за ухом нарост, похожий на маленькую
картошину. Походит ли этот нарост на банан, я не мог судить: не знал, что это за
плод и какого он вида.
Он сказал, что берет обе пары оптом за полтысячи. А я сказал, что скощу
ему сто рублей, если он поклянется не обрывать никого из голубей. Он поклялся,
выговорив для себя дополнительное условие: после первого прилёта я отдаю
ему Страшного и Цыганенка.
Через день я съездил к Банану За Ухом и возвратился чуть не рыдая: он
оборвал крылья Цыганёнку, а Страшного и Цыганку, не мечтая их удержать,
перепродал голубятнику со станции Карталы, находившейся километрах в ста от
города. У меня была тайная надежда, что все мои голуби прилетят. А если так
случится, что Банан За Ухом удержит их, то я смогу к нему приезжать, чтобы
хоть одним глазком взглянуть на Страшного с Цыганкой и Цыганёнка с
Письменной. Теперь я не увижу своих старичков. Пути на станцию Карталы у
меня нет и наверняка не будет. А прийти оттуда они не сумеют: такая даль, да и
зима вот-вот наступит.
Уроки я учил, устроившись со всеми удобствами: подо мной край сундука,
придвинутого к стене, под ногами перекладина стола, под локтями сам стол,
упирающийся мне в грудь боковиной столешницы. Чуть скосил глаза – видишь,
что делается перед хозяйственными службами, на крышах, в том числе на
Мирхайдаровом бараке, на металлургическом заводе и в небе над ним и над
бараками. А чтобы увидеть своё лицо, нужно повернуться и достать
подбородком до ключицы. На деревянном угольнике, накрытом кружевом,
связанным мамой из ниток десятого номера, стоит зеркало: в него и глядись
досыта на свои выпуклые глаза (за них меня дразнят Глазки-Коляски), на косую
челку, на разнокалиберные уши. В зеркале я вижу отражение розового
целлулоидного китайского веера и раскрашенной фотокарточки, где мы с мамой
прижались друг к другу плечами и где между её дисковидным беретом и моим
пионерским галстуком есть красный перезвук – оба затушеваны фуксином.
Бабушка терпеть не может, когда я «выставляюсь в зеркале». Она думает, что я
из-за этого с ошибками выполняю задание по письму. Раз я пишу, все это для
бабушки – «по письму».
Её нет дома. Поверх будки я вижу, как она из огромной кучи
каменноугольной золы выбирает комочки кокса. Оборачивайся в зеркало,
сколько твоей душе желательно. От холода в комнате у меня химически-синие
губы. Но я не обращаю внимания на холод. Я гадаю о том, сравняются ли мои
уши, как выровнялись в последние годы зубы, валившиеся прежде друг на
дружку. Я загибаю пальцами уши и пристально их исследую, затем замечаю, что
угол над зеркалом весь в «зайцах» – промерз. И мне становится радостно: нашим
под Москвой и в Москве тепло, все в ватном, в пимах, в полушубках, только у
нас, в одном городе, в помощь фронту собрали эшелон зимних вещей и обуви.
Счастливчик, кому достанутся мои валенки, скатанные дядей Мишей
Печёркиным. Хорошо, что дядя Миша сработал великие катанки. Теперь у кого-
то ноги как в доменной печи. Дядя Миша недоросток, а любит всё крупное:
жену взял чуть ли не вполовину выше себя, на охоту ездит с фузеей восьмого
калибра и пимы валяет на богатырей. Правда, сыновья получаются в него
низкорослые.
Из-под щепки, которой бабушка орудует в куче, вырывается зола. Если стать
голубем и лететь навстречу сегодняшнему ветру – через какое расстояние
устанешь?
Ну, да ладно. Надо браться за алгебру. Какие-то индустриальные математики
придумывают задачки. «Из пункта «А» в пункт «В» вышел поезд...». «Из
бассейна, объемом... в бассейн, объемом...» Неужели нельзя: «Со станции
Карталы в город Магнитогорск вылетел голубь...» А ведь я не знаю, с какой
скоростью летают голуби. Разная у них, конечно, скорость. Среднюю,
разумеется, можно высчитать. А то всё машины, агрегаты, ёмкости.
Бабушка начала дуть в побурелые от золы матерчатые варежки. Сейчас
думает про себя: «Отутовели рученьки мои». Она вздрагивает там, на ветру. И
тут же по моей спине прокатывает волна озноба. Она мерзнет, а я не решаю
задачу. Не решишь к её возвращению – рассердится. Склоняюсь над тетрадью.
От бумажных листьев и от клеенки исходит почти жестяной холод. Скорчиваясь,
как бы ужимая себя к очажку тепла, находящемуся в груди, я согреваюсь. И
вдруг до моего слуха доклёвывается стукоток, мелкий-мелкий, вроде бы
возникающий в подполье. Может, нищенка робко царапает ноготками в дверную
фанерку, а кажется, что звук идет снизу? Однако я наклоняю ухо к полу. Опять
стукоток. Четко различаю, он не из подполья, а из коридора и возникает на
вершок-другой от половиц. О, да это Валька Лошкарев. Ему уже около двух лет,
а он все ползун. Но Валька, когда приползет к нам в гости, то разбойно лупит
ладошкой по фанере. От новой догадки я вскакиваю и бегу к двери, хотя в душе
отвергаю эту догадку. Потихоньку растворяю дверь и слышу, как чьи-то лапки
шелестят с той стороны. И вот на полу напротив меня Страшной. Треск крыльев
– и он на моем плече. И сразу бушевать. И такие раскаты, рокоты, пересыпы
воркованья наполняют комнату и коридор барака, каких я не слыхал никогда.
Закрываю дверь и прохожу на середину комнаты. А Страшной ничего, не
забоялся и все рассказывает, рассказывает о том, как стремился домой, как
решился в мороз и ветер пуститься в полёт, как сразу точно сориентировался,
как еще издали по горам дыма и пара узнал Магнитогорск, как, чуть не падая от
усталости, преодолевал промежутки между бараками и как счастлив, что снова у
меня в комнате, где часто ночевал под табуреткой, над которой прибит
умывальник, и откуда по утрам я гнал его к выходу из коридора вместе с
Цыганкой и Цыганёнком.
Я взял ковш, проломил в ведре корочку льда, напился и напоил изо рта
Страшного. По крупяным талонам позавчера мы выкупили перловку. Я сыпанул
перловки на железный лист; Страшной набросился на неё, затем, будто
вспомнил, что чего-то недосказал, или испугался, что я уйду, снова сел на плечо
и наборматывал, наборматывал в ухо. По временам он, наверно, чувствовал, что
не всё, о чем говорит, доходит до меня, и тогда большая внятность и
сдержанность появлялась в его ворковании. А может, теперь он рассказывал
лишь о Цыганке и замечал, что это мне совсем невдомек, и для доходчивости
менял тон и сдерживал свою горячность?
Бабушка всплеснула руками, едва увидела Страшного на моем плече.
– Ай, яй! Матушки ты мои! Из Карталов упорол! В смертную погоду упорол!
И ещё пуще она дивилась тому, что в таком длинном бараке о тридцать
шесть комнат Страшной отыскал нашу дверь. И маму, когда вернулась с
блюминга, отработав смену, сильней поразило то, что он нашёл нашу дверь, а не
то, что он в лютую стужу прилетел из другого, по сути дела, города. А я был
просто восхищен Страшным и не думал о том, чему тут отдавать предпочтение.
Но бабушкины и материны дивованья с уклоном на то, что голубь нашёл именно
нашу дверь, заставили меня задуматься над его появлением. Я прогулялся по
коридору. Двери были очень разные. Наша, в отличие от всех дверей, была
ничем не обита, с круглой жестяной латкой на нижней фанерке. Дверь перед
нею была обколочена войлоком, а после неё – слюдянистым толем. Моё
восхищение разграничилось. Не столько смелость и память Страшного поразили
меня, сколько привязанность, которую он обнаружил ко мне, человеку, своим
прилётом и радостным бушеванием, а также ум, благодаря которому он
проникнул в коридор и стал долбить в дверь, чтобы его впустили.
Прежде чем уйти в школу, я разгрёб сугроб над землей, насыпал пшеницы,
добытой у Петьки Крючина, убрал от порога плаху – ею был заслонен лаз, дабы
в будку не надувало снега. Я полагал: из Карталов Страшной вылетел один – он
бы не бросил голубку в пути. Но вместе с тем у меня была надежда, что сейчас
Цыганка пробивается к Магнитогорску: не утерпела без него, не могла утерпеть
и летит. Вечером я не обнаружил её в будке. Не прилетела она и через декаду -
десятидневку.
Поначалу Страшной, казалось, забыл о ней. Чистился. Кубарем падал с
небес, поднявшись туда с Петькиной стаей. Он догонял голубей в вышине и
катился обратно почти до самого снежного наста, чёрного от металлургической
сажи. И не уставал. И никак ему не надоедало играть. Но это продолжалось дня
три, а потом он вроде заболел или загрустил. Нахохлится и сидит. Уцепишь за
нос – вырвется, а крылом не хлестанет, не взворкует от возмущения.
– Задумываться стал, – беспокойно отметила бабушка.
И ночами начал укать. Чем дальше, тем пронзительней укал. Тоска,
заключённая в протяжных его «у», почему-то напоминала ружейный ствол:
сужение колец, всасывающихся в свет, – только этот ствол был закопчённый и
всасывался в темноту.
Спать стало невмочь. Я оставлял его на ночь в будке. Но оттуда нет-нет да и
дотягивались его щемящие стоны. Я уже подумывал: не съездить ли в Карталы?
Может, вымолю Цыганку за четыреста распронесчастных рублей Банана За
Ухом? Но внезапно Страшной исчез. Голубиный вор мог унести, тот же Банан За
Ухом. Кошка могла утащить. Поймал Жорж-Итальянец – у этого короткая
расправа: не приживётся, нет покупателя – пойдёт в суп. Сожрет и утаит об этом.
Зачем лишних врагов наживать? Люди пропадают бесследно, а здесь – всего






