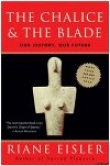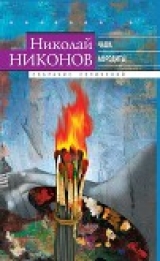
Текст книги "Собрание сочинений в 9 т. Т. 8. Чаша Афродиты"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
– Гладь меня, гладь, гладь, милый. Штаны снять успеешь… Нет! Не дам! Гладь! Разогрейся! Щупай резинки! Хорошо это! На вот грудь пососи… Соси! Соси! И маленький мой! Милый… О-ай… О-ай… по очереди втискивала свои круглые, длинные, твердые, как литая резина, соски, и я сосал, изнывая от щекотного дикого хотения, желания разрядки, в то время как руки ее, предвкушая доведенное до предела, переставали касаться того, что давало женщине наивысшую радость. Руки ее умело переходили на мой живот, гладили чудным расслабляюще-дарящим движением, иногда задерживаясь под нижней частью пупка. Неожиданно (всегда неожиданно, хотя и жданно!) палец вдавливался в какую-то одной ей ведомую точку – я вскрикивал, как ударенный током. А женщина смеялась:
– Ага! Попала? Еще!! Вот тибе! Еще! Еще! Еще сделать? Нет. Больше не буду… Выстрелишь..
Эта сладкая мука продолжалась с какой-то потерей времени. Я погружался в неведомое мне наслаждение женщиной – в океан, я плавал в его глубинах, то приближаясь к поверхности, то погружаясь в плотные, охватывающие, невыносимые слои. И это были руки Нади, ее губы, язык, теплота ее мягкого большого тела, ощущение властного непрерывного движения, круглоты крутых нежных ягодиц, теплого живота и тяжелых грудей. Пробуждался от жаркого шепота:
– Делай, давай! Делай мне теперь!
Она опускалась-становилась всегда в самую соблазнительную позу, в какой может стоять только женщина, и медленным, соскальзывающим движением спускала-стягивала панталоны. Ее обнажившийся зад казался огромным, невыносимо белым и круглым, с розовой вороночкой-звездочкой в мелких лучиках меж пухлыми ягодицами – отверстием, которым я мог, любуясь, наслаждаться, и мощной двойной розовой складкой под ним, которую она сама – всегда сама – разводила пальцами.
Я погружался в теплое, нежное, властно ждущее и властно принимающее меня лоно, встречающее невыносимо чмокающим звуком, и больше уже не владел собой. На первых порах не мог выдержать и минуты.
А Надия смеялась странным довольным смехом удовлетворенной волшебницы.
– Теперь перерыв, – говорила она, ласково укладывая, целуя меня, дрожащего, тяжело дышащего. – Лежи, отдохни. Наберись силы. Ничего. Это ты молодой. Это у тибе – избыток. Лежи. Я тоже отдохну. Я скажу, когда будит нада..
Часто я засыпал. Отключался. Но всегда просыпаясь от властного сладкопробуждающего меня движения. И второй прилив был медленнее, прекраснее и даже ужаснее, потому что женщина, казалось, только входила в свою женскую силу. Ее ягодицы были ненасытны, они двигались, как хорошо отлаженная, натренированная машина. Они словно на глазах укрупнялись и округлялись, талия суживалась, волосы струились по спине, напоминая разметанный конский хвост. И вообще, в этом положении Надия напоминала лошадь, в ней было что-то чудовищно женское и кобылье одновременно. Она наслаждалась с глухими гортанными стонами, вздыхала, взвизгивала все сильнее, сильней присасываясь ко мне, охватывала, втягивала, держала, и, наконец, я чувствовал: в горячей глубине ее тела что-то уверенное, самостоятельное, необъяснимое начинало с невыносимой сладостью ритмично сжиматься, а ягодицы прекращали движение, только тряслись, дрожали волнистой, морочащей разум дрожью. Мой крик сливало с ее полустоном-полурыданием. Это было вечное торжество женщины над мужчиной.
Иногда так было и в третий, в четвертый и даже в пятый раз. Пока мы не забывались в провальном, обморочном сне.
Собираясь утром на работу, Надия пристегивала, оправляла свои резинки, смеялась: «Умаял миня всею… Му-жик! О-ай! Какой ты у мине мужик! Маль-чик саладкий! Я таких дажи пи-редставить не могла..»
Опускала юбку.
– Ладна. Дай поцелую! Мужик мой! Ой, саладкий! Дай еще! О-ай! Еще… Вот опять тибе хочу. Ладно… Биту. Апаз-дываю. Милай ты мой! Приду..
Мой свободный диплом не давал хлеба, и надо было думать, как жить «свободным художником». Мечта эта в абстракции весьма прелестна – на деле, я хорошо это понимал, была донельзя неосуществима. Социалистический реализм полностью и глумливо вычеркивал определение, с исчезновением которого как-то само собой словно растворялось и определяемое: художник. Этот реализм требовал от живописца заказных добродетелей, казарменной службы, холуйского нахватанного радения. Рабы его сплошь писали портреты «знатных людей», «героев семилетки», «маяков», увенчанных звездами, сталеваров, доярок, свинарок и колхозниц-ударниц. В моде был Пластов «Ужин трактористов», в чести разного сорта Жуковы-Серовы: «Ленин-вождь», «Ленин и Свердлов на трибуне», «Ходоки у Ленина». Сколько красочной, ликующей дребедени было развешено в стенах нашего училища, лезло в глаза на выставках, в клубах, фойе театров, неслось на демонстрациях. Разве и я избежал? Написал вот портрет Нади «Малярка» и тоже, значит, творю «заказ», иду, куда толкают. Иду в строю. Торгую кистью. Ну, пусть, наверное, я написал картину-портрет лучше многих. Ее не только засчитали в – рекомендовали на городскую осеннюю выставку! Но, забегая вперед, скажу – на выставку она, конечно, не попала (не сразу догадался отчего!), картину же все-таки вызволил из запасников, нашел и унес домой. Я словно не совсем еще, не до отравной ясности понял: 58-я статья никогда, пожизненно не отменяется, она вроде будет следовать за мной, как тихое, неявное, а все-таки заметное дыхание в затылок этих проклятых невидимых, неслышных органов, которые и после расстрела Берии все равно остались, и живут, и следят за тобой. Только за мной? А так казалось… Наш директор, Игорь Олегович, вручавший диплом, жал мне руку с усмешливой проницательностью искусствоведа «в штатском». Было даже не по себе. Он вручал мне будто бы некий другой диплом. И я будто бы стал другой, получил его и расписался в книге, под торжественным взором и при-парадненным ликом Павла Петровича. Игорь Олегович всем говорил одни и те же торжественные слова. Стоял он в учебной аудитории, где за спиной его висела огромная политическая карта СССР, и, получив диплом, для которого я принес в жертву социалистическому реализму свою Надю, я почему-то думал, глядя на полотнище карты: отчего ложь окрашена в красный цвет, и разлилась по миру таким широким разливом, и вот, кажется, уже затопит и все остальные, закрашенные другим цветом пространства?
А еще я часто вспоминал, какое у меня было желание – уже потом – топором, ножом распластать, исхряпать этот диплом – Женщину, вымазанную мелом и краской, а вместо него написать, написать бы Надю во всей цветущей, бабьей, несказанно бесстыдной, неслыханно бесстыжей красоте-наготе, с какой она открывалась и отдавалась мне.
О, если б можно было написать ее в косынке, как часто она почему-то не снимала ее, даже ложась со мной («Так лутше!»), с обнаженно-пухлой грудью, зовущей нацеленными в меня сосками на бесконечное наслаждение, в голубых или в белых трикотажных штанах и с улыбкой всезнания на губах мучительной сладострастницы, уверенной в своем неотразимом совершенстве!
Глядя на нее – мою властительницу, я часто тайно прикидывал, что если б действительно написать ее так, стоящей у постели и не обнаженную, еще только готовящуюся и предвкушающую, и назвать картину: «Женщина» или «Женщина в голубых панталонах» (рейтузах – тогда их называли так.)? Белая, глубоко надетая косынка необыкновенно красила, молодила ее лицо, придавала какое-то неотразимо женское, девичье выражение и в то же время что-то тянуще-развратное, что было всегда сопряжено с ее нарядом, содержалось в этих туго натянутых голубых, белых или розовых бесстыжих штанах.
Да. Картина бы получилась из ряда вон! Попадали бы все преподаватели, исключая разве Болотникова, а Павел Петрович, наверное, бился бы в истерике. Я часто представлял его таким, он не умел скрывать свои чувства.
В моей еще не слишком долгой жизни я успел научиться бояться людей маленького роста. Малорослым был следователь, засадивший мне «червонец», малорослым – главвор, малорослым – «кум Бондаренко», Левка Горелин, дравший зэкам пальцами цинготные зубы, малорослым надзиратель «Мышонок» – не было его привязчивее, никто больше его не таскал в «бур», не паял новые срока. Старые лагерники говорили: Мышонок, когда был простым конвойным, бывало, посылал зэка за зону принести доску, бревно и тут же стрелял, а добивал лежачего. С виду Мышонок был словно добренький, курносый, лицо белое и с веснушками, а из-под шапки кудрявились желтые волосики… И Игорь Олегович, вручивший мне диплом вольного живописца, был невысок ростом, улыбчив, мелкозуб, только глаза его отливали зеленым, стеклянистым блеском.
Иногда, раздумывая о своих будущих работах, – у меня все-таки было теперь хоть время подумать, – я прикидывал, что, если б написать всех этих «маленьких» в стиле Гойи, его «Капричос». И останавливало только – не хотелось повторения. Помнил заповеди Болотникова: «Писать только то, что нельзя не писать».
В нашей училищной галерее, да всюду, куда ни кинь, ни плюнь, без конца было – этой «трудовой романтики», чванных ветеранов, благостных героев – жизнь мнимая и парадная затопляла стены зала. И намека даже ни на что явное и выстраданное. Будто бы и не было на Руси этой тяжелого, надрывного труда, разорения и одичания, лени, лагерей, надзирателей и «начкаров», Канюковых и Кырмы-ров, Ижмыи Лозьвы, взорванных обезглавленных церквей, изб «кулацких», обращенных в правления колхозов, самих этих «кулаков», расстрелянных вместе с изнасилованными женами, не было сломанных пытками бунтарей, – ничего такого не было, что составило бы жуткую историю этой несчастной Земли, на которой Дьявол творил руками своих дьяволов-«революционеров» гнусную оргию обмана, растления, вымораживания и вымаривания столь недавно еще великого, державного, благостного и беспечного народа.
А пока я слонялся по городу, упиваясь радостным предожиданием: «Вечером придет Надя, и опять будет продолжаться наш праздник опустошающей, ненасытной любви». Любовь ведь всегда кажется вечной. Кажется вечной…
Надя жила в общежитии на скучной, пропыленной улице, какие всегда ведут к складам и базам, улице рядом с мельзаводом и чудовищным бетоннопузым элеватором, загородившим своими бастионами словно весь белый свет.
– Почему ты в общаге? – удивлялся в самом начале нашего знакомства.
– А што? Не нравитса? – вела вверх блестящие, напомаженные брови.
– Замужем, что ли, не была?
– Я и счас замужем… – огорошила наивного.
– Как так? Ушла, что ли?
– Ушла. Потому что его «ушли»..
– Где твой муж?
– Там же, где и ты был!
– Тоже зэк? За что? Статья какая?
– Хулиганка статья… Он нихароший был. Мучалась я с ним, и вышла нихарашо. Снасиловал он миня. Я, правда сказать, ни девушка была, ну, там другой случай. Ни хочу говорить… Ну, а этот вот миня после вечера в клубе, на улице прямо. В кустах, в сквере. Ни хотела я с ним. Дурной. Злой. Крутой. Потом он уговорил. Пошла. Девкам все, знаешь, замуж надо. Пошла. А жизнь (она мягко, раздумчиво произносила «жизень») никак не задавалась. Пьет. Дирется. Пьет. Ривнует к каждому столбу. И так пошло. Рибенка ат его побоев скинула. Больше не беременела. А он попал на три года. Год просидел, вышел по амнистии. А еще хужее стал… Опять жили, а он миня все бил и бил. Пока опять не посадили. Тогда четыре года сидел, а я в семье его жила. Я-то сама сирота, родителей у нас не было, сестры еще есть. Одна в Казани, одна в Сибири. Я-то здесь ФЗО кончила, вот и считаюсь вроде русской – по паспорту татарка, а можит, и нет. Муж тоже вовсе не понять кто. Семья у них очень плохая. Все пьяницы. Атец, мать, братья., сестры шальные, нихарошие… Это бы еще ничо, а брат евоный приставать стал, и отец ихний то хапнет, то лапнет. Брат, тот вообще абнаглел. Прихожу с работы, начну пириодеваться – подглядывает. В сенках прижмет, щупает. Под подол лезет. Терпела, терпела – в обшагу ушла. А мужик, когда вышел, давай меня обратно. И бить, и бить. Мол, гуляла. А я што делать должна? Я молодая была – горячая. Мне биз этого жить? Хоть на стену лезь. Если б помогло. Ночи не сплю. Просипаюсь от этого. Штаны мокрые. Тело замучило. Вон какая я… Что я, годы его ждать должна? Да, если б любила – ждала бы. Апротивел он мине. Ездила, конечна, к ниму. Пока недалеко был. Да ему свиданку редко разрешали. Он и в лагере дрался. Срок ему еще добавляли: последний раз шесть отсидел. Думала, научили. Научат там! Пришел, пьет, гуляет. Воровать еще стал. А синяков я сколько от него вынесла..
Надия замолчала, потом, усмехаясь, добавила:
– И это делать с ним противно стало. Как палач, все груди исщиплет. Вот так, с заверткой. А я красивая была, лучше, чем сейчас, понятно. От мужиков проходу не было. Он из-за этого меня и бил. Глаз подобьет нарочно, чтоб синяк на виду. И – ходи. Убегала. И вот опять посадили три года назад. В строгие лагеря теперь. А я опять в общаге живу – ни жена, ни вдова. Вся жизень моя такая… Хм… – Впервые увидел, как улыбчиво, неуловимо Надия плачет. Солнце сквозь дождь. – Иди суда. Иди, мальчишка мой! Утешение. Хоть ты, слава Богу, есть. Я тибе ни с кем не изменю. Никакому мужику… Ни бойся. Давай, я тебя, миленький, поучу. Хочешь? Сверьху сяду? Хочешь? (Все тише и будто боясь: услышат!) Ложись вот так. Дай-ка мне… Я тебя счас..
И, стоя на коленях, горячим нежным языком начинала едва прикасаться к моему блаженству, медленно усиливая его, доводя до невыносимости (сейчас лопну!), останавливаясь, и снова усиливая, целуя какими-то протяжными лижущими поцелуями и, наконец, втягивая в рот осторожным покатым движением, какого я и представить не мог у такой крупной женщины. Ни с чем несравнимая, мучительнейшая из пыток, каким она подвергала меня и, насладив так, доведя, казалось, до взрыва, сжимала, не давала свершиться неизбежному и продолжала снова. Наступал миг, который я буду помнить всегда, потому что здесь ЖЕНЩИНА представлялась мне уже во всей колдовской, звериной невыносимой, всеобщей, с понятием ЖИЗНЬ сопрягаемой сущности.
Она медленно снимала панталоны и, держа их в руке, садилась надо мной, огромная, белая, сладко-солено пахнущая, и жаждуще раскрывались сами собой ее створки-губы будто большой перламутровой раковины, розовой и влажной, из которой, еще более странным торчал венчик прекрасного цветка, похожий на чашечку нарцисса. Я никогда не мог даже представить и предположить такой странной поглощающей красоты, потому что за цветком открывалась темная щелевидная глубь, как бы ждущая всеми своими влажно-овальными краями моего исчезновения в ней. «Сюда смотри! – приказывала женщина, опуская красивый палец к венчику нарцисса. – Видишь? Как тут хорошо? Как чисто… Сейчас ты у миня сдессь будешь… Весь сдесь… Вессь… Видишь, какой миня хочет? Давай… Как дрожит? Давай. Тепло ему сделаем..» И я погружался в нее. Она медленно, осторожно садилась на меня. Я входил в горячее, пышно-пухлое, ласковое тело. Словно бы и вправду – ВЕСЬ. Женщина – жизнь втягивала, всасывала меня, слегка отпуская и вбирая обратно. Это было удивительно нереально и в то же время совсем ясно и потрясающе. В нее – и обратно, в нее и обратно, в нее… Я стонал, хотелось кричать и «противиться», а она запрещала мне, грозила, продолжая свое, и когда я не слушался, ее теплые штаны затыкали мой рот. Как кляпом. И тогда начиналось то, что уже невозможно спокойно описывать, описать словами вообще, потому что женщина словно включала какой-то неудержимый жадный насос, сосущий и всхлипывающий, и под его движением я был без власти, без воли, без всего того, что составляло мою сущность, – весь уходил в процесс моего растворения и опустошения и уже не хотел ничего иного, как раствориться в женщине, в ее теплой, властно владеющей мной глубине.
Еще… Еще… – само считалось, отдавалось во мне. – Еще… Еще… Я закрывал глаза, но словно и так видел белое пышное тело, вздрагивающие груди, ее отчаянно запрокинутую голову. Еще… Еще… Еще..
Все завершалось и впрямь каким-то невероятным, долгим освобождением, которое она покрывала сама надсадным животным криком, облив меня словно горячим июльским ливнем.
Никогда не мог представить женщину столь искусной, страстной, сладострастно-опытной одновременно.
Я приходил в себя от ее мягкой, пухлой тяжести. Надия лежала на мне, придерживаясь локтями. Ее губы водили по моему лицу, прикасаясь бесчисленными легкими поцелуями, в то время как те, другие губы еще делали, продолжали делать свое дело не желающей отпускать, полувтягивающей лаской.
Может быть, только так стало мне ясно-понятно это стыдное будто слово со-во-куп-ле-ни-е. Объединение в одно, в единое и, может быть, по единому, высшему плану.
Иногда, отдохнув, она повторяла все снова, и, когда оставалась до утра, я знал, так будет еще и еще.
Надия казалась такой ненасытной, что однажды я ей шутливо это высказал.
– О-ай, – ответила, улыбаясь. – Это ты миня такой сделал! С моим мужиком ничиво я ни могла, ни хотела. Он как пустой был. А ты – молодой, да еще без бабы столько. Вот мы и сошлись, я, считай, без мужика все годы голодная жила… Счас вот… Распустилась с табой… Себе ни верю. Ай? А ты, может, ни хочешь? Так? А? Хочешь? Хочешь! Потому что я хочу! Я табой насытиться ни магу!
– И я тоже… Все женщины такие?
– А ты их пробуй!
– Вот еще! Я тебя хочу. Только не сейчас, может..
– Что-о? Ни сейчас? – она гладила мой живот, нащупывая в нем что-то. – Ни сейчас?! А вот тут, – мягким умелым пальцем надавила чуть ниже пупка. – Вот тут нажать и – захочешь! О? О-о! О-ай! Видишь? Я тибе дам «ни хачу»! Посмотри теперь, – она поворачивалась, – какая у миня саладкая по-па! Какая круглая! Ай? Как лошадь! Ставь, миленький, ставь, мой родной! О-ай, мамочка, как хорошо! Ой? О-о… Де-лай!..
Когда совсем обессиленные, расслабленные истомой лежали рядом, я опять спрашивал Надю, где она так здорово этому научилась.
– Так ни спрашивают. Ги-де? Обидеть-ся магу! Я так сама к тибе приспосабливаюсь. Чувствую – так надо… Ты ни думай. Я мужиков, можно сказать, совсем не знала. Муж ни в счет. Да он и не мужик – дермо. Мужиков я из-за него не любила, нет… Тибя только… Потому что ты мальшик. Как мальшик… Был бы мужик – и не надо..
– Как же ты любишь? Кого?
Молчала, мерцала крашеным глазом.
– Кого?
Вздох. Молчание. Глаз отражает какую-то муку. Невы-сказанность. Почти отчаяние. Что с ней?
– Кого?
– Да тибя! Тибя первого так люблю… Я же… Да ладно… Ни паймешь ты. Маленький еще.
– Как это «не пойму»? Что «не пойму»?
– Ладно. Давай отдохнем. Утро вон уже, зарится. Сви-тает… Мине ведь на работу. Рано надо. Поспать, хоть немного… И ты выспись. Завтра вот опять приду вечиром, а доить будит нечи-ва. А? Ай, ты мой са-ладкий! Поспи. Ат-дахни. Жадная я. Всего тибя выкрутила. Ничиво ни оставила. Что, чтоб ты на баб ни сматрел. На чужих, на других. Спи..
Я засыпал на ее руке, большой, мягкой, томно-цветочно пахнущей ее подмышкой. У нее был очень приятный нетерпкий запах, как у пряных полевых цветов, пижмы, что ли. И во сне я видел поля, жаворонков, небо, свободу.
Иногда она уходила неслышно. Я спал до полудня. Пропускал утро. Ну и пусть. Жизнь, если задуматься, кажется, вовсе не имеет никакого значения и смысла. Смысл просто нечего искать… Или он весь в женщине.
Глава X. ЗАВОДСКОЙ ЖИВОПИСЕЦ
Не заметил – подошла осень… Подкатили ближе мои не столь отдаленные заботы. Кем быть? Учителем рисования можно было только в область, в глушь, в те же лагерные места. И куда я? У меня здесь все-таки есть где жить. Комнатушка двенадцать метров. Решетчатое окно. Динамовский забор перед ним. И густая барачная жизнь с песнями, гулянками, драками, разводами. Хочешь не хочешь, живи, нюхай картофельно-керосинный смрад, слушай вой баб, визг детей, пьяный хрип отцов. Сделать тут мастерскую? Для художника было здесь очень плохо. Темно даже в ясный день. Забор этот, чем не лагерный? – заслонял белый свет. Дальше еще роща высоченных тополей. Под забором дорога-грунтовка с глубокими, промятыми колеями – в дожди полна кофейной гущи, в сухмень пыль застилает окно – протирай не протрешь. Целый день горит лампочка – а толку?
Нет мастерской. Но не это главное – главное, в таком городище никакой работы живописцу. В клубах, дворцах все занято-перезанято. Везде обсели прочно, не выгонишь, бывшие трутни, в студиях же, при дворцах маститые художники, члены Союза, иные – наши преподаватели, в салоны (таких не было еще!) с твоей живописью не пробиться. Заказы? Мне? Кто я? И от кого возьму заказ? На заказы нужно ИМЯ. Да и с именем не очень-то почитают. На базар? Добрую живопись туда никто не несет. «Лунные ночи»? «Свиданье у фонтана»? – обложат налогом, как частника-кустаря, взвоешь.
Сказать, что я метался, – ничего не сказать. Просто с тупым упорством целыми днями бродил по конторам и отделам кадров. Художники нигде не требовались. Газеты и объявления пестрели списками: каменщики, сварщики, штукатуры, токари, фрезеровщики, бухгалтера – все требуются, и нигде намека даже, ничего для художника. И осталось последнее: на завод. Заводы, сказать честно, никогда не любил, еще честнее – ненавидел. После лагеря их заборы и проходные, вышки с прожекторами до оскомины вспоминали зону. Мое страдальческое десятилетие, то ли вынутое из жизни, то ли, скорее, вложенное в нее, всаженное навечно, как рубец. Заводов в городе сплошь. Я истратил на их обход весь август. И все напрасно. Тогда добрался до заводов-гигантов на военной городской окраине. Я-то хотел работу поближе. Эх, окраина! Что смертнее твоей тоски? Глины, бараков, пустырей, брошенного, ржавеющего лома и хлама, стен, кладенных наспех из шлакоблоков, может быть, тоже зэками. И колючка натянута на железных глаголях. «Не влезай – убьет». Скалится трафаретный череп, хохочет над моими хождениями по мукам. Сдуру, пока не уяснил, что всякие спецотделы не на территории, совался в проходные, натыкался на совсем лагерные вертушки, только вместо надзирателей-вертухаев стояли ледащие старики-фитили в каких-то охранных формах да бабы, на вид пустоголовые, но злобные, с наганами на толстых животах. В первом отделе кадров большого завода милицейского вида женщина, быстро полистав мои справки, куда-то позвонила, что-то там вякнула невразумительное в трубку, услышала ответ. И, не глядя даже на меня, как потустороннему, протянула документы обратно:
– Не подходите. Нельзя..
– Почему?
– Сам должен знать. Завод особый. А ты отбывал по 58-й!
– Но я же все от-был!
– Ничего не знаю. Нельзя. Все..
Лицо как при вынесении приговора. Женщины на этих должностях много хуже мужчин.
И опять августовское солнышко. Опять шелестят подсохшие листья саженых, стриженых, тоскливых топольков. Предосеннее лагерное солнышко над этим забором. Ноги сами влекут дальше, к еще белее унылой громадине и тоже за колючкой. Один завод здесь смыкался с другим заводом, и такими же были ворота, и здание управления, и табличка отдела кадров. Зашел, постучал прямо к начальнику. Вместо женщины примерно в такой же комнате с решетками на окнах и за таким же столом широкоскулый, молодой еще мужчина с чем-то знакомым в лице. Это просто тип такой. Рыжий. Широкое лицо цвета недоваренной свеклы все засеяно, как из решета, оранжевыми веснушками, и на губах веснушки, и в глазах. Есть такие рыжие, похожие во всех странах и во всем мире. Но мужчина глядел на меня все-таки с любопытством. Как бы и узнавал. Я копался в памяти. Кто? Кто? И вспомнил: «Это же Гаренко! Учился я с ним в начальной школе. И он был классом-двумя старше».
– Кем хочешь работать?
– Художник я… Училище закончил.
– Давай документы!
Опять изучающая тишина… И опять было то же движение. Обратно.
– Нет мест?
– Да как сказать тебе? Статья у тебя. Да… Место-то, может быть… Помолчал, разглядывая.
– В восемнадцатой, случаем, не учился?
– Учился, – промямлил я. – И тебя… Вас… Помню. Гаренко твоя., ваша фамилия.
– Ишь ты! Верно. Помнишь?
– Вы у Софьюшки учились?!
– А ты у Марьюшки?
– У нее.
– Ты смотри-и… Как же ты успел столько дров наломать? Ну, ладно. Счас время другое… Вот что… Художников у нас по штату не положено. Вернее, положен, да не справляется. Я тебя возьму нормировщиком как бы… А работать будешь художником. Зарплата невелика, конечно. Ну, тут уж я… – Гаренко развел руками, ухмыляясь своей подсолнуховой рожей. – А если подходит, бутылку с тебя!
– Когда выходить?
– Хоть завтра.
Так я стал заводским живописцем. Кончился горькосладкий период моей свободы. Теперь по утрам я ехал на работу, через все эти на километры разбитые тягучие окраины. Ехал вдавленный в чьи-то спины, спецовки, в мазутные запахи и просто простую вонь, шел через проходную, вспоминая лагерный шмон, – туда, на завод, не шмоняли, обратно только придурков. И вот я уже на территории, иду мимо длинных цехов, пока не предстает передо мною, когда я сворачиваю за угол сборочного, нечто двухэтажное, кладенное из тех же серых шлакоблоков строение, с кривым дверным проемом и такой же косой дверью на пружине. Она хлопает за мной, будто капкан, и повторяет еще: «Попался-попался!» Пристройка, похоже, была подсобкой, оставлена прежними строителями с военных лет. Нижний зал, заваленный, заставленный плакатами, планшетами, транспарантами, служит кладовой, тут хранится материал для праздничных шествий, оформления колонн. Вверху уже довольно просторная мастерская с отгороженной каморкой для спанья. В мастерской, всегда раньше меня приходит, находится «старший» художник – так он себя сам именовал – Сергей Прокопьич, пропитый, прокуренный мужчина с лихими в проседи кудрями, желтым во впалую складочку лицом былого кутилы-импотента, а может, даже тайного содомщика. Особо в тон его облику глаза зеленорыжие, табачные, с оттенком давнего блуда, постоянной трусости, мелкой наглости и, что, в общем, тоже никуда не денешь, беспомощности и доброты. Мужчины такие будто родятся специально затем, чтобы курить, пить, щедро тратиться в молодости на женский пол и, отвергнутые затем этим полом, уже привычно находить отравную усладу только в двух первых занятиях: табаке и водке.
– Ну, будешь у меня подсобником! – сразу определил место Сергей Прокопьевич, разгоняя курительный дым (было – топор не упадет). – Работы у нас – во! – показал на кадыкастую шею. – Заваливают. Партком. Завком. Комсомол… Каждый день: плакаты давай! Витрины (говорил: «ветрины»), героев там, оформляй. Тут съезд опять же… Стенды ударников (говорил: «стЕнды»), Давай, вот с ходу берись – новых членов Политбюро надо. Шелеста., и эн-того… Подгорного. Шелепина..
«Опять как в зоне! Опять Политбюро!»
– Слышишь? Это тебе от меня экзамен будет… Можешь? (Говорил: «эгзамен»!)
«Дурак ты старый, дурак!» – думал, а ответил кратко:
– Могу.
– Давай, – обрадовался Сергей Прокопьевич. – Подрамники к ним – стандарт… Внизу есть. Холст дам. Карточки энтих в парткоме возьмешь. Да гляди! В аккурате чтоб было: а то съедят и меня с тобой. Потом еще самого Никиту надо. Большой портрет на фасад. Как Ленин чтоб… Ну, эн-тот погодим. Погляжу, как справишься!
Искурив до ногтей сигаретный окурок, тут же запаливал новый от старого, внимчиво, углубленно вздымая кустистые брови. И сигареты курил по себе. «Турист». «Нищий с палкой».
Вот опять пишу почти знакомое. Плеши. Лысины. Орлиную строгость. ЧЛЕНЫ. ПОЛИТБЮРО. Вроде как боги. ОЛИМП. Выше которого не прыгнешь. Выше которого представить невозможно. Как судьба вздымала маленьких и чаще всего заурядных людишек – не объяснить никому. А мне тогда и мысль такая не приходила в голову. Вспоминаю вот, как писал Шелеста. Кто таков? Да типичный такой деревенский хохляка. Прижмуренные в углах житейские глаза. Плешь-лысина, нос бульбой. Тебе бы колхозом каким командовать, либо у плетня с подсолнушками, у хаты своей беленой, с таким же дядьком в шароварах мешочных, «люльку» покуривая, балакать, в хате с мальвовыми рушниками, с таким же «Шелестом» горилку пить, жинку по толстой, кормленной салом заднице хлопать. А ты вон где! Политбюро! А рисуй тебя – не ошибись. Благородство чтоб и солидность, строгость и власть – все было.
Рисовал по-своему. Как всегда, без клеток, чем тотчас привел в изумление «старшего» художника.
– Сашка? Ты это как? Без клеток? Без сетки?
– И так не ошибусь..
– Што ты?! Што ты-ы? А не похож получится? Голову снимут! Делай сетку давай…
– Незачем..
– Н-ну, пас-мот-рим! – качал кудлатой сединой, запаливая очередную сигаретку, и уходил в свою каморку-конуру.
Что-что, а начальственные эти лысины рисовать-писать мог с закрытыми глазами, сколько их написал еще в лагере. Ленин. Ленин. Ленин. Берия. Берия. Берия. Теперь вот Хрущев и этот Ше-ле-ст.
К вечеру он был готов. Кажется, я даже не очень старался. Хитроватый, толстомордый – глядел он с портрета с дурной властительной возвышенностью. Их всех следовало изображать властителями. А в детстве моем они еще назывались «вожди».
– Од-на-ко и маладец ты, – признал Сергей Прокопьевич мою работу. – Смотри ты! Как взял! Без клеток! Гла-аз! Ну, убедил… Можешь… Художник… Теперь следующего валяй. Вот энтого. Подгорного. – И вдруг, развеселившись, ударил по коленям, пошел как бы с приплясом: – А тты под-горна, ты под-горна, ты под-горна., ули-са, а по ття-бе не-кто не ходит – не петух – не ку-ри-са!
Я понял очень скоро радость Сергея Прокопьевича и то, отчего у него было много работы. Портрет такой, какой я делал за день, он писал месяц. Рабски, по клеточкам, линейкой-лекалом, вымеривая каждый штрих. Портреты его получались вовсе уж неживые и до того схожие с фотографией, что можно было увидеть и оборотную сторону всякого снимка – его плоскую, контурную бездушность. Дотошно перерисованная фотография всегда кажется ужасной. Но Сергей Прокопьевич как раз этим-то и гордился. Отходя от холста с видом Жреца и посвященного, кривил табачный глаз и рот, окутывался стервенелым дымком. Явно ждал похвалы. Очень скоро он все-таки понял, что учить меня нечему и учиться у него я не намерен. Я шутя делал то, на что уходили у него дни, полные бесконечных перекуров, прикидок и размышлений вслух. И еще обнаружил – никакой он не художник, ничего не кончал, просто «клубник», самоучка-мазила. Оказалось, и на фронте он даже был и там умудрился спастись своим ремеслом от пуль-осколков. На месте своем он держался благодаря другу – директору этого завода, с которым вместе с лужи ли – воевали.
Если были деньги, Сергей Прокопьевич «запузыривал». Пил литрами. И меня всегда потрясала эта его выносливость. Влить столько водки в столь тщедушное тело! И что за жидкость тогда заполняла его вены-артерии? Напившись – плакал, кричал: загубил талант! Женщин ненавижу! Баб! Из-за них все зло! Все тоска-печаль. «Ты их, сук, еще не знаешь! Они тебя еще не обжигали! Погоди-и… Узнаешь! Еще вспомнишь Сергея Прокопьевича. Ссуки они все! Суки продажные! Суки!» – на этом речь обыкновенно кончалась, и, погрозив вздетым пальцем над кудлатой головой, заплетая нога за ногу, он удалялся в свое логово. Кажется, он тут почти жил. Не то был изгнан этим самым ненавистным ему полом из дому, не то просто боялся в состоянии подшофе не найти дорогу к дому. Жена у него все-таки, видимо, была. Изредка после первой-второй рюмки он ее вспоминал и всегда одинаково: «А жена у меня., зме-я… Да! Коб-ра! Очковая. Кобра! Ты, Сашка, их бойся. Все змеи, суки, ведьмы! – И, опрокинув еще рюмку, жмурясь, отдуваясь, делал рубящий жест: – Все!»