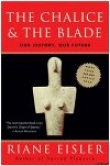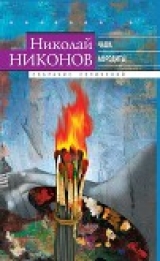
Текст книги "Собрание сочинений в 9 т. Т. 8. Чаша Афродиты"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
А еще, уже для души, я продолжал рисовать женщин и даже не по памяти, какая там «память», – по воображению! Рисовал их тела, ягодицы, лица и, едва закончив, сжигал, слишком помнил наказ капитана Бондаренко. Самуил
Яковлевич остался в том лагере, когда меня перевели сперва в степную, а потом снова в лесную зону. Но сюда я переходил уже «художником», и в общем, последние мои годы в лагере были куда легче первых, я повзрослел, обтерпелся и вот даже дождался освобождения.
– Знаете, Саша, что главное в жизни? Вот вы скажете, наверное, свобода, любовь, женшчина! Я вижу, как вы пишете ее, и понимаю, вы, видимо, все равно навсегда ее раб. Я тоже был рабом, Саша. Но теперь я етим не болен. А вы ешчо потом мене поймете. А главное в жизни – не искать ее смысла, его просто нет и нечво искать. Главное в жизни – уметь так терпеть и приспособиться, чтоб не было невыносимо. И это величайшая из наук! Вы ее, Саша, постигаете пока интуитивно, потому что вы ешчо молоды и ешчо не философ. А науку ету создали древние, создали китайцы, индийцы, египтяне и греки, особенно стоики и циники. Надеюсь, вы слыхали про Диогена, который жил в бочке-пифосе? Так вот: счастливым можно быть и в бочке, и во дворце, и даже в зоне. Главное, сначала победить себя, свои страсти и желания, которые и приносят страдание, а победив их и приспособившись, вы будете уметь побеждать сильнейшего. Как? Древние индийцы учили: побеждай жадного деньгами, глупого – потворством, гордого – мольбой, умного – правдивостью. И все, Саша, все! Вот вы, по-видимому, интуитивно на-шчупали ето правило и победили дурака Бондаренко. Побеждайте и дальше, всё, любых людей, любые обстоятельства! Сделайте лагерь своей академией. Имени Сталина… У вас таки, кажется, есть талант, и большой – вот и граните его тут, для етого и есть, внушите себе, ваш срок! А выйдете на волю, обязательно собирайте книги – лучшие книги. Например, за любую цену найдите, купите «Нравственные письма к Луцилию» Сенеки-младшего. Там все ето сказано лучше, чем мною.
Самуил Яковлевич остался в том лагере, и мне его постоянно не хватало…
В вагоне зажегся свет. Должно быть, я пролежал весь день в полузабытьи, погруженный в свои воспоминания, пока поезд качал и качал на юг, к дому и прочь от лагеря. Я не хотел ни есть, ни пить, просто впал в какое-то состояние – ощущение болезненной и непонятной полуосвобожденности. Бывалые зэки подтвердят: тюрьма и зона годами медленно выходят из тебя, а выйти напрочь, чтоб забылось, не вспоминалось – такого не бывает.
Кажется, я заснул, а проснулся оттого, что поезд стоял, была какая-то станция, и я увидел, что полка неподалеку, ниже и наискосок не занята. Кто-то сошел. Перебраться туда было мне делом минутным. Но если б я знал, что ждало меня там!
Прямо передо мной или почти напротив, бесстыдно задрав подол своего сатинового платья, до самой задницы обнажив круглотолстые ляжки в голубых линялых резинчатых штанах, спала та самая беременная молодка, за которой я сох в очереди на станции. Сон мой сняло, перебило мгновенно, Господи боже, сколько лет представлял я женщину вот так – протяни руку – дотронешься! Не мог представить, потому что ее просто не было, не было женщины, и все мы, зэки, сходили с ума, свихивались, дрочили до умопомрачения, лезли друг на друга (не все, многие этого просто не могли). Молодое тело требовало, вопило, ныло, а наградой были только сны, когда являлось тебе хоть какое-то это желанное до сосущей дурноты существо – женщина, «баба», «Манька», у каждого своя и на свой манер и каждого до голодной слюны сводившая.
Еще когда сидел в предвариловке, гнусной, прокуренной, огромной камере, то напротив, знали мы, былженский блок. Чтоб увидеть хоть что-то, лезли вверх к зарешеченным, закрашенным окнам, – кое-где недавно выбито или где форточки, вставали на подставленные плечи, спины, орали этим безвестным бабам: «Мань-ка-а! Покажи жо-пу! Жо-пу покажи-и-и!!» И вот диво: иногда на этот отчаянный вой-призыв в окнах-решетках женского блока появлялось что-то неясное желто-белое, бело-желтое, что, может быть, воспаленный разум и голодное воображение принимали за желанную часть женского тела. Тряслись и те, кто стоял на спинах, и те, кто толклись, ожидая подробностей.
– …Фрайера! Показывает! Показывает! Ой, бля… Круглая, белая! Жопа, фрайера! Жо-о-па! Ой, не могу! Ломит! – орал, гнулся счастливчик, брызгал спермой. Его сталкивали. Лезли новые. Те, кто подставлял спины, а крик: «Мань-ка-а!» – и сейчас в моих ушах.
И еще вспомнилось, как главвор в минуты, когда снисходила на него сытая благодать, повествовал-рассказывал, развалясь на своей отдельной койке. «Был я, фрайера, еще на Кусвинской зоне. Меня до войны на больсом деле продали. Ну, те, кто продал… Это ладно… Ххэ… Я тогда в побег усол… Мля… Но серез три месяца меня суки взяли, закрыли и в крытые даже перевели, завод-подземку мы тогда там строили, а зыли прямо в зоне, без вывода. Там и дохли. Ну, а потом меня наверх все-таки выдернули. Друзья помогли, и оказался я в другой зоне, а там рядом, фрайера, бабья зона была, ну и резым другой был, не сравнить. И вот фрайеров у нас кой-кого в ту бабью зону иногда дергали, ремонтников там, плотников, водопроводчиков, чо… Одного особенно сясто, по сантехнике был… Завидовали ему сплос, такое дело… И вот как-то усол он опять и нет его, и нет… Думали мы, в побег оттуда он… Потом, серез неделю узе, узнаем – в больниське он и едва зывой. Сто б вы думали? Бабы его там в сортире, как петуха, поймали. Кусей навалились. В рот ему станы, на голову – станы. Повалили. Потом резинкой ему перетянули и давай все по осереди ездить, мозет, сяса два, пока охрана ихняя не хватилась. Наели его без сознания. В больниське, правда, откасяли. Вот она зверюга какая… Баба… А я ессе и следователей-баб таких сук видал, и сестер в больниськах, надзирательниц лютых, куда музыку, мля, зна-ем, сто такое са-ветская власть! А ессе, знасит, был в той, в бабьей зоне, сортир, так они, суки, не меньсе нас голодные, бывало, не идут туда, а под проволоку сядут, задерутся и ссят, а мы по другую сторону маемся. По осереди в розыгрыс туда бегали. Потом, однако, прикрыли это дело, настусяла какая-то падла».
Все это всплыло, замелькало в моем сознании, пока, уж совсем не пытаясь заснуть, я пялился на женщину, спящую на полке. Зад ее круглым холмом, вот он – протяни руку. Баба спала и во сне, потеряв женский самоконтроль, с которым они обычно следят за своими юбками, вдруг передвинулась в мою сторону, так что подол ее сатинового платья совсем задрался и вместе с ним задралась шелковая линялая сорочка. Почти весь зад женщины в этих бледной голубизны тугих штанах открылся передо мной, так что я теперь, забыв обо всем, глядел на него, глотал слюну. Глядел в него… пытаясь хоть как-то унять нетерпеливую, ломящую боль в междуножье, которая уже сводила в ком мою мошонку и, разливаясь дальше, ломила промежность, устремлялась к копчику, ползла по ногам и по ногам же возвращалась обратно, вверх, к животу, как бы леденя его и наполняя дурной пустотой, а потом, теплея, начинала разливаться, перекрываться этой теплотой, но не такой, как бывает от солнца или огня, а внутренней, возбужденно воспаленной, тянуще-зовущей к немедленному извержению. Может, понимал я теперь насильников, мужиков и парней, кто сидел со мной в первой общей зоне по статье, забыл какой, и кого воры в законе числили почему-то ниже дерьма, постоянно били, «ставили», награждали кличками одна другой позорней. Но теперь, кажется, я понимал насильников.
Баба на полке легла на спину, согнула ноги в коленях, и текучий шелковистый сатин сполз под большой, уже заметный живот, оттененный беловатым кружевом рубашки. Теперь мне открывался весь соблазн ее круглоневыносимых бедер-ягодиц, как-то особенно сладострастно соединенных с цилиндрическими расширяющимися конусами ляжек. Что такое в этих женских ногах? В этих голубых панталонах, которые их обтягивали с вынимающей душу развратностью и вгоняли в одно сосущее желание снять их, снять, с-ня-а-а-ть, стянуть, спустить, опустить до этих нижних резинок, так круто врезавшихся в пухлую, белую, ненасытно манящую женскую плоть?
Сказать, что я по-жи-рал взглядом эту женщину, ее застиранные рейтузы, ее резинки, ее так не согласующееся с животной мощностью выставленного зада, колен и бедер кружевце рубашки – ничего не сказать. Страдал хуже, наверное, чем тот самый Тантал, и, страдая, все-таки впитывал, всасывал, вбирал в себя ее сущность взглядом зэка, изголодавшегося по женщине, исстрадавшегося по ее плоти, запаху, мягкости, круглоте, да еще не просто зэка, а зэка-художника, бредившего этой плотью и десятилетие лишенного хоть какого-то приближения к ней. Попробуйте не есть, не пить, ну хотя бы один день, и может, поймете, какой зной стоял в моей суховейной пустыне.
Да. Попробуйте, вы, кто каждую ночь привычно спит с теплой, насытившей вас своими руками и телом, своими губами, грудями, задом и животом женщиной-женой, попробуйте хоть представить себя без нее, не дома, не в теплой, тихой постели, а далеко, в чужой тайге, в зоне, на твердой, скрипучей вагонке, в промозглом барачном вонючем холоде и еще обреченно знающего, что это не на одну ночь, а неведомо-непонятно на сколько таких ночей… Всем служившим, сидевшим только известна тоска эта, изжога по женщине, ее не заслоняла никакая каторга, мученье на лесоповале, на бревнотаске, погрузке кругляшей-баланов, даже давленные бревнами, снедаемые болезнью и болью доходяги в последние минуты хрипели, уходили с мыслью о ней.
Художнику эти муки в зоне удесятерялись.
А баба на полке, должно быть, видела сон, и сон сладкий. Потому что ее раздвинутые, согнутые в коленях ляжки сладостно раскрывались, клонились в стороны, открывая порыжелое пятно промежности, будто слегка мокроватое и темнеющее, то снова сводились и, подержавшись так, опять начинали свое сладостное расширение.
Я смотрел на все это с возрастающей мукой, ощущая теперь толчки крови в промежности, в набрякшем остолбенелом, в подтянувшейся мошонке… Я был на пределе… На вылете… На изнеможении едва сдерживаемого крика, и вдруг женщина издала пустой, ровно-округлый и освобождающий живот звук, от которого – от него, конечно, все во мне дернулось, затряслось, заныло, засверкало безумным, пульсирующим блеском, который я видел с закрытыми глазами, вцепившись зубами в собственную руку и так удерживая и крик, и стон…
Наверное, на мгновения я потерял сознание от свершающегося, от освобождающей мое тело и толчками утихающей сладости, муки, боли… Лежал так не знаю сколько, чувствовал, все во мне успокаивалось, входило в норму.
А когда открыл глаза, женщина уже спала на боку или притворялась. Подол ее сатинового платья – стыдный занавес моего театра – опущен, и только раздвоенно-округлый холм напоминал о только что пронесшемся грозовом мучении. Холм скрывал от меня ее лицо и его сонное, желанное мне выражение. Раздвоенный холм легонько покачивался. А колеса вторили его качанию. Домой-домой… Домой-домой… Домой-домой..
Глава III. ГОРОД
Город такой долгожданный и будто не тот, не родной. Состарился? Помолодел? Не понять… Тот же вроде вокзал и прежняя сутолока в грязных тоннелях, но будто бы гуще раскоряченная вокзальная жизнь. И на площади уже нет трамвайного кольца, скамеек в мусорных, проплеванных кустах акаций, и самих кустов этих, стриженых, ошка-мелками, где всегда будто копошились шалые вокзальные воробьи, тоже нет. Площадь заасфальтирована. Высокие дома вдоль улицы Свердлова незнакомы. Когда уходил, их не было. Только здание мельзавода, высокое, несуразное, из беленого кирпича, то же. Тревожит память. И подумал: «После «десятки» приходишь, как с того света, не то заново родившийся, не то будто давно умер, а вот воскрес, однако, каким-то чудом опять тут!» С мыслью этой и пошагал пехом, хотелось посмотреть город. До моего дома, барака в улице-одинарке у стадиона «Динамо», кварталов пять.
Можно и трамваем. Быстрее. Да уж такое тепло, солнышко, утро, везде народ, и хочется побыть в нем. Свободным. Все мне пока дико, на все таращусь. Вон мороженое продают! МОРОЖЕНОЕ! Забыл, что оно есть, было… И на меня вроде бы поглядывают с презрением. А сам бы, наверное, довелись, сроду не поглядел. Черный лосненый ватник, сапоги-кирзовики, шапка «зэковка» не по сезону. Еще чемоданишко фанерный, хуже некуда, брякает по боку ненужным замком. И походка моя, наверное, лагерная, воровская, и взгляд прицельный, опасливый никуда не денешь. У всех лагерников в лицах что-то такое, будто печать, еще когда сгладит время, а не сгладит – носи! Вот иду мимо старого, но тогда бывшего новым здания клуба «имени Андреева». Клуб железнодорожников. И школа наша мужская недалеко от него, а здесь, перед маем, когда нас всех взяли, был вечер с девочками из женской железнодорожной школы. Девочки в передничках с белыми крылышками. Вы были как стрекозы-поденки. «Тогда я видел Вас в последний раз!» Как стихи… Все те девочки, кто знал меня, конечно, забыли, давно замужем – да что толку, если бы и помнили? Я никогда уже не смогу на вечере танцевать со школьницей, и рука моя тогда, наверное, из самых робких, не коснется пуговичек на застежках ее передничка или коричневого форменного платья. Почему пуговички на чьей-то девичьей спине остались даже в моем осязании? Иду, как во сне… И боюсь проснуться. ТАМ. Сколько раз так просыпался я, не веря и глуша рыдания. Где я? Почему не дома, а в гнусном этом, пропахшем куревом и вонью сарае? Вздрогнулось. Слава Богу, не сон, на свободе я. Божье веянье ее еще только коснулось меня, а вон уж прицельный взгляд мента, идущего навстречу. «Иди-иди, гад! Свободный я. Справка в кармане». А душу тиснуло.
Домой, что выпустят, не писал. Еще неясно было: вдруг ссылка? Или «до особого распоряжения»… А при усатом и новый срок могли напаять. Про смерть усатого узнали мы не сразу. Узнали только – режим усилился, а думали, опять война. Когда узнали точно – зря радовались, и по «ворошиловской» амнистии ушли только многие урки, воры и «законники». «Пятьдесят восьмой» амнистия почти не коснулась. И теперь вот, идя по городу с гулко стукающим сердцем, я вспоминал рассказы бывалых зэков. «Свободу», ее еще надо выдержать, бывало, смерть настигала и дома, через месяц-другой. «Свобода – она трудная».
Народу в городе прибыло, машин, трамваев-троллейбусов тоже. И женщин! ЖЕНЩИН! В глазах рябило от их плащей, платьев, юбок! Опять засосало голодное нутро, голодные глаза метались от одной к другой. Бабы! И сплошь будто красивые! Спасу нет. Идет вот и прямо крутит задницей: «Тырц-тырц!» Эх ты… И на мужиков будто не глядит. На встречных же мужского пола я не глядел вовсе. Годы потом прошли, а не мог освободиться от отвращения к мужику. И не то что, скажем, к водочно-псовому, табачно-ртовому дыханию, а вообще. В трамваях даже рядом стоять не мог, искал место, чтоб встать с женщиной. И всю жизнь избегал потом разных мужских сборищ, стадионов, курилок и уборных, где сосредоточенно льют, словно пивную пену, держась как-то по-особому, наизворот, за свои тошные обрубки. Знал по лагерю – большинство мужиков болели и сами из-за себя, меньше бы лезли друг другу в задницы.
Еще после зоны ненавижу радио. Им нас воспитывали.
Вот и здание начальной школы, где я учился. Тихий, послушный мальчик, в которых черти водятся. А вот тут жила Салангина, девочка, у которой я подсматривал на лестнице белые и розовые штаны. Школьная лестница – и эти ИХ тайны, голубые, желтые – девочек и учительниц.
А особенно мучила учительница истории – матрона с пышным узлом волос и носом, ближе к Венере. Спокойствие и власть. Походка богини. И черная магия ее ягодиц, волнообразно-равномерно двигающихся под юбкой. О, это движение! Ягодицами она утверждала свою безраздельную власть надо мной, и, как на невидимом шнуре, я волочился за ней целыми переменами. А на уроках не сводил глаз с ее выпуклого, отягчающего черную юбку живота, тяжелых грудей под пушистой кофтой, невыносимых, капризных губ и рук с крупными пальцами, с ногтями, залитыми в красный эмалевый лак. Очень грешно мне мечталось, если бы такой рукой, руками, она только коснулась меня, а если бы (и это грешнейшее из мечтаний!) взяла меня, как может взять женщина, я вряд ли выжил бы от невыносимого счастья. Дело в том, что я «имел» эту учительницу и это она сделала меня мужчиной, первый раз с пробудившейся молочно-медовой болью, пульсирующим изнеможением. Во сне. Я видел ее там снимающей юбку, так же, как делала это моя мать, но видел не мать, а ЕЕ. Мне было десять лет. Рано развившийся мальчик. А художник еще раньше заворочался во мне. Помню, как мать мыла меня в корыте шестилетнего и как удивилась, заметив пробивающиеся волосы там, где они растут у тринадцатилетних. И ни я, ни она не знали, что художник, наверное, и может быть, вложенный в меня миллионами генетических сочетаний (это я пишу и думаю сейчас, а не тогда!), скопленных за миллиарда лет всем животным (растительным тоже?) миром, а может быть, даже и миром кристаллов, и звезд, и туманностей, вспыхнет во мне просто с рождения и тайна жизни, всегда уходящая в любовь, будет мучить меня уже у материнского соска. Сосок этот, однако, оказался без молока, и козы, выкормившие меня, быть может, еще органичнее связали меня со всем живым миром. К нему я чувствовал с детства сладостную, влекущую страсть. Цветок, кошка, ветка черемухи, луна, отверстая щель, а женщина была и казалась всем этим одновременно. В школе и кроме моей дорической богини было еще много, бесконечно много женских воплощений, в каких я постоянно влюблялся, бесконечно влюблялся, желал, хотел, алкал, томился – и как там еще? «Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим…» Это все открыл я без Пушкина, а Пушкин, наверное, открыл, подобно мне. А может, я и Пушкиным тоже когда-то был? И у него была своя, повешенная, как верига, 58-я статья?
Сосны на лесоповале падали в снег с замедленной обреченностью. В падении дерева больше действия, чем в падении человека. Видел, как автоматчики конвоя положили выскочившего из колонны. Зэк просто спятил или решился так закончить срок. Стой!! Автоматы рявкнули. Раз-два… Зэк заорал, закинулся, пробежал так шага три, в снегу дергался, над ним клубились собаки. Дерево падает, как падает небо, опрокидывается Земля. Я часто думал об этом конце Земли… Когда-то же остановится, замедлится она. Опрокинется, как потерявшая равновесие чаша. Выплеснутся куда-то или замерзнут океаны. Льды закроют, раздавят сушу, и она останется вечным спутником Солнца с ямами мертвого женского лица. Опять женского? Да она же этого пола, как и Луна. Ты-ы! Маньяк! Ничего не маньяк! Луну все мы, зэки, разглядывали, все находили желанное, бабье. «На обритую бабу похожа!» – сказал бригадир Кудимов – тогда бригаду за невыполненный план не сняли с задания, ночь тряслись у костра, а луна глядела на нас с потаенной улыбкой Моны Лизы.
О чем думаю?! Домой ведь иду, а мысли не там. Дома меня не ждут и не знают… И хорошо, что не знают… Что я свободный… А Кудимов ведь там и остался, давно, на Ижме… А вот и моя улица, вернее, ведущая к стадиону. Как тополя-то выросли! И даже все стоит так же деревянный высокий, глухой дом. Вверху мезонин без окна на улицу. Странный дом. Здесь жил крепкий, статный, седой старик. Я видел его редко. У старика жил дурачок-водонос и еще красивая молодая деревенская девка. Девка ходила в магазин и никогда ни с кем не разговаривала, как глухонемая. А была полная, статная, с длинной светлой косой. Осенью здесь было много птиц, летали стаями. Дрозды. Зяблики. Щеглы. Зимой снегири и чечетки. Я любил эту улицу. Была лучше нашей Ключевской, мрачной от динамовского забора. Вот она и моя! Моя ли? Она… Только забор стадиона кое-где наклонило. Дальше улица выходила одним краем в заброшенные сады, еще дальше в милое, зеленое луговое болото. Там пасли коров и коз. Стояли редкие обломанные березы. По дальнему краю к мельничным баракам высокие гравюрные тополя. Тут прошло мое детство. Розовые вечера. Над болотом толклись комарики. По озеринкам, затянутым водяными травами, булькали лягушки, плескали караси, бегали водяные пауки. И за нашим бараком был тоже разгороженный заброшенный сад с обломанной сиренью и крапивными зарослями. Забор стадиона будто отгораживал нас от всякой нормальной жизни – там вечно орало радио из рупоров на мачтах и слышался хаосный рев толпы, когда футбол был по субботам. Мы и жили в стадионовском бараке. Вот вижу его крышу. Отец мой на стадионе работал завхозом, а мать техничкой, потом гардеробщицей. Крыша барака ничем не изменилась, только прогнулась вроде да посерела. А еще торчат над ней кое-где антенны. Их не было. Не доходя несколько, остановился. Собраться с духом. Как там дома? Сосало что-то душу и сердце. Достал горький, говенный этот «Прибой» – зэковскую радость, закурил. В три хватка затянулся жадно. Не полегчало. Давнул окурок носком сапога. Пошел.
Отец стоял на крылечке барака. И тоже курил. Маленький, ссохшийся, совсем седой. Белый. Это я его таким сделал. Старое, желтое, нежилое лицо. И все-таки сразу его узнал. Он же мельком взглянул на меня, идущего к крыльцу по усыпанной трамбованным шлаком дорожке, полуотвернулся для последней затяжки. Кинул, хотел идти в полурастворенную черноту барака, но удержался и снова, как спросонья, глянул на меня приблизившегося, стал валиться с хриплым стоном: «С-са-аш-к-а-а?! A-а? А-а?»
Схватил за руки, припал на грудь, стукал сухими кулачками, давясь странными, хныкающими рыданиями: «Сашк-аа… A-а… А-а-а…»
А матери уж давно не было. Годы. Он мне об этом ничего не писал.