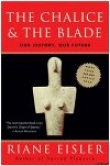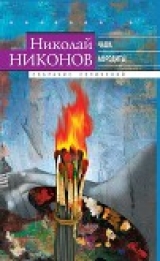
Текст книги "Собрание сочинений в 9 т. Т. 8. Чаша Афродиты"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
Впрочем, говорить я ведь начал о софе и девственнице, которую ждали и она, и я – я больше, чем софа. Где ты, девственница, если мне уже стукнуло сорок пять и в волосах седины сколько хочешь, и в бороде еще больше! Как-то, погнавшись за плагиатным в общем «образом» живописца, я вздумал отрастить бороду и довольно легко справился с задачей. Борода выросла – куда с добром! Густая и крепкая, но была седа через волосок, отчего казалась рыжевато-серой. Сам я не рыжий, темно-русые волосы тоже давно прихватила седина, а вот борода оказалась с какой-то ржавчатой рыжиной. И бороду я сбрил. С ней на меня совсем перестали смотреть женщины, нет, не женщины, а те удивительные существа, по которым я сохнул, чем был старше. Мой взгляд теперь все чаще останавливался на девушках, даже, скорее, девчонках в самой ранней поре цветения! Да уймитесь вы, ревнители морали! Не хотел и не жаждал несовершеннолетних. Просто любовался ими, ловил их нежную, сродни ангельской, красоту-чистоту. И пытался воплотить в своих картинах. И сам вроде был таким. И душа просто слезами исходила: не было у меня такой юной, несовершенной, безоглядной, трепещущей любви, и никакой секс, никакая изощренность ее бы не заменили. И еще странность: старилось и, конечно, вяло, изнашивалось как будто мое тело – морщины, худоба, седина… Адуша словно бы молодела, становилась открытой и ранимей и болела, саднила уже невыносимо. Это вечное мое одиночество и сушило, и растравляло ее.
Новая квартира, как ни странно, не утолила, а лишь обострила мою вечную боль. Без женщины она была как мельница без воды. И вот, радуясь своей белой кухне, сияющим новым кастрюлям, новой люстре-плафону с какими-то детскими сказочными орнаментами: елки, избушки, Красная Шапочка и зубастый волк – я просто уже болел одиночеством. Комнату же я разделил на «мастерскую» и «гостиную». В «мастерской» стоял мольберт, картины, для которых собирался сделать шкаф-хранилище. В «гостиной» – софа, кресло-кровать, огромный палас под цветистый восточный ковер и ковер на стене – настоящий, дорогой. В итоге всех трат у меня осталось на житье семьсот рублей. Зато была чудная и не снившаяся даже мне квартира. Как у художника Нилуса (о нем я читал!) – чердак, но роскошный, устеленный коврами!
Ковры! Вот везде уже писано-переписано: надо жить скромно. И Ленин их будто бы «не любил». А мне так нравилась эта моя непривычная «роскошь», она грела душу, рождала настроение, и только в одном, повторно уже, омрачалась моя жизнь. Натуры, женщины, ФЕМИНЫ у меня не было, и годы безжалостно, неуклонно наслаиваясь, говорили: «И не будет!»
Ночами, просыпаясь на своей одинокой постели, я часто плакал, рыдал и трясся, как маленький, а проплакавшись, лежал и часами смотрел сквозь окна, как неуловимо движутся звезды. Вокруг меня привычной, обыкновенной, нор-маль-ной жизнью жил гигантский микрорайон. Люди спали, любили, совокуплялись, рожали и нянчили детей, влюблялись, расходились – и не были одинокими. Они были как все. И часто из окна кухни я волей-неволей видел, как они пьют чай, обедают, нянчат, гладят, о чем-то спорят, танцуют и даже пляшут, пьянствуют, дерутся (изредка), что-то пишут, читают, ложатся спать, накрашиваются и одеваются. Но никто из них не рисовал, не писал красками, не стукался головой о стену, похоже, не плакал и ничего такого не искал. Там была обыкновенная, нормальная жизнь. Здесь, у меня, какое-то вечное и с годами ожесточившееся, едва переносимое уже голодание.
Неутоленный голод, от которого, уже бывало, тяжко ломило сердце. Я подчас ловил себя на дикой мысли: там, в лагере, у меня была тягостная жизнь, не жизнь, а терпение с ожиданием свободы, здесь, в квартире при коврах, была свобода без каких бы то уже надежд на счастье, разумную жизнь, любовь, успех, признание, и мало помогали от этих раздумий мечты и самоутешения, а работа, которой я пытался глушить и давить свое одиночество, подчас только обостряла его. Ведь я писал, рисовал, искал в природе только женщину и вот уподоблялся повару, который готовил изысканные яства, а сам не имел даже возможности коснуться их. Тантал был прообразом художника. Сизиф – быть может, его мифическим воплощением.
Иногда я поражался сам себе: ведь все есть, все есть, о чем вечно плакался – картон и кисти, краски, холст! Всего накопил вдоволь! Есть шикарная квартира-мастерская. Из окон – небо, вдали леса. Хоть вот отсюда пиши пейзажи. Правда, пейзажистом, наверное, надо родиться, как родились ими Левитан, Шишкин, Коровин. И портретистами, наверное, рождаются. И теми, кто славен в натюрмортах. И маринистами, пусть как непочитаемый мной Айвазовский. А я уже в условиях какого-то бесполого словно «развитого социализма» с этим его пеленочным названием оказался, ну, как себя обозначить? Фе-ми-нис-том? Почему бы и нет? Если были ими Роден, Модильяни, Ренуар, Дега и Кустодиев? Феминист Рассохин, опоздавший родиться на столетие назад, или бы уж на столетие вперед, если к тому времени совсем не исчезнет живопись или женщина.
Что говорить напрасно, если и приличной, красивой НАТУРЩИЦЫ, вдохновительницы кисти, какой была, скажем, Габриэль у Ренуара, у меня не имелось. И не предвиделось такую найти. Что толку, если б и предвиделось, но вот они, мои картины. Их никто, по сути дела, не видел. И вряд ли вообще кто увидит.
Ночами меня часто охватывало отчаяние. А утром, ободренный ранним солнцем, золотившим мою мастерскую, я опять поднимался с надеждой объять необъятное, часы простаивал у мольберта, пытаясь воспроизвести какую-нибудь очередную мечту из моего бесконечного цикла «ЖЕНЩИНА». И если не удавалось, мыл кисти, одевался и шел в город. Шел в город чего-то искать.
Однажды я встретил возле магазина у площади Болотникова. Мы не виделись, наверное, уже целое пятилетие. Учитель мой выглядел старовато, ссутулились плечи, голова была уж не пуховой, а гладкой, глаза повыцвели, но все-таки глядели с заинтересованностью, чуждой старости. Разговорились. Похвастал мастерской. Посетовал: «Нет денег». Все ухлопал на эту квартиру. Работать на завод не пойду. И с натурой ничего не получается. Глухо.
– Нет денег – вы не оригинальны, – сказал Болотников. – Деньги есть лишь у продажных бездарей или супергениев. Ваше время в этом смысле не пришло. Сейчас оно просто невозможно. Однако… Вы, Саша, видели, как растет трава под доской? Ну, кем-нибудь в газон брошена доска или камень. Отвалите эту доску, и вы увидите – трава растет и там, бледная, белая, едва зеленеет, но растет. Надеюсь, доски и камни свалят, когда придет ваше время. Дай Бог, чтоб это случилось не через сто лет. Ограничьте потребности. Я живал и на бутылки. Да. Да! Не поверите? Шел на вокзал, садился в электрички и – набирал. Не зову вас на этот путь, он лишь на крайний случай. И возможно, вскоре я помогу вам найти заработок… Имейте небольшое терпение. И дайте мне ваш адрес. А вот с натурой помогу только советом. Женщин-натурщиц всегда можно получать, но красавиц, – он сделал ударение, – писали в свое время только Тицианы и Рафаэли. Художники тогда были в славе, и женщины-красавицы не только им позировали – женщина тщеславна! – они им отдавались. Так вот: красавицы натурщицы вы не найдете, такую, какая глаз радует и какую душа требует, купить невозможно или нужны сумасшедшие деньги. Деньги! За деньги, говорят, можно КУПИТЬ и фею. Да, Саша! Индийская мудрость утверждает: «Нет места, нет времени, нет пожелавшего – потому и чиста женщина. А сущность ее – измена». За эти великие истины я в свое время горестно расплатился. Я слишком доверял женщинам и потому живу один. – Болотников грустно усмехнулся одними глазами. – Так вот, – продолжил он. – Раз идеальную натуру вы не будете иметь, значит, ее надо ловить. Как энтомолог бабочку. Как фотограф. Щелк – готово! Ваша память и должна быть фо-то-гра-фи-чес-кой! Вы меня поняли? Глаз – объектив, память – пленка, зоркость глаза – резкость изображения. Вы знаете, что фотопленка фиксирует даже недоступное зрению, то есть обычному глазу. И отсюда банальный вывод: все время рисуйте, фо-то-гра-фируйте глазами. Рисуйте глазами! Так завещали все великие. Энгр! Вот идет женщина. У нее прекрасные бедра. Будете ее останавливать, предлагать встретиться, она вас может оскорбить, наплевать вам в душу. Может быть, она мегера, черт в юбке. Но бедра ее вас взволновали. Рисуйте их немедленно. Носите с собой планшет. Ах, вы! Чему я вас учил? Фиксируйте! И постоянно внушайте себе: Я гений! Я суперхудожник! Звезда мира! Мне все подвластно!
И он усмехнулся. Глаза стали глядящие в солнечный сентябрь.
– Итак, все у вас под ногами! А деньги будут. Вот мой телефон. Давайте адрес. Спешу! Если бедность будет невтерпеж – звоните. Или когда напишете шедевр. Я обязательно приду!
Он ушел. Я стоял в задумчивости, глядя в его спину, сутулую, как у старика. А ведь он прав! Что же я расписываюсь в бессилии, вместо того чтобы действовать?
Дома изготовил планшетик. Он был прост и удобен, умещался в кармане куртки! Блокнот для этого был громоздок. Но первый же воскресный день, когда я отправился на поиски красавиц, не дал ничего. Красавицы, когда их ищешь, не встречаются. Их видишь чаще неожиданно. В неподходящем месте: вокзал, трамвай, какая-нибудь очередь, автобусная остановка. И словно редкие бабочки, они имеют свойство внезапно и быстро исчезать. Может быть, так прошло несколько дней, пока я не встретил действительно уникальную женщину.
В скитаниях своих я оказался вблизи вокзала – тут была столовая, где можно хорошо пообедать на рублевку, и тут, на выходе, я заметил группу парней и с ними девчонку в синем трикотажном костюме и таких потрясающих форм, что она невольно заставляла оглядываться и молодых, и стариков. Дева явно бравировала формами. Помона или Цецера! Она шла неторопливо, и громадные ее ягодицы подрагивали в такт тяжелому полувращательному движению. «Прекрасная, как слон, Мохини шла по дорожке», – вспомнилось что-то из индийских сутр. Да. «Мохини» эта была явно близка к миру животных. Может быть, она воплощала этот мир! Но и облагораживала его той мощью и округлостью, какой нет у животных и какая возникла у женщин за тысячелетия неистовой жажды и похоти ваятеля мужчины.
Думать о зарисовке на ходу не было и речи. И я просто шел за пышной красавицей, стараясь запомнить всякое движение чудо-девушки. Сравнительно худой там, где была ее голова, шея, спина, талия и чудовищно контрастной, где талия кончалась и могучими овалами переходила в роскошные, чтоб не сказать чудовищные, бедра матроны. Голова у девушки была небольшая, непропорциональная бедрам, гладко причесанная, однако с крепким густым и блестящим «хвостиком». Он развратно торчал и подрагивал, как-то все-таки согласуясь с тяжелыми переливами ее величавого тела.
О, это была уже уникальная находка! Женщина-девушка, которая превосходила мою незабываемую Надю, превосходила и напоминала ее, хотя в остальном во всем была далекая мне, недоступно-чужая. Но, как с досадой понимал я своим голодным мужским сердцем, вполне доступная кому-то из этих парней.
Я дошел с этой компанией до вокзала и машинально, как влекомый, взял билет на ту же самую электричку. Я не мог освободиться от тянущего движения этой богини плодородия. Когда компания погрузилась в подошедшую электричку, умудрился сесть столь близко, что водянистые глаза девушки, они были зеленовато-светлые, как лягушачьи икринки, не раз понимающе-вопросительно останавливались на мне – мой взгляд, конечно, гладил ее обтянутые трико бедра и колени. Компания тут же начала играть в карты, а я продолжал и продолжал рисовать глазами контуры Помоны, запоминая малейшую щербинку на ее лице – след давней оспы-ветрянки. (Все остальное у нее было идеально плавно-округло, особенно колени, словно бы и без чашечек (круглые колени – женщина добрая, – заметьте! С худыми коленями – чертовка! Чья-то расхожая мудрость.) Запомнил врезавшийся в полушария след – резинку трусов, плавно облегавших хорошо обозначенное близкое мне бедро, – запомнил все так, что компания уже начала поглядывать искоса и с неудовольствием. На полустанке, где дорога расходилась в три стороны, я вышел, напоследок еще глянул на Флору-Помону-Цецеру. Я «забирал» ее с собой – теперь она никуда не могла от меня деться.
На полустанке я сел в обратную электричку, полупустую, свободную. Теперь можно было по свежей памяти зарисовать в планшет все, что я держал в памяти. Получалось плохо. Вагон качался, трясло. Бумага планшета была явно мала для таких контуров, и я с досадой сунул ее в карман.
Лишь дома, усевшись за стол и приколов на свою большую рисовальную доску лист стандартной рисовальной бумаги, я вдруг, не прицеливаясь и не примериваясь, начал рисунок. И – Господи! Не твоя ли рука водила моим угольным рисовальным карандашом! Я в точности воспроизвел это чудо женского мира, не только контуры, бедра, фигуру, выражение лица, икриночных глаз, гладко зачесанные волосы, но даже сексуальное торжество ее хвостика, поднятое над затылком! Если бы девушка эта увидела свой портрет, я думаю, была бы потрясена не меньше автора.
Закончив изображать ее сидящую, я тут же набросал идущую, сидящую в ином повороте, склоненную над картами, мне удалось даже насмешливое предожидание-блеск ее девочковых глаз, когда на руках были главные козыри.
«Эврика! Ну, что же? Теперь я независим от согласия натуры! Я могу быть чем-то вроде фотокамеры. Да здравствует Болотников!» Мой учитель, которого я хотя и явно превзошел, но преклоняюсь перед ним. Открыл он мне ведь явно очевидное – но почему же я сам об этом не догадывался? Учитель – он в этом и УЧИТЕЛЬ. Он просто меня разбудил! И еще, наверное, несомненно «помог» мне лагерь, где годы и годы я тушевал «карточки» зэков.
И теперь моя коллекция зарисовок любых понравившихся мне женщин, их «типов», типажей стала стремительно расти. Рисунок ведь – «три четверти живописи», и это были сладостные заготовки. Почти всякий день я возвращался с уловом в сетях памяти и рисовал, рисовал, рисовал. Вот подписи к моим находкам: «Блудница», «Старая гетера». Вот: «Купчиха», «Слониха-щеголиха». Это: «Кармен». Это: «Мясной отдел». Тут вот: «Порок»! Тут же: «Вампир». Еще: «Дура», «Антилопа».
Рисовал и рисовал, словно утоляя свою изголодавшуюся утробу. Пока я делал рисунки и наброски, но в уме уже сладостно держал картины, большие, в багетах, и даже уже подбирал названия, циклы. Допустим, на античные сюжеты: «Мессалина», «Клеопатра», «Вакханки», «Венера и амур». Было, но я-то ведь сделаю-напишу по-своему, «так, как, может быть, никто еще не писал!». Сколько всего «Похищений Европы», а я могу совсем по-иному. Или вот: «Ева» или «Гера-Юнона»! «Рождение Афродиты». Понимаете, написать «РОЖДЕНИЕ АФРОДИТЫ»!
А кроме того, мне хотелось писать женщин на пляжах, в банях, в муках рождения, и даже – вот ужас! Разврат! – может быть, в гинекологическом кресле! Я хотел писать в том белье, которое французы называют «интимным». Во всех этих резинках, подвязках, пристежках, трусах, панталонах, корсетах, в бикини и в мини. К этому стремились художники и до меня. Тот же Лебедев написал множество розовых мордастеньких работниц в разноцветных трусиках. И что мне Лебедев? Хуже я его, что ли? (А теперь самое тайное.) Я хотел писать женщину отдающейся, наслаждающейся, бесстыдной, развращающей и развращающейся, писать нимфоманок, лесбиек, женщин с комплексом Пасифаи – жены царя Миноса, родившей Минотавра! От быка!
Пухли папки моих рисунков, эскизов, набросков. Удачные и не очень. Иные – похожие на шедевры. Шла тренировка моей руки, глаза и памяти, и она говорила: еще немного и пора приступать к картинам, к великим полотнам, которые я, без сомнения, напишу.
Хорошо мечтать. Хорошо развешивать уши от похвал. Хорошо влюбляться юным красивым мальчиком с тугой, комковатой мошонкой. Мальчиком, мающимся по ночам от мучений царя Приапа, что разрешались, чаще под утро, сладостными, освобождающими тело содроганиями. В старое время в состоятельных семьях мудрые родители нанимали мальчику пухленькую чистенькую горничную. Я был не мальчик, и горничной у меня, конечно, не было. Но женщина и во сне теперь не давала мне жить спокойно. Теперь я не был в лагере и все равно не знал, куда деться от уже саднящего душу давления в промежности, тут мало помогала и тусклая лагерная привычка – спасенье всех обездоленных отсутствием женщины.
Зимой и летом было еще так-сяк. Зимой инстинкты дремали. Женщины были закутаны в шубы, дохи, шали. Летом на пляжах и в платьях были доступней для обозрения, и голод мало-помалу стихал, откатывался. Зато как яростно наваливался этот голод, едва мартовские небеса начинали цвести, играть переливами синего, сиреневого, палевого и розового. А в мае бухала, содрогала землю и небо краткая слезно-счастливая гроза! В мае женщины переходили в атаку, снимали пальто и плащики. И тут действительно дурила душу и тело самая невыносимая маета. Не потому ли месяц назван так.
Юбки, кофточки, сквозящие тайнами крепдешины и шифоны! Женщины манили, их глаза, изгибы бровей, губы, улыбки, объемы талий, содрогания бедер – все излучало неведомые, никем не объясненные излучения. И я уже совсем не мог сидеть дома, корпеть в мастерской, неясная сила, глухое томление толкали меня на волю, на улицы, на простор, к НИМ, и целыми сутками, бывало, как одержимый, я бродил, шатался, таскался по городу. С моей дурацкой робостью знакомство с женщинами превращалось в неразрешимую проблему. Я всегда робел женщин, девушек, девочек с детства. Они казались такими холодными, насмешливыми, недоступными. Теперь же моя робость усугублялась еще тремя самыми существенными причинами: первая и главная, главнейшая – мои изреженные цингой, наполовину выбитые, не ставшие с возрастом лучше и красивее зубы. «Эка беда! – хохотнет кто-то. – Пошел да вставил. Все дела!» Не все. Потому что я органически не переносил даже запаха этих клиник, стоматологических кабинетов. Меня сразу клонило в обморок от вида всех этих «новокаинов», щипцов, шприцев, жуткого вида пыточной бор-машины, ее сверлящего нервы, хрустящего ноя.
Зубы драли мне коновалы, садисты в лагерной больничке. Там, на Ижме. ТАМ. «Зуботехники» Левка Горелин и Левка Кучин рвали зубы с каким-то остервенением, часто пальцами, вцепляясь, как злобные обезьяны. Один драл, другой держал, чтоб не дергался. Оба жили они почти без режима, имели «жен», никогда не гнулись на общих. Оба не были никакими врачами и «техниками». Просто такие Левки в лагерях, как заметил, устраивались лучше, потому что и лагерные начальники и оперы режимов были чаще из таких же и садили своих, где полегче, в КВЧ, в плановики, бухгалтерами, нарядчиками – вообще везде, где можно было не пахать, угреться, иметь хорошую пайку. Простите уж, но так было.
Второй причиной робости становился мой возраст, подкатывало уже к пятидесяти. А пятьдесят – скажи молодой и пригожей – только фыркнет.
Третья причина пока еще не донимала меня, но обозначалась все весомее и беспощаднее – опять кончались деньги. Ах, деньги! За краткий период моего относительного богатства я все-таки успел развратиться. Ну, черный хлеб – это была потребность, но я теперь уже не мыслил завтрака без колбаски, без ломтика-другого сыру и ветчины, без хорошей яичницы – коронного блюда холостяков, которую научился делать отменную со всякими специями-вытребеньками. Я привык и к рюмочке марочного красного винца за обедом. Какое гусарство! И вообще, я отвык от волчьей, студенческой, полузэковской жизни там, в бараке. Квартира требовала и самоуважения, а кухня, блистающая белизной, и лучшей человеческой пищи.
Деньги дали не только обстановку моего чердака, не только возможность спокойно думать над картинами, рисовать, писать, гулять по утрам и днями в поисках сюжета и натуры – они давали независимость и еще тот, невостребованный пока потенциал – найду женщину, а ее ведь надо еще и накормить, одеть, дарить ей подарки. «Женщина все простит мужчине, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЕДНОСТИ» – французская пословица. И еще мудрость: «Невесту деньги приводят». И еще: «За деньги и фею можно купить». И еще: «Хочешь быть молодым, не будь скупым». А деньги мои, столь щедро истраченные на мебель, ковры и удобства, деньги, имею в виду оставшиеся, таяли, как снег под мартовским солнцем. И никакая экономия, экономика не помогала.
Как жил художник в доброе старое время? Как жили Дега, Ренуары, Мане, Матиссы, Ван Гоги и Гогены?
Да также почти все бедствовали, искали заработки, заказчиков, продавали картины за гроши нехотя берущим торговцам живописью. Ну, Рубенсам и тем, кто писал коронованных особ, платили золотом. Да когда это было? А так художники жили все-таки продажей своих картин, копий, повторений. Я в условиях развитого социализма не мог сделать даже этого. Не «член союза», не признан, ни на одну выставку не принят, пишу «порнографию», «голых женщин», мне нельзя выставлять мою картину в салоне, продать на базаре, на вернисаже. Мне ничего нельзя, не позволено, не разрешается. Я могу найти только частного любителя, толстосума, мецената. А где он? Она? Оно? Они?
Женщин я писал по памяти и фрагментами. Например, их губы. Что такое губы? А вот бывают у них такие, что диву даешься, как могла природа сотворить такое, пухлое, нежное, прекрасное, ждущее, жаждущее, соблазняющее, выворачивающееся от желания? Я не раз рисовал такие губы, некрашеные, жадные, способные довести до сосущей истомы, до безумия, до изнеможения, губы, по которым можно тосковать целыми ночами. Такие бывают чаще у женщин с юности опытных, крупных, полных, противно однолюбых, от этого всегда голодных, но не хотящих «другого» и так зачастую уходящих с невостребованной жаждой. У девочек-девушек очень редко бывают губы – сама жадность и сухость, трещинки, как от зноя, неотрывная присасывающая сладость, неуемное, неостановимое желание, – такими губами не целуют, а вынимают душу. И есть просто красивые, бездушные, косметические губы.
Холодное украшение обычно такого же красивенького пустого холодного лица. Такие губы недостойны внимания художников. А мне приходила не раз дурная почти мысль написать картину «Губы». Только они. И я пробовал. Не получалось. Чего-то не дотягивал. Или вот – руки! Их руки! Два-три раза за всю жизнь я видел совершенно необыкновенные руки. Раз на трамвайной остановке, у молодой женщины, каждый палец ее руки плавно утолщался к середине, переходил в некую жутковатого соблазна окружность и опять сходил к нежному утонченному удлиненному овалу, чтобы перейти в вообще уже невозможную по соблазну пухлую красоту кисти.
В другой раз и тоже в трамвае, зимой, ехала яркая, накрашенная, лет тридцати. Было холодно, а она сидела сняв перчатки, и руки ее, на диво полные, с толстыми, да, толстыми, круглыми и недлинными пальцами, каждый из которых украшал крохотный рубиново-лаковый ноготок, были чудом сексуального возбуждения. Мануальная терапия! Женщина явно наслаждалась. Все мужчины глядели. Каждый представлял свое.
И еще раз совсем крупная женщина. Порода явная. Венецианское лицо. И руки тоже венецианки. Таких умел писать только Веронезе или Тициан. Еще Энгр. «Мадам Ле-камье». Или Жозефина. Из таких (от таких!) рук не уйти. О них будешь вечно мечтать, вспоминать, тосковать, думать, ЧТО они могут… Женские руки с ногтями, залитыми в темный, густо-бордовый лак!
Теперь перейду и к женским грудям. Здесь и вовсе неисчерпаемо. Если б все, все их увидеть? Все оттенки форм, все краски сосков от бледно-розовых до буро-кирпичных, до каких-то почти черных и торчащих как молодые козьи рожки. Юра рассказывал, что видел женщин с сосками, торчащими, как пальцы. «Сантиметров семь будут. Во-о!» – безумно оживляясь, жестикулировал. И сам я видел соски странные, толстые, со вдавлинкой, как бутылочные горлышки. О форме же этих груш, яблок, плодов «авокадо», репок, каких-то умопомрачительных совершенных клизм, свисающих плодов тропического дынного дерева, неспелых арбузов, кабачков и вовсе ни на что не похожих, но таких сексуальных «подойников», меж которыми готовы замереть в содроганиях охотники до такого секса. А как эти груди умеют шевелиться, наполняться, вздрагивать, выскакивать из кофточек на бегу, как могут обольщать и мучить своей малой малостью или молочной полнотой, когда глаз щупает, а рука не может, не имеет права… Это об их грудях, но ведь еще есть и живот. То, что вместе с грудью входит в тебя с детства и уже не отпускает всю жизнь. Живот. Живой. Жизнь. Я никак не могу представить красоты животов плоских, часто еще с «недорезанной», кукишем торчащей пуповиной или просто, как мелкий след пальца в тесте – ткнули и отдернули, – осталось жалкое, незавершенное. Но живот женский, настоящий, потрясающий тоже видел, может быть, всего два-три раза. И о двух случаях расскажу.
Один раз я видел такой живот у женщины на пляже. В кругу, стоя, играли волейбольным мячом, и неловко отбивала его женщина чуть выше среднего роста и средней привлекательности. В ней не было ничего такого, чтоб можно было обратить внимание. Но ее розовые, мокрые после купанья шелковые трусы были чересчур смело, чтоб не сказать, бесстыже, опущены до того места под животом, где скрывается уже никогда не загорающая полоса, и на виду был весь ее нежный, совершеннейшей круглой формы – представьте яблоко «белый налив» (но не то, неточное сравнение), словом, это был живот, как бы смотревшийся сам в себя уходящей воронкой идеально глубокого пупка. На живот смотрели. И я не представлю счастливчика, кому доводилось гладить, ласкать этот (такой) живот.
В другой раз, обойдя целый пляж, я увидел живот полной, плотской женщины. Живот этот был куда объемнее описанного, но еще более был сладостен, налит сексуальной силой, от него невозможно было отвести глаз. Но, отведя их на мгновение, я увидел, что перед женщиной стоит и смотрит на ее живот, совсем как на откровенное чудо, невысокий и улыбающийся дебил-дурак.
В какой-то из дней я записал в своем дневнике – вел его от случая к случаю, непостоянно и редко:
«Я очень хочу писать только женщину, женщину, женщину и, может быть, еще пейзаж. Я полностью убежден в том, что женщину до сих пор, до меня, лишь только пытались изображать. Ее суть не выразил никто или выразил жалко, приближенно, приблизительно, ханжески. Уверен, что и женщина отдающаяся может быть (и будет!) объектом величественной живописи. Мы просто еще не доросли до этого. Великий и счастливейший по переживаниям акт творения мы спрятали и скрыли, как нечто якобы постыдное, а красоту женского тела затоптали, опошлили, изгадили заляпанными мелом комбинезонами и пошлыми спецовками. Ах, женщина-строитель! Ах! Ах! А хочется воскликнуть: чушь! Жуть! Ужас! Надругательство! Все равно что прекрасную розу вымазать купоросом или известкой и объявить шедевром.
Я поставил себе задачу – вернуть живописи женское и женщину! Насколько хватит сил и умения! Всю мою прошлую жизнь я готовился к этому. Пусть считают меня маньяком, ненасыщающимся эротоманом – на самом деле я только художник, пытающийся схватить неуловимое. Прелесть женщины – загадка биологическая, но в ней все подчинено эстетике высшей красоты и смысла. Если бы ее (женщины) грудь была предназначена только кормить, живот – рожать, а зад – производить отбросы, они были бы омерзительны. Природа же заключила их в такие божественные окружности, линии и формы, какие неизвестны животному миру, – сравните хотя бы с гориллой, но в то же время все совершенство животного мира по-своему отражено в женщине – от нежности медуз, изящества змей до запредельных граций лебедей, антилоп, кобылиц и даже слоних. На мой взгляд (и мой ли только), женщина отразила все самое совершенное в природе, ведь свет звезд, формы луны, окраски зорь и небес, птичьи голоса также свойственны ей, как дожди, грозы, ночи и туманы. В своем искусстве «социалистического реализма» мы приземлили, опошлили, обокрали, оболгали женщину. Додумались даже ей сунуть в руки винтовку! Мы лишили ее главной, истинной сути и заменили серой «правдой» заскорузлой повседневности. Что дали мы женщине вместе с равноправием? Оглобли, ясли, ненужную кладь. Мне давно хотелось написать аллегорию женщины с головой лошади или коровы. Да ведь и древние до этого додумывались.
Природа не зря «спроектировала» полную женщину как символ крепости, жизнестойкости, всевыносящей силы и не зря создала женщину хрупкую, как хрустальная веточка. Я сознательно буду писать женщин, таких женщин. И никакая нужда меня не остановит!»
Это был почти мой манифест, и потому я решил его огласить. Да, никакая нужда меня не останавливала. Я продолжал работать, но уже считал каждый грош, экономил на всем. Чтобы меньше расходовался чай, я пил его в день только по утрам, в обед и ужин обходился кипятком. Масло заменил маргарином. Конфеты – сахарным песком.
Щедрую яичницу – «кусочницей», где на хлеб, пусть все-таки поджаренный, я расходовал не более одного яйца. Осенью предполагалось заготовить картошки, моркови, капусты – все на необозримых и едва убираемых колхозных полях. Помнил, как еще в мое барачное время я натаскивал картошки-моркови сколько хочешь. И я не воровал. На кое-как убранных полях она оставалась заезженной и затоптанной целыми рядами. Жесткий режим позволил отдалить, может быть, до новой весны мой финансовый крах. Я успокоился. И тотчас пришло решение: пора делать настоящие картины. Например, напишу «Еву». Она ведь была прародительницей всех женщин и, значит, должна была хранить и нести всю их будущую красоту. Теперь надо было только найти прообраз этой будущей Евы. Ее натуру!