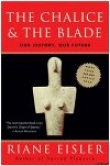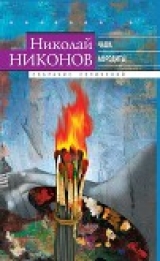
Текст книги "Собрание сочинений в 9 т. Т. 8. Чаша Афродиты"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Если сказать, что я спал в ту ночь, это будет неверно. Я как будто бредил в забытьи. Всю ночь видения одно другого дичей не оставляли меня. Я все время видел Надю, каким-то чудом она превращалась словно в лошадь, в животное, подобное бегемоту, но которого я никогда не видел. Эту Надю-лошадь я хлестал кнутом, она скалилась на меня и дико кричала. Я просыпался от собственного крика, в поту, вскакивал, ходил к ведру пить воду, ложился и снова погружался в кошмары, пока за окном не стало светлеть, и я уснул уже более спокойным сном.
Потом я припомнил, что после поездок к тете Надия обычно пропускала дня два-три, и я ее очень нервно ждал. Но я знал, что она придет, обязательно придет, а теперь все было ясно: она дожидалась, пока хоть как-то пройдут-сгладятся следы ремня на ее прекрасных бело-розовых ягодицах с небольшой желтизной к бедрам ближе к коленям.
Колени Нади, идеально круглые, полные, белые, с нежными подколенными валиками, как у младенца, сводили меня с ума. Я готов был глядеть на них часами, сколько угодно, а Надия, усмехаясь улыбкой, в которой сквозило что-то будто материнское и в то же время соблазняющее, сдвигала юбку выше: «На… Смотри, раз хочется. Смотри..» Иногда еще нарочно выставляла из-под сдвинутого подола резинку-закраинку своих панталон, и тогда ноги ее превращались в неописуемое манящее нечто, и я готов был целовать эти колени, гладить их, наслаждаться их нежной полнотой и горячим красноватым рубцом – следом сдвинутых резинок. Кажется, Надия сама понимала невыносимость такого соблазна, потому что, оправляя подол, шутя отталкивала меня и хохотала: «Ну, ладна… Хватит! Сглазишь!»
Почему-то я не шел искать Надю. Не хотел? Не то и не так. Я будто боялся себя сам. Боялся сорваться, боялся оступиться, боялся все сломать и в то же время в душе кричал на нее самым диким голосом, обзывал самыми грязными словами и в то же время знал: приди она вот сейчас, промолчу или приму ее любую ложь в оправдание поездки к тете. Но при этом я еще мечтал, как, наверное, всякий мужик, увидеть женщину кающейся, смущенной, какой-то особенно грешной и молящей о прощении. Тициан не зря написал свою «Кающуюся Магдалину».
Ничего подобного. Она пришла ко мне таким же золотистым и холодеющим октябрьским вечером, веселая, оживленная, и я с трудом пытался понять, как она совмещает в себе эти странные качества, очевидную все-таки любовь ко мне (так думалось и представлялось!) с оголтелым «Лесбосом» со своей подругой?
Наверное, я никак не мог скрыть разницу между собой прежним и нынешним и то, как воспринял теперь эту мою, МОЮ Надию и ту, которую знал еще три дня назад.
Она тотчас заметила мою скованную пасмурность и спросила:
– Чиво ты такой? Какой-то… Што с табой? Ни болен?
– Нет.
– А што тогда? Другую полюбил?
– Што, што с табой? Ты, наверное, все-таки болен?
«Сказать или промолчать? Сказать или молчать?»
металась из стороны в сторону загнанной мышью дурная мысль. Я мог бы, наверное, промолчать. Мог пересилить себя. Но тогда, чувствовал, я бы сломался. И все равно бы теперь уже не было так, как раньше. Я не хотел этого, поймите. Поймите! И не понимается: не хотел и не мог промолчать. Выяснять? Выяснять все? А зачем? Зачем выяснять-то? Но язык мой уже начал:
– Ты… Ты… Ты изменяешь мне, – наконец выдавил я, глядя на нее в упор..
Она даже не повела бровью.
– Из-миняю? Ты што? С кем? Ты в сваем уме? Когда? Да я и одного мужика к себе не подпускаю близко. Ты с ума сошел? А?
О, женщины! Пей чашу, дурак, ревнивое сердце успокоил бы этот взгляд, этот убеждающе-правдивый голос. Неподдельное возмущение и изумление.
Я узнавал женщину.
– С кем изминяю? Говори!
– Со своей подругой! – решительно ляпнул я.
Она остановилась и, полуповернувшись ко мне, вдруг посмотрела загоревшимися глазами лесной кошки. Глаза Надии имели странную способность менять цвет, то быть совсем темными, то светло-карими, то вдруг зеленеть и превращаться в яркий холодный кобальт, это когда она вся уходила в наслаждение. Но теперь они стали золотистокошачьи, лесного оттенка.
– Ты следил… Да? Следил за мной?
– Следил! Я не верил тебе, и вот все оказалось правдой!
Она повернулась и пошла к двери.
– Надя! Куда ты? Надя!
Дверь захлопнулась. Надия ушла. И я ее не догонял.
Я не знал, как поступить. Бежать за ней? Искать ее завтра? Я вдруг почувствовал – за ней есть какая-то непонятная, не переваренная мной правота. Я не побежал за ней. Но лучше бы побежал, лучше бы вернул. Потому что провел еще одну дикую, грызучую, больную ночь, когда все во мне ныло, тосковало, не утихало. Рассвет застал меня одетым, и чуть не бегом я бросился на мельничную улицу, к ее общежитию, мне надо было встретить Надю до работы и хоть как-то объясниться. Мне нужно было ее очень, очень, без меры нужно. Я страдал даже непреднамеренно, непредсказанно и только теперь понял это вроде бы пошлое выражение «рана в душе».
Я прибежал к разломанному забору вовремя. Барак-общага просыпался. Надия вышла из него ровно в семь, подошла к воротам, шагнула, отвернулась.
– Ты? Зачем ты здесь?
– Я пришел… Я хочу… – бормотал я неподготовленную чушь.
– Что? – нетерпеливо-зло бросила она.
– Хочу сказать, что ты, что я..
– Ты меня прощаешь, – протянула, усмехаясь, она.
– Как хочешь понимай, но и меня прости, пойми… Я хочу быть с тобой… Хочу взять тебя замуж..
– О-о! Вот это новость. А что ты раньше молчал? А мне не надо твоего прощения. Я не изменяла тебе, скорее наоборот, потому что Машка – мой «муж» еще с колонии. Понил?
– С какой колонии?
– С такой! Милый! Да я же заключенная была! Понил? Я тожа парашу нюхала. У нас ее толька «свитланкой» называли. Эх, ты-ы… Ты думал: один такой? Таких миллион! Я еще девчонкой туда загремела. Работала швией, на швейной фабрике. И получилась у нас недостача по матерьялам. Ну, сперли… И все на нас, на малолеток, тогда свалили. Вы, мол, молодые, вам много не влепят. Я и подставилась. Глупая была. На сибя взяла, и мине питерку дали! Ага?! Отбывала в колонии, в Тагиле, на «Красном камне». Перворазница. Там опытные бабы-коблы по рукам сразу нас таких разбирали. А я и тогда в теле была. И жопа, и все такое. Сто килограмм была. Вот там миня и «откупорили», узнали, что я… Ложкой мине все порвали. Бабы там были – звирье. Развратные. Голодные. Ну, вот Машка там и отбила миня ата всех. Она ух какая! Ей и нож нипочем!
– И ты все время с ней?
– Нет. Я потом вышла досрочно. Она осталась. А я замуж как раз… Потом опять Машку встретила… Потом она уезжала на пять лет на вербовку. Вернулась – опять меня нашла. Да что рассказывать. Ни хочу… Хватит. Маляркой-то я потом стала. И Машка – тоже. Швеей не могу. Все мине лагерь напоминает. А Машку оставить тоже никак. Она мине не просто «муж» – друг. К этому, милый, если женщина привыкает: «розовой» быть – ни отвыкнуть. Правда… Машка у миня, конечно, законная лесбиянка. Мужиков ни-ни… А я до тебя мучилась только с мужиком. Вот к женщине и привыкла… С Машкой ни то чтобы любовь… Атак., привычка… А Машка хужее миня, без миня не может. Она убьет, если брошу. Правда, убьет. Она за убийство сидела. Ты бы миня не ревновал к ней. Я ведь ни часто. Только когда уж пристанет. Да и правду сказать, когда, бывает, и сама хочу этого. Кто жизни ни хлебал, осуждает нас, лесбиянок. А в женщине вообще этого много. Женщина лаской живет, вниманием, а мужики этого не понимают. Грубые… Нахалы… Многие бабы оттого страдают. И почти каждая пробовала или хочет. В каждой женщине лесбиянка спрятана. А у какой если муж дурак? У какой ни может ничиво? Вот подруга и бываит нужна. Простишь теперь… А?
Что я мог сказать? Про таких женщин я знал с детства. В соседнем доме, подальше от нашего барака, жили две квартирантки-парикмахерши. И даже похожие друг на друга, светленькие, в одинаковых завивках, в цветных крепдешинах и в белых туфлях. Одна была только толще, круглее, другая прогонистей и как-то мужчинистее. У обеих были одинаково некрасивые примелькавшиеся личики, пустота, косметика, ничего больше. Этих парикмахерш мы, я и Юрка, видели еще мальчишками, когда лазали в одичалый, заброшенный сад – остаток барской богатой усадьбы на краю болота, где с другой стороны стоял наш барак и начинались улицы, выходившие к набережной. В сад летом ходили загорать кому не лень, забредали кучками пьяницы, воры делили там краденое, под кустами спали бродяга и оборванцы, и сюда же все время забредали парочки, кому позарез требовалось укрытие и уединение. Мы же бегали в сад всегда в надежде увидеть ЭТО! И сколько раз, бывало, видели: мужик с бабой, парень с девкой, согласно оглядываясь, скрывались в кустах дичалой, обломанной сирени, стараясь забраться поглубже, где сирень эта прорастала крапивой. А дальше было почти одинаково. Баба всегда немножко ломалась, мужик или парень приставал, уговаривал, обнимал ее, лез под подол, потом они ложились, или женщина становилась на колени, мужик задирал ей юбку, и начиналось то, что было стыдно, сладко и страшно смотреть. Противен был только мужик, его тощая задница, рубаха, потное лицо, какие-то особо гадкого вида тощие ноги, но все перекрывалось стыдной сладостью всегда хуже видной женщины. Ее стоны, голос, иногда плач, иногда дурной хохот потрясали. Ради этого мы и бегали «в крапиву», часами ждали, волчата-звереныши, подстерегали желанное. Хотя приходившие в кусты были однообразны в своих действиях, смотреть это никогда не надоедало. Юрка же сидел в крапиве и осенью, пропускал школу, вечерами до позднего часа бегал по улицам, подглядывал, где удавалось, по окнам. Он был неутомим в поиске. Он же и рассказал про парикмахерш и показал мне урок их странной женской любви.
Парикмахерши часто приходили загорать на поляне и в саду почти каждый теплый выходной день, и, помню, Юрка с загоревшимися глазами как-то прямо за руку потащил меня прятаться, едва парикмахерши появились, неторопливо идущие сюда в светлых ситцевых платьях.
– Счас… Будут… Точно будут! – дышал в ухо Юрка, когда мы устроились поудобнее в крапиве, не упуская из виду поляну.
А парикмахерши, оглядываясь, – никого на поляне, – задрали платья и через голову сняли их, как-то странно-усмешливо оглядывая друг друга. Обе были в беленьких бюстгальтерах и в голубых длинных, до колен почти панталонах, трикотажных и красивых, как ходили тогда почти все женщины. Но парикмахерши словно боялись, что их увидят в таких штанах, и подвернули их, сделав как трусы. Потом они улеглись на какую-то подстилку, не то покрывало, и легли загорать. Сидеть в крапиве мне надоело, я не один раз сжалился, тут было душно, жарко, пахло прелой землей, но Юрка все удерживал меня. «Погоди. Пойдут они! Точно! Ссать захотят и… У баб это скоро… Все время ходят… Жди..» И мы дождались. Парикмахерши вдруг согласно встали, что-то тихо говоря меж собой и странно улыбаясь, а та, что была толще, даже высунула язычок, будто дразнясь. Они неторопливо пошли к кустам, и Юрка схватил меня за руку. «Счас!» Парикмахерши же, зайдя в тень, сначала согласно присели, а когда поднялись, их трусы опять были панталонами и обе они оглядывались вокруг. Никого не заметив, они стали расстегивать друг другу лифчики и, когда расстегнули, встали лицом к лицу и обе высунули языки, напомнив мне странных человекоподобных змей. Языками они соприкасались, соединялись, облизывали друг друга, издавая короткие стоны, и, приподнявшись, мы с Юркой увидели, что штаны у девушек полуопущены и они обе гладят и ласкают друг друга. Потом они стали сосать груди. У толстой груди были большие и длинные, у другой короткие и торчащие, как груши. А дальше та, что была тоньше, опустилась на колени, и было видно лишь ее кудрявую, в шестимесячной завивке, голову, припавшую к животу подруги, а та стояла, запрокинувшись, страдальчески корчилось ее некрасивое лицо, она жмурилась и стонала. Юрка трясся. Меня тоже колотил озноб. А женщины легли, и стало плохо видно, как они извиваются и приникают друг к другу и опять напомнили змей или кошек. Вот одна из них коротко, глухо вскрикнула, и тотчас почти закричала другая гортанным, ноющим стоном. Они затихли. Потом опять так же согласно встали, застегнули бюстгальтеры, опять превратили панталоны в трусы и пошли на поляну. Но загорать не стали, оделись и скрылись. Юрка с восторгом, блестя глазами, рассказывал – видел парикмахерш не один раз, ходит вечерами, где они живут, подсматривать в окна. Обещал позвать меня. Но так я и не собрался.
Все это проносилось в моем сознании яркими летними картинами, мелькало, пока мы шли.
– Ну? Што? Про-щаешь? – усмехнулась Надя, когда мы приблизились к трамвайной остановке.
– Приходи. Кажется… Я все понял..
– Ладно, – снова усмехнулась она всезнающей и словно презрительной улыбкой. На розовой полной щеке родилась ее прелестная ямочка, которую я так любил, даже ждал ее, ямочки этой, ее появления. – Ладно. Поживем еще, может… Тут вот… Задача… На другой объект собираются нас перибро-сить. Дали-ко. Реже видаться будим… И мужик у миня к весне должен… А то, может, кончим? А? Любов, она, знаишь, как чашка, – разбил, склеил, а все равно ни целая. Ни звенит… А? – Глаза были уже холодные, пустые и темные.
– Приходи.
– Ладно. Подумаю. Может, приду… Завтра… Однако, трамвай мой идет… – Она уехала.
Назавтра она не появилась. Я почему-то знал это. Словно бы чувствовал. Я прождал ее весь вечер. Выходил на дорогу. Болтался зачем-то у закрытых ворот стадиона. Было холодно, и дул уже совсем зимний ветер. Холодно плескала вода в пруду. Зябла под ветром запрокинутая с мячом гипсовая спортсменка. Зачем-то я подошел к ее постаменту – и увидел, что он весь в трещинах, в трещинах были и ноги статуи, в трещинах-кракелюрах небеленый, хоть все еще прекрасных форм зад, в трещинах грудь с потеками птичьего помета. А вместо мяча над ней торчала ржавая проволока-арматура.
Я вернулся домой и, скрепя сердце, принялся что-то такое рисовать, писать, надо было заняться. Ожидание – Надя все-таки вернется – придет, соскучится – слабо грело меня, и так с этим ожиданием, а лучше сказать, мучением прожил десять дней. Мука моя, однако, не утихала, и как-то под вечер я не выдержал, быстро оделся, – стояли уже холода, выпал снег, – пошел к ее общежитию. Во всех окнах там горел свет, зато в подъезде было темно, и я, спотыкаясь, поднялся по темной, вонючей лестнице. Толком я не знал, где комната Нади, – знал, что на втором. И потому постучал в первую попавшую дверь.
В ответ был незнакомый женский голос:
– Зайдите!
Толкнул дверь. Женщина в лифчике, в расстегнутом халате, не краснея, запахнулась.
– Ой, кто вы?
– Найденова здесь..
– Надька? К ней вы?
– Да.
– Она вчера уехала… Куда? Не сказала. Не знаю я. Я сама тут новенькая. По-моему, в другой город куда-то. Не знаю. Вот ее койка.
Я действительно увидел общежитскую койку с пустым матрацем, подушкой без наволочки.
– Совсем уехала? – глупо переспросил я, совершенно остолбенелый.
– А как еще? Не насовсем? – усмехнулась женщина, глядя уже понимающе. – Чего ей ворочаться в этот клоповник? Комендантша, может, знает. Спросите завтра у комендантши.
Я медленно спустился по той же темной лестнице, вышел во двор, на крыльце обнявшись стояла парочка. Мужик был пьяненький, пожилой, девчонка относительно молодая, истасканная. Он щупал ее. Она стояла, как столб, развесив белесые крашеные патлы.
За воротами я остановился, еще раз взглянул на густо светившее чужими окнами прибежище моей первой любви и – заплакал. Что такое было со мной? Я не плакал, даже когда хоронил отца. Не плакал в зоне, по крайней мере, все последние годы. Не плакал. Глаза мои просто отвыкли от слез. А тут, за разломанным забором, я рыдал всласть, я трясся, стонал, всхлипывал, кажется, выплакивал всю свою тоску, обиду, боль за все эти годы, когда приходилось крепиться, держать, каменеть в злобе и в отпоре всему. Я плакал долго, никак не мог успокоиться – хорошо, что было темно и никто не видел меня… И не спрашивал, что со мной. Может, парочка на крыльце слышала. Да им было не до меня. Справился наконец, вытирая слезы рукавом, шмыгая, как обиженный школьник, пошел к дому. И глупо все еще надеялся, что она вернется, что переехала куда-то и ей пока не до меня. Что я сам разыщу ее и что, может, еще напишет. От мыслей этих кое-как утешился, они помогли. Я еще не знал, что такое ЖЕНЩИНА. Я только начал узнавать это дивное, страстное и страшное существо, столь желанное, ласковое, влюбленно покорное, и всегда как бы подчиненное, и никогда никому не подвластное, как не подвластна никому природа и ее главные и столь необходимые: солнце, луна, вода, ветер, океан, россыпь звезд или хоть звуки гудка далекого паровоза. А вдруг он увозит Надю, мою Надю? Надию! И я уже никогда и нигде ее больше не встречу? НИКОГДА и НИГДЕ? Эта мысль облила меня таким холодом, что я снова зарыдал в три ручья и так, рыдая, побежал по темной улице, будто мог нагнать свою любовь, будто мог… Я остановился лишь у набережной, где было пронзающе-холодно, фонари зыбились в угрюмой предзимней воде. И уже пролетали не то снежинки, не то листья. Голая купальщица уже терялась во мгле, в черном небе над нею, печально вспыхивая, бежали звезды. И опять я услышал паровозный гудок, садкой, саднящей болью отозвавшийся. Ветер был с севера, от вокзала.
А Надию я больше не встречал никогда.
Я все-таки был уволен с завода. Не знаю, как вышло. Скорей, потому – отказался писать копии. Отказал раз секретарю парткома, еще бухгалтеру и еще… То ли просто поступил кадровикам очередной циркуляр. Вызывали в кадры, и другой, незнакомый человек, не Гаренко, того, кажется, сняли за пьянство (много лет спустя я встретил его на улицах синего, опухшего, едва живого), другой человек скучно попросил меня объяснить состав преступления, за который я отбывал срок.
– Антисоветская агитация, – зло ляпнул я.
Неодушевленный этот предмет некоторое время глядел на меня подозрительными, ждущими еще чего-то очками. Глядел он именно очками.
– Но у вас еще и создание антисоветской организации! – дополнил человек-манекен.
– Раз вы знаете, зачем ваш вопрос?
– А вы не горячитесь, – с тихой угрозой, с теми же интонациями, с какими говорят привычные следователи, облеченные той властью, которую даже нельзя назвать абсолютной, потому что она больше, объемнее и ей словно подвластны (так ИМ кажется) не только твоя душа, тело, твоя свобода, настоящее, прошлое и будущее, но и самые скрытые твои мысли. Насладившись этой властью и еще несколько секунд безмолвно всасываясь в меня, очки подали мою новую трудовую книжку.
– Вы уволены по сокращению штата. Занимали свою должность незаконно. Вашей такой профессии не предусмотрено по штатному расписанию.
Мне показалось – я даже обрадовался. «Вот спасибо!» Сам бы еще долго собирался уйти от заваленной плакатами и лозунгами комнаты, от этих «членов Политбюро», остобрыдевших своими властно-вдохновенными ликами. Подгорные, Вороновы, Сусловы, Микояны. Мне и в лагере-то казалось, что они бесчисленны или как-то могут переходить друг в друга. Было как будто три Микояна, не один Берия, куча Ворошиловых, а раньше еще куча сереньких козлобородых старикашек с фамилией Калинин.
«Почему не предупредили даже», – мелькнула мыслишка, но я не высказал ее, а просто забрал трудовую, черкнул роспись в какой-то амбарной книге и молча вышел, чуть крепче нужного брякнув дверью.
«Ладно еще по сокращению. Могли бы и хуже придумать». Прощаться со «старшим художником» не хотелось, но мысль, что у меня там еще куча неистраченных, сэкономленных лефрановских красок и кистей «Рембрандт», заставила вернуться. «Нет, что-что, а краски я вам не подарю!» – подумал почти вслух. Я зашел в мастерскую, растолкал тюбики в плоскую большую сумку, надел ее на шею – сумка на спине, под «телагой», кисти в подкладку, в рукава и, поглядев на ноги мирно дрыхнувшего Сергея Прокопьевича, вышел.
Шмона в проходной я никогда не боялся. Спину они никогда не смотрят. Да если б и смотрели, я, бывший зэк-лагерник, провел бы любых этих шмонявших, куда им было до лагерных вертухаев, чьи руки я десять лет чувствовал на своих боках.
Так без сожаления расстался с безотрадной (кому как!) чудовищной машиной с названием «завод», будто опять вышел из зоны. Всякий раз, выходя через пропахшую табаком и мазанными ватниками проходную, с наслаждением, иначе не скажешь, вдыхал воздух свободы, шел к трамваю с чувством освободившегося. Чувство портила только мысль: «Завтра опять сюда!»
А теперь я был снова – СВОБОДЕН. Так свободен, как, может быть, черная какая-то птица, голубь не голубь, ворона не ворона, летящая в зимнем холодном поднебесье… Что-то такое… Совсем свободное.