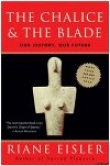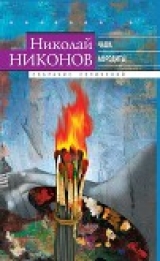
Текст книги "Собрание сочинений в 9 т. Т. 8. Чаша Афродиты"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
Глава VII. ХУДОЖНИК БОЛОТНИКОВ
Моей новой мечтой… Да новой ли? Конечно, нет. Вечной… В подсознании… Было написать «Рождение Венеры». Афродиты. Уж сколько раз и сколько художников брались за это «рождение» и как только ее, Афродиту, не писали! А все – мимо. Никто не достиг. Везде она была не Афродита и не богиня, а женщина, даже баба, как у Кустодиева. Литая плоть и мыльная пена. И лучше бы уж не Венерой назвал… А «Баба в бане». Или «Русская баня»! Все было бы проще, яснее. Я мог бы тоже такую «Венеру» написать. Не хуже, по памяти. Как мылся с Ниной в бане и она предавалась парному разгулу с усердием голодной сельской блудницы. Какая там Венера! Ближе всех к решению был, пожалуй, Боттичелли с Венерой на раковине. Божественное лицо его Афродиты пленяло меня. В нем было уже возвышенное. Взгляд. Кротость лица. Ясность тонов. Но Боттичелли дико повезло с натурщицей. То была его возлюбленная, и, может быть, века надо искать такую, да еще чтоб согласилась позировать, да еще чтобы ангельская эта кротость – красота! Вот он-то нашел, хоть пороху и у него не хватило создать картину! Ушел в аллегорию. Однако, найдя лицо, он явно уже не нашел тело. Вглядитесь в его Венеру – нет тела, нет величайшей его красоты, есть только лицо, голова, взгляд. Я же хотел написать «рождение» именно в самых прекрасных формах. И опять искал, искал, искал! Лицо – его, видимо, проще, – оно находилось. Такую Афродиту я видел в какой-то девушке, явно из провинции, – с подружкой подбирала себе платье в магазине, и подступиться к ним не было никакой возможности. Пока я жадно вглядывался, стараясь точнее уловить лицо, его выражение, пока терся возле, девчонки, принимая меня явно за карманника, засуетились, заспешили, бросили мне злобные взгляды. Куда тут знакомиться?
Еще одну «Афродиту» увидел в девчонке-подростке, что ехала в трамвае. И она, совсем юная Афродита, даже уставилась на мой зовущий, всасывающий, вбирающий ли взгляд, приоткрыла детский влажный розовый ротик. Но при этой бутонной Афродите была гневливая с виду старуха, бабушка скорее, похожая на злую колдунью, и бабушка дернула Афродиту за руку, как бы призывая внучку одуматься, не смотреть в сторону похабного этого мужика. Еще чего! Счас столько насильников! Постыдился бы! ТАК смотреть! У самого внучка, поди! НАХАЛ! О, бабушка, бабушка, старая дура, ты, наверное, очень была права.
А я просто искал Афродиту. Я действительно искал ее всю мою жизнь, а она, Афродита, лишь смеялась надо мной, принимая облики совсем не ангельские и не божественные, являясь более чем в плотском обличье. Надя… Валя… Нина… Тамара… Вера… Кто там еще? Я испортил немало альбомов, картонов, просто бумаги, пытаясь интуитивно ЕЕ найти, будто вычислить. И ничего не удавалось. Чувствовал – не то! Разве что ЛИЦО той девчонки Афродиты все-таки поймал, украл! У старухи ведьмы! И радовался, что удалось сохранить, не расплескав. Но телом ни та девчонка, ни какие бы то ни было другие женщины не подходили для образа. Я хотел создать завораживающее чудо в сочетании лица и тела БОГИНИ. И тело ее должно было быть феноменальным! Сочетанием плоти и надземности, а таким вряд ли обладала женщина вообще. Но почему-то, я думал, обладала. О, сколько я сделал набросков этого ТЕЛА БОГИНИ, его изгибов, округлых форм, его сладкой магнитной мощи, его манящего сладострастия в каждом овале, и все равно чего-то недоставало. А я понимал, не хватало все-таки живой натуры – способной на немыслимое. Я бросал картон, принимался задругой, за следующий – и так до изнеможения, до ватного, пустого отупения, до состояния, когда бы лучше уж застрелиться – было бы из чего, – легкая смерть и художнику открытое освобождение.
Да, Афродита мучила меня не только наяву. Мучила в моих странных цветных снах и в муках моего неудовлетворенного, теперь еще более остро голодающего мужского тела. Сколько этих голодных мук выпало на мою по-лустолетнюю жизнь? Вся без женщины, лишь с краткими вспышками, как бесконечная затяжная гроза, когда за блеснувшей радостной молнией неизбежен отрезвляющий гром, а за ним холодный, леденящий душу ливень тоски и страдания, и тогда одно спасенье – нарыдаться, наплакаться втихомолку от всех и ждать, пока гроза в тебе и в душе утихнет, уйдет на дальние горизонты памяти и там будет уже поблескивать не столь мучительным, что ли, беззвучным дрожанием сполохов и зарниц.
Каждая прожитая мной женщина была такой. И мука невоплощенности наслаивалась и уже сгибала меня. Мне шел пятьдесят четвертый год. Пора художнику уже складывать кисти и жить, коль уже не достигнутой славой – хотя бы каким-то подобием удовлетворенности. Да. Жил-был. Писал. В галереях остался. Где-то еще картины, разбежались по частным собраниям…
Но мои картины не украшали галерей. Их не печатали на цветных вклейках в больших журналах. Знатоки и ценители не удостаивали их своим просвещенным вниманием. На них не строчили хвалебно-восторженные оценки-рецензии вдохновенные критики от искусства. Мои картины сохли, повернутые к стене, и я не знал, когда кончится срок их заключения или грянет расстрельный залп.
В ту зиму после деревни я поседел, как волк-перестарок на втором склоне своего волчьего бытия. Женщиной снова отравился тяжело, долго; но жил по-прежнему и все с мечтой теперь найти девушку, много моложе меня и такую, чтоб была вдохновляющей натурой и чтоб можно было рискнуть на ней жениться. Теперь я уже мечтал об этом, как о несбыточном. Мечтал – красивая молодая жена будет хозяйничать на моей кухне, поить меня чаем, стряпать пирожки, а потом она будет читать или смотреть телевизор, а я буду писать ее прелести, всякий раз наслаждаясь ее присутствием и ее отраженной красотой. Жизнь в целом складывалась вроде бы сносно, есть деньги, не надо метаться в поисках заработка. Но по-прежнему оставался изгоем. Не было и речи о приеме меня в Союз художников, на выставки не то что зональные – на областные и городские – не брали мои картины, и я уже сделал из одной стены моей квартиры хранилище-отсек, куда ставил картоны и холсты – благо еще было их немного. И хотя картину я писал по-прежнему стремительно, обдумывал и готовился дольше некуда. В год получалось два, много три овеществленных замысла. Не главных, второстепенных. Этюды не считал и многие попросту счищал. Зачем плодить количество?
Но квартира моя, устеленная коврами, выглядела солидно. Сам тоже, как говаривали в зонах, «прибарахлился», сменил облик забубённого живописца на более цивилизованный облик «картинщика»-станковиста. И еще, самое-самое-самое главное! Господи! Самое-самое! Я ВСТАВИЛ ЗУБЫ. И опять помог Болотников, с ним мы встретились случаем у поликлиники. И впервые я не обрадовался, а испугался. Болотников брел, как мертвец, исхудалый, пергаментный. Даже веки ввалились, глаза же видели словно уже неизбежное.
– Николай Семенович! Что с вами? – не удержался, бросился.
– Что? Ах? Это ты, Саша? Что… Старость.
– Да какая такая ВАША старость? Вы разболелись?
– А старость, Саша, это и есть болезнь. Души. Сначала всегда души. Потом – тела. Душой я болен давно. И вот – хожу… Лечусь… – он слабо усмехнулся. – Я – лечусь… Ты – лечишься… Он-она-оно – лечится… Мы – лечимся. Вы лечитесь… А они, Саша, – ЛЕЧАТ. Спина болит. Спина. Я теперь, наверное, уже не Болотников, а Спиноза.
Он все пытался шутить.
– А ты?
– А я… Я без зубов.
– Как же это? Боишься?
Помотал головой.
– Ты-ы? Смеш-но..
– Боюсь – и все. Так живу.
– Да ведь это растрата! Из-за этого ты потерял половину своих женщин!
– Если бы половину… Всех!
– Тогда вот что… Немедленно… То есть с завтра (он так сказал: «с завтра!») ты пойдешь к знакомому моему врачу. Это Луговец Владимир Михайлович! Он работает здесь. И ты передашь ему мой привет. А он тебе за неделю сделает зубы. Понял? За неделю. И не вздумай уклоняться, потому что ты подведешь меня, а я Луговцу уже позвонил. Считай, что так.
На мертвенном лице Болотникова родилась та братская улыбка, которую я так любил. Улыбка сильного, мудрого, многознающего, которого и хочешь, да не поставишь рядом с собой. Но в улыбке той не было надменности. Она была словно детская. Так улыбаются только очень умные и очень уверенные в себе дети.
– Ты все понял? Кстати, Луговец – великий любитель женщин. О них он может говорить без конца! Вы найдете общую тему. Ты даже можешь ему что-нибудь подарить. Какое-нибудь «Ню», но – хорошее, гениальное! Денег он не берет. Человек честнейший! И он сделает тебе зубы. И ты пригласишь меня в гости. Я ни разу у тебя не был! Тоже мне друг, ученик! Хочу наконец посмотреть, что ты там напахал. Да. И тебе, может быть, что-то я покажу… В общем, иди к Луговцу. Иди к Луговцу! Узнай, когда принимает и… Без разговоров!
На следующий день меня принял ухмыльчивый, весь какой-то настоянный на улыбках, улыбках снисхождения, как все эскулапы, врач. Он был мал ростом, худ, лыс, но кучерявая шевелюра все-таки обрамляла его желтую лысину. Большой насмешливый нос и крупные губы изобличали в нем сластолюбца. Но я сразу полюбил этого человека. У него были мягкие, добрые, совсем не больно трогавшие меня руки. И врачебные инструменты в этих руках были нестрашные. В кресло я сел под его шуточки-ухмылки спокойно. Даже чтобы я открыл рот, он говорил до смешного просто:
– Окройте! Пошире! Ну, что там? Корни? Ничего. Прекрасно. Удалять не надо. Не беспокоят и не надо. Пусть живут. Я сделаю вам такие зубки. Девчонки бегать будут. Ну-ка, еще окройте! Таки белы зубки – закачаетесь. Самую толстую красавицу захватим.
– Вы любите полных?
– Обо-жаю!
– И я тоже. Даже толстых!
– А что же такое, по-вашему, худая жинка? Таки – суповой набор. Без навара. Ну, я понимаю. На их тоже глаз есть… Но я предпочитаю, чтоб попка была мясная.
– Как же вы с ними обходитесь?
– А что?
– Удается?
– А что женщине нужно? К женщине нужно таки только: ласка и смелость. Смелость вперед. Потом ласка. И все. Это ничего для… Вот я. Вот смотрите. Что? Красавец? Нет. А вы думаете, они меня не любят? Ешчо как любят! Потому что я смелый. Я када лысел – переживал. А потом сказал себе: тьфу! Чего я переживаю? Дурной волос умну голову покинул. И все. Меня любят. И вот вам я зубки сделаю. Отбою не будет. Николай Семенович сказал, что вы в основном женщин пишете?
– Стараюсь.
– И полных?
– Именно их.
– А мне бы показали?
– Я вам подарю один этюд. Толстушку в бане. Если пожелаете.
– Ну, что вы? Вот я напросился…
– Да я вам от души! Вы же меня спасаете! И работаете со мной сверхурочно.
– Ну, толстушку посмотрю! Обожаю. Окройте! Так. Закройте. Еще окройте! Сделаю зубки – никто не догадается, что не ваши!
И, говоря все это, он совал мне в рот вату, какие-то железки, гипс, а я только подчинялся его умелым приказам.
– Все! Закройте. Откройте. Все! Через три дня будут зубки. Примерим. Приходите в ето же время.
Я ушел от Луговца как освещенный солнышком. И дорогой все клял себя: сколько времени потерял, страдал из-за этой своей ужасной беззубости. Да, в общем, при чем тут она? Смелости, смелости у меня не было. Прав Луговец! «Окрыл?» Истину?
Через три дня, и опять без всякой почти боли, мороки, сверлильных пыток, он поднес мне зеркало ко рту.
– Ну? Окройте? Улыбнитесь. Так. Скажите: Мама! Х-хе-хе… Хе… То-то! А боялись. Вы теперь же неотразимы. Нет слов.
Этюд же мой принял как великий дар и так расхвалил, что мне стало не по себе. Я отдал ему один из картонов, где написал по памяти Нину. Мо-ю. Ни-ну. «Мо-ю». Вот так… И вот такие теперь у меня зубы. Я словно стал с ними выше ростом и на десять лет моложе. Какие там пятьдесят с гаком? И сорока теперь никто не даст. Разве что волчья эта, на память о зоне, крутая соль-седина. Седину, говорят, женщины не бракуют. Ничего, проживем. А главное, я могу теперь улыбаться!
И я улыбался! Я был на коне! Улыбался продавщицам в магазине, раздатчицам в кафе, официанткам в столовой. Улыбался по нужде и без нужды. Я просто вновь расцвел душой. Какие там «аморфоны-телергоны» лезли теперь из меня. И заметил, на меня все чаще заглядывали женщины. Я решил играть ва-банк и купил себе норковую шапку, шотландское демисезонное пальто и голландские ботинки. Знай наших! Ведь если красота десять, то девять десятых ее составляет одежда.
Готовясь к приему Болотникова, я накупил полный холодильник снеди, колбас, дорогих консервов, вин, шоколаду, водок-коньяков и даже шампанское, которое отродясь не пил, но и не то что не мог купить, а просто не было повода. Я обнаружил незнакомое мне свойство. Оказывается, я любил покупать и щедро транжирить деньги – тратить весомо, достойно, не оглядываясь. Попробуйте – в этом есть сладость. Улыбаясь, модно одетому, класть на прилавок небрежно крупные, достойные бумажки.
Надо было теперь ехать к Николаю Семеновичу. Хвастать так хвастать! Отправился не раздумывая. Хвастуны всегда думают только о себе. Любят себя.
В знакомом подъезде, с запахом давнего, будто века тут прошли, обустроенного жилья, позвонил у обитой дерматином двери. Никого. Позвонил еще и еще. Досадовал на себя. Нет чтоб предупредить по телефону! Дикая, охламон-ская привычка лезть вот так. А его, видно, и дома… Нет? Из глубины квартиры, однако, голос:
– Сейчас… Сейчас… Подождите!
А еще минут через пять совсем больной голос:
– Кто там? А… Заходи.
Медленно отворилась дверь. Я увидел Болотникова таким, каким не видал никогда: выпитое, ссохлое, желтое лицо, замученный взгляд, ночная рубашка с подвернутыми рукавами, брюки застегнуты кое-как. Тапочки-шлепанцы на ногах.
– Заходи. Разболелся я… Спина.
Он провел меня в уже знакомую то ли гостиную, то ли мастерскую. Ушел ставить чай. Согбенный. Немощный. Как страшно было, было видеть-думать это о не столь давно бодром, медальном, казалось, никому-ничему не подвластном человеке, который был словно бы выше судьбы.
Оставшись один, я окинул комнату снова. Все на месте. И та же пустая, задрапированная ровным холстом стена. Зачем она ему такая? Картину, что ли, собирался – во всю стену, как Рубенс?
Болотников появился с тем же чайником, теми же конфетами и сухим хлебом, нарезанным, однако, аккуратными, культурными ломтиками. Дома я хлеб кроил всегда крупными кусками, отрезая от булки краюхами-«пайкой». Так было вроде привычней, сытей. Болотников достал к чаю засохший сыр и сам усмехнулся.
– Завтрак аристократов..
Да я, Николай Семенович! Не чаи же гонять. Я спасибо сказать, за зубки. Во какие! – улыбнулся во всю пасть. Хорошо-то как! Помолодел… (И стыдно даже стало за свою хвастню.) Я картины еще показать… Собирались… Ко мне?
– Показать… Да.. – со стоном опустился в кресло. – Подыхаю, кажется… Выработан ресурс, и пора в переплавку. Переплавки, Саша, не боюсь. Опять ведь жизнь будет. Ну, другая, иная, а снова маета… Только бы не в России, не при этой власти хотя бы воскреснуть. Родиться.
– Что вы, Николай Семенович, – мямлил я, – не..
– А ничего… Врут эскулапы. И ложь-то ведь даже не во спасение. Никакой это не радикулит, не хондроз! Рачок, Саша, рачок… «Что, доктор, рак у меня? Да?» – «Рачок, – говорит, – ра-чо-ок, дорогой». – «Доктор. А я помру?» – «Обязательно, дорогой, обя-за-тельно». Вот и вся она, медицина. Да и хрен с ней! Боль, Саша, мучает и ноги. И ноги особенно. Слабость такая, будто я пуды ворочаю. Я спать не могу – боль. Знаешь что? Раз чаю не хочешь – выставку мою посмотри. А потом – к тебе. Идет?
– Как же… Вы?? – растерялся я.
– Такси вызовем. Вот телефон – и поедем. Дела?
Про себя я подумал, что олух я и охламон. Но ведь я никогда и не жил на квартире с телефоном? Не привык пользоваться благами цивилизации.
– Ну, ладно. Чаю мы все-таки хлебнем. А ты вот пойди, – указал на укрытую холстом стену, – сбоку там шнуры, видишь? Это блоки – потяни вниз! Иди-иди! – заметив мое недоумение. – Иди!
Я послушно повиновался. Нашел шнуры, потянул. Холст начал накручиваться на палку-гардину, лежавшую на полу. Гардина эта поползла вверх. Холст оказался просто огромной шторой. И когда я вытянул его под потолок, Болотников велел привязать шнур к трубе отопления.
А я запоздало ахнул.
На стене был цикл картин на одну тему: «Женщина». И точнее бы: «Женщина во плоти».
О, какие женщины были тут написаны! Красавицы и блудницы. Монстры и вампирки. Обнявшиеся лесбиянки. Лесбиянки соединяющиеся. Изогнутые и запрокинувшиеся. Женщины в бане с розовыми лосными задами. Женщины на приеме у врача. Женщины над тазом. (Что там Дега!) Женщины в постели. И везде, всюду без мужчин. Мужчин в картинах Болотникова не было.
– Мужчины – это будут зрители моих картин, – уловив мысль, хрипло сказал Николай Семенович.
В центре же этого собрания висело действительно прекрасное полотно.
Девушка совершеннейших форм на богатом, сверкающем атласом ложе предавалась мастурбации. Окруженная рабынями или служанками, каждая из которых была соблазнительна по-своему. Она лежала на спине и рабыни, склонясь, кормили ее грудями, лизали раскинутое лоно и даже мочились в ладони.
– Моя гордость… Это – Мессалина! – пробормотал Болотников. Ошеломленный, я лишь отступил шага на два от этого сонма картин.
То была живопись без меры чувственная, цветущая, запредельная, полыхающая свежими тонами. Живопись во имя Живописи. Краски были свежи и чисты, словно положены вчера. Линии рисунков исполнены виртуозного мастерства. Девять картин, одна другой лучше, свежее, необычнее, – таких не увидишь в музеях-галереях. Нигде. Никогда. НИГДЕ.
Я смотрел. Но радостное ощущение собственной независтливости не покидало меня. Да. Болотников оказался моим предтечей, моим истинным учителем, но все-таки теперь я знал, что превзошел учителя. Мои «женщины» от Нади до «Евы» и Нины были еще выше, еще совершеннее.
– Как? – Болотников словно ожил. Лицо порозовело. Глаза сияли. Обмануться в моем впечатлении было нельзя.
– Могу только поздравить! Картины потрясают. Такую бы выставку – и народ валил валом!
– Да. А меня бы отправили в психушку. И все это объявили порнографией. Так? Так! Я знаю, в Лувре и в других музеях мира немало стоит в запасниках полотен, которые не открыты даже специалистам! О, Саша! Есть еще неведомый никому Тициан, и Веронез, и Босх, и другие, особенно фламандцы-голландцы. Они писали неистовые вакханалии, а мы знаем (да знаем ли?) только классику. Ну, Рубенс, ну, кто там еще, Йордане, может быть, Лотрек. И вот представь я сейчас вакхическое действо, хоть «а-ля Рубенс». Что было бы? Ее к сожжению, и меня – на Соловки! Вот так, дорогой мой! Так. Теперь же выбери себе любую. Да-да! Я тебе дарю любую из них! И подпишу, пока жив. Хочешь – бери «Мессалину». Кстати, с нее, единственной, есть копия, повторение. У директора гостиницы. Когда-то я очень нуждался, а он заплатил щедро. Бери, выбирай. Я обижусь, Саша… Если не возьмешь. Дни мои сочтены. А картины – проданы. Оптом. И я оговорил, что оставлю себе одну. На мой выбор. Бери. Не завтра-послезавтра меня вынесут отсюда. Следом уйдут и картины. Я, Саша, кстати, богатый сегодня. Сто тысяч! Это деньги! Еще какие, небывалые. Истратить уже поздно… Вот так бывает в жизни.
Я слушал его потрясенно. Теперь он распоряжал-ся, как делают это знающие неизбежное.
– Бери «Мессалину»! Чего там? И копия есть у гостинодворца. Или вот этих «розовых». Баня. Какие, Саша, у меня натуры тогда были! Какие натуры! И «Мессалина» тоже! Она же с натуры написана.
– Почему вы написали ее такой молодой? – вырвалось у меня.
– А потому, мой милый, что ты, видимо, представляешь ее старухой! Ей же было, когда Клавдий казнил ее за распутство, всего 24 года!
– Трудно поверить!
– И тем не менее так.
Я взял себе все-таки «розовых». Болотников усмехался. Он словно бы пришел в себя. Пил чай. Мы ждали заказанное такси. А через полчаса уже неслись по вечереющему городу.
– О, Господи! Что это ты, Саша, устроил?! – журил и ругал меня Болотников. – Зачем это? Такой стол! И даже шампанское! Коньяк? Икры не приготовил? И она есть? Ну, Саша. А кстати, ты знаешь, что сказал Гитлер, отведав икры? Он сказал, что продукт этот вкусный, но стоит «греховно дорого»!
Он расхвалил мою квартиру. Ему все понравилось. Но я понимал, откуда идет его щедрость. Эта щедрость хвалы уже была без присущей всем людям зависти. Болотников был просто ВЫШЕ. «И думы мои и дела мои выше дум и дел ваших».
Но когда я стал доставать из шкафов картины, Николай Семенович нашел снова свое верное отношение. Сидя в кресле, он молчал. Я же расставлял картины у стен, на софе, на стульях, на… Слава Господу, картин все-таки было немного. Хотя и больше того, что показал он мне.
Я поставил на обозрение: «Надю», «Красавицу», «Еву», «Лесбиянку», «Мону Лизу-Джоконду», «Блудницу», «Европу» и, подумав, добавил «Женщину в голубых панталонах». Это было все… Картоны и наброски я не расставлял.
Болотников примолк. Он просто вдумчиво смотрел на мои творения. Даже самому предубежденному бросилось бы в глаза, насколько сильно они превосходили только что виденные его полотна – моего учителя. Они тоже сияли, светились, переливались красками, они жили, и женщины на них были живые, соблазняющие, бесстыжие, нежные и плотские.
Я молчал. Молчал и мой учитель. Вот он с трудом встал, подошел к картинам ближе, отступая на шаг-два, обошел их все.
Я следил за его лицом. Оно менялось. Сначала оно выразило почти тяжелую враждебность. (Он тоже был человек, и зависть художника к художнику не могла обойти его, как не обошла бы, уверен, и меня. Зависть художника к художнику.) Но постепенно темно-пасмурное лицо учителя посветлело и, вне моего участия, обрело радостную тональность – насколько ее могло выразить изможденное, истерзанное болезнью лицо.
И наконец, обернувшись ко мне, разжав тонкие бескровные губы, Болотников сказал:
– Ты победил, Саша! Я потрясен тем, что увидел. Да… Ты победил учителя. И еще с каким счетом! И я… Я, Саша, рад этой твоей победе. Было бы гораздо хуже, если б я остался победителем. Это значит – я прожил жизнь зря. Ты знаешь – это меня терзало. Не то, что мои картины не удостоились выставок, ушли в частные руки, что я не пожал славы, что их не видели «массы».. А то, что своей жизнью я не выразил идею, красоту! Не смог, не хватило сил и даже, конечно, таланта. Жизнь в этом удушливом, аммиачном слое, конечно, лишила меня многого. Я бился, как бабочка в морилке, и ничего не мог пробить… А ты – сумел… Твои картины достойны лучших галерей мира! Это я тебе говорю всерьез! Любую из них можно в Третьяковку, в Русский, в Лувр, в «Метрополитен»! И не возьмут только из-за идеологии. Какой союз! Тебе бы мантию академика! О, как я рад! Я поздравляю тебя! И преклоняюсь перед твоим мастерством! Картины твои все равно прошибут стены! Пиши дальше так же! И лучше, если сможешь! Плюй на все запреты! На все каноны! На эту проклятую тюрьму – идеологию. И – давай выпьем! За тебя! За твою жизнь! И за то, чтобы ты пробился! Выпьем! Я, кажется, в последний раз счастлив!
Но сидели мы недолго. Болотников чувствовал себя плохо. Крепился. Я видел боль, стоявшую в его глазах. Воспринимал ее как свою вину. И потому побежал на улицу. Почти тотчас нашел такси (как раз заехало во двор) и так увез учителя домой. Условились, что буду заходить, звонить, проведывать часто.
И я позвонил ему через день.
Незнакомый женский голос спросил, кто я.
– Ученик, – ответил я, почуяв неладное.
– Николая Семеновича уже нет. Вчера вечером он скончался. Похороны послезавтра. Из Союза…
Бытует мнение – одинокого художника некому хоронить. Не так. Толпа у подъезда была, на удивление, велика. Художники – народ согласованный. Их было много. И многие ведь учились у Болотникова. Почти все мне были знакомы и незнакомы одновременно. Не будучи «членом Союза», я не принимал участия во всех их собраниях-заседаниях. А если встречался на «персоналках», на вернисажах и выставках, я был для них просто зритель и, в лучшем случае, какой-то «любитель», умелец.
Я был здесь – художник-невидимка. Ведь я не показывал своих работ. Не пил. Не кумился. Не подвизгивал авторитетам. В число их уже прочно вошли все наши «трутни». Семенов, Лебединский, Борщевский, потерялся только Замошкин. Слышно было, уехал в столицу. Но там засох. Знал меня еще председатель Союза – вот кивнул небрежно. Он видел мою живопись, – это когда я пытался вступить в Союз, – и это было глубокомысленное замечание: «Безнравственно, хотя и мастеровито! Но я не пойму вашей живописи. К чему она зовет?»
Помнится, мы коротко поспорили:
– Но разве живопись, картина вообще обязательно должна куда-то звать?
– Вы задаете школьный вопрос, – важно ответил он. – Живопись без идей – аморальна. Что возбудят в зрителе ваши «НЮ»?
– А что возбуждает, допустим, Ренуар? Модильяни?
– Вы забываете, что они не были мастерами социалистического реализма…
Сейчас этот седой величавый господин в черной бархатной куртке, с крепом на рукаве, руководивший церемонией проводов, лишь едва взглянул.
Я был для него никто. Чудак. Сексуальный маньяк, человек с темным прошлым и почти нахал, который зачем-то лез (пытался влезть!) в руководимую им организацию и в образцово-идейный, показательный мир изобразительного искусства.
И я уходил с кладбища, где осталась свежая могила, тоже один. Все прочие шумно и даже не слишком скорбно грузились в стоявшие два автобуса. Никто не думал приглашать ехать меня. И мне самому не хотелось их общества, водочных поминок и всей этой нужной, ненужной ли дури, которую напридумывал когда-то и кто-то.
Автобусы уехали разжульканной весенней дорогой. Голубой день был опрокинут над березами кладбища. На кладбище пели щеглы.
Я вышел на тракт, где шли потоком в сторону города заплесканные грязью машины, добрался до автобусной остановки и, поглядев в последний раз на уже словно бы едва зеленеющий лес – кладбище сливалось с ним, – подумал, что жизнь художника, как всякого, наверное, одинокого человека, бессмысленна и бесцельна, если работы его не подняты на щит, не растиражированы в олеографиях и на конфетных обложках. Но в том ли опять смысл жизни художника? Подошедший автобус не позволил мне решить этот тяжелый вопрос.