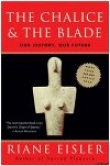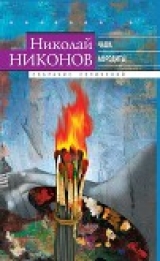
Текст книги "Собрание сочинений в 9 т. Т. 8. Чаша Афродиты"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Глава II. ДОМОЙ
Поезд уже шел. И мест в нем нигде не было. Все межполочное пространство уставлено чемоданами. На них, горбясь, мужики, бабы, девчонки. И показалось, опять я где-то на пересылке – тот же запах, теснота, койки-вагонки. Голову опять обнесло, сел на чьи-то дернувшиеся из-под меня ноги. «Чего? Кто? Сдурел?» – негодующий бабий голос, бабья нога в шерстяном чулке дернула в бок. Удержался. Смотрел по верхам. И – повезло! Заметил одну свободную третью (багажную) полку. Не раздумывая полез. Да, здесь было как в том моем первом лагере в Усть-Ижме, туда попал я сразу на общие – лесоповал, сперва рубщиком сучьев, потом вальщиком. Там и едва не сдох в первую зиму, а к весне доходил до цинги, потерял верхние зубы, но цинга и спасла, списали в зону как доходягу. А многие и остались там, в лесу, их после освидетельствования даже и не закапывали, клали просто в снег, снегом заваливали, иногда на том месте кучу сучьев. Сучья весной сжигали. На Ижме проводил сорок шестой, седьмой и восьмой. В сорок девятом половину зэков из нашего и других здешних лагерей дернули куда-то за Урал. Говорили – «под крышу», на подземные стройки, говорили, приказ самого усатого батьки или БЕРИИ. Берия даже приезжал, месяц лагерь трясли, чистили, красили, а он прошел, низенький, кругом в охране, толстый еврей в пенсне, а говорил с густым кавказским акцентом. После его приезда и сняли всю верхушку лагеря, и я со второй половиной заключенных оказался на строительстве в совсем непонятном месте, в степи. Строили там какой-то секретный город, и опять три года, и снова в этот последний лагерь на лесоповал, в ту же зэковскую, рыдальческую и без стонов даже печаль. Здесь все одним дерьмом мазаны, на слезу еще и пинка дадут: не трави душу, падла! В первом лагере я не знал этого закона и плакал во сне, просыпался от тычка с рычанием: «Ну ты, сосун, закройся! Спать не даешь! Счас сахару дам!» И в рожу комок изморози. На потолке, на окнах ее густо было. Надышали. Намерзло.
Отрезвление такое действовало лучше уговоров и жалости, у волков по-волчьи. А я часто думал: какие здесь люди и люди ли? А может, правда, волки, клопы? На Усть-Ижме были не одни «политики», много и воров. Воры держали в лагере «масть». Везде, во всем! Считалось, они надежнее «политиков», и сами воры это везде подчеркивали, конечно, «для понта». Воры были на должностях: в столовой, в хлеборезке, в зэковской администрации, сплошь воры старшие по баракам, нарядчики и на теплых местах. Таких, как я, «малолеток», да еще «политиков», сплошь «протыкали», заставляли «играть в девку». Слабых ломали начисто. Сильных, кто умел за себя постоять, когда как. Меня спасла барачная моя юность, привычка не уступать никому, кулак был крепкий, но и меня бы сломали на Ижме, не брякни я как-то, что, мол, художник, и меня взял под свою опеку главвор – здоровенный мужик с лицом белым и круглым, как луна, и похожим на эту луну в полнолуние, с виду совсем не страшный, улыбчивый. Вора в нем выдавал только говор шепелявый, блатной, да еще, пожалуй, взгляд, иногда туманно рассеянный, в себя уходящий. У главвора и клички не было. Звали по имени-отчеству Денис Петрович или по фамилии – Конюков. Сидел уже третью пятерку, конца срока не ждал. Но главвор был единственный, кто не менял «прописки». Других зэков год-два – и перегоняли в иные лагеря. Главвора не трогали, пришел он сюда с Магадана, а то, говорили, и вообще из тех мест, откуда не возвращаются. Шел слух, на севере есть подземные зоны и лагеря, где и охрана живет как зэки, а зэков, тех и на поверхность не выводят, так «крытые» и маются, пока не дойдут и сдохнут. Главвор это все, кажется, знал, был в таком авторитете – и надзиратели обходили, а слово его было закон не только в нашем лагере.
Поезд шел. Тряслась моя койка-полка, что-то брякало непрерывно и нудно. А я, лежа, разглядывал теперь потолок. Вагон был старый, много раз его снова красили. Краска лупилась. И почему-то это меня занимало. А колеса стучали: домой, до-мой, до-мой, до-мой. И все никак не верилось… Вдруг сон? Сколько раз просыпался я так в зоне, свободный и радостный… Лучше не вспоминать. Еще представлялось: еду не в ту сторону, а назад. Обратно… Может быть, бредил наяву. И все вспоминалось недавнее и давнее. Переволновался? Перетрясся? Будто штормило даже.
– Канай сюда, ты, худоз-ник! – главвор манил меня, как мясник барана, со странной своей жутковато-доброй улыбкой. Он почти всегда так улыбался. А я знал, что с такой улыбкой будет он смотреть, как меня или кого другого станут бить долго, беспощадно. Захотят – инвалидом сделают, захотят и «замочат». И с улыбкой, но другой – улыбкой кота, увидевшего забежавшую в угол беспомощную мышь, скалился на меня сидевший поблизости от главвора «Витюха» – правая его рука, а иначе еще «Кырмыр». Кыр-мыр был явным садистом с детства и только ждал, когда ему покажут – кого..
– Худозник ты зна-сит? – переспросил Конюков, – А бабу мне нарисовать мо-зес? Нну, хо-росую Маньку, стоб с зопой была, с цыпками в-во! Стоб поглядел – сразу вставал, как Ванька? А? Мозес?
– Бумаги нет… Карандашей, – помнится, промямлил я.
– Бумаги? Вся дела? – осклабился он щербатой лаской. – Ну, это тебе ссяс будет. Кыр! Сказы там: бумагу стоб ххаросую и это, чернило… Нет… Карандасы стоб. Краски там… Понял? А ты смотри… Стоб баба была вво! На больсой. Толстую рисуй! Тоссие на х… не нузны. Канай до весера – весером показес.
Кричали строиться.
А вечером два зэка принесли из КВЧ лист рисовальной хорошей бумаги и карандаши, простой и черный. Главвор на своей отдельной койке в углу пил чифирь, поглядывал с улыбкой, грозил пальцем. Выхода у меня не было, и решил, после ужина нарисую, как смогу. Художником я себя обозвал, конечно, сдуру – какой художник? – всего полтора года ходил в студию во Дворец пионеров, рисовал, конечно, и сам, сколько помню себя, да ведь ему-то надо необычное, и женщин в детстве я рисовал тайком. Отец не одобрял, а когда находил, молча рвал мои рисунки. Кого я нарисую? Венеру, что ли? Так она не толстая. Помню, в кружке листал какой-то альбом, и там были сплошь толстые розовые женщины-купчихи. Какой художник – забыл. И как рисовать по памяти? Ничего путного не будет. Весь день и за ужином ломал голову. И вот укрепил лист на боку тумбочки, наклонил ее к подоконнику, задумался. Прикидывал контур будущей женщины. Рука тряслась. И вдруг вспомнил! В улице нашей жила несколько похожая на Венеру – но чудовищной полноты женщина. Она к тому же еще и ходила беременная, круглая из-за своего живота, с развратно отставленным крутым в ягодицах задом. Все платья ей были тесны, юбки она носила тоже коротенькие, открывающие полные, отличной стати ноги, над коленями будто перетянутые розовыми резинками. Помнил, как мечталось увидеть ее голую! Хоть бы как-нибудь подсмотреть… А случай всегда идет к жаждущему, пришел он и ко мне, когда в пеклый, жарым-жара, июньский день я плелся улицей мимо усадьбы Хозиновых (такая была у них фамилия) и по мальчишеской привычке везде совать нос заглянул в щель высокого неплотного забора. Что увидел, опешило. За изгородью была картошка, и эта самая Хозинова окучивала ее в одних рейтузах – так называли тогда женские панталоны. Застиранные до блеклой голубизны штаны были на ее огромном заду неудержимо-тянуще-прекрасны, так обтягивали-облегали ее бедра, врезались валиком над припухлой мякотью колен. Вот откуда у нее полоски! Она была босая, на голове белый платок и в перетянувшем нежную спину белом лифчике, который на моих глазах, когда она наклонилась с тяпкой, вдруг лопнул на ней, или отскочила пуговица, раскрылся, и огромная грудь с розовым толстым соском выползла из-под него, повисла, как чудовищный молочно-белый плод. Я видел все это, видел даже сейчас, вспоминая, как баба, досадливо оглядываясь, заталкивала свои словно бы резиновые груди в чашки бюстгальтера, пыталась его застегнуть, соединить, а груди не слушались ее, вылезали обратно. Умаянная, должно быть, борьбой с ними, жарой отвесного солнца, она вдруг еще раз оглянулась и, потянув панталоны с крутого огромного зада, открыв его, весь невероятно белый, круглый, ослепительный, присела прямо в картошку, в недоокученную борозду и посидела так недолго, а казалось, вечность, потом медленно встала, медленно подтянула штаны, прежде зачем-то глянув в них, бросила тяпку и, выпятив живот, перекатывая огромные булки ягодиц, пошла из огорода. Потрясенный, с пересохшим ртом, я глядел на эти ее полушария под рейтузами, на то, как они содрогаются в такт и не в такт ее шагам, на простую белую косынку-платок, повязанную низко на лоб, и будто на самые глаза. Может быть, с того случая и на всю жизнь я влюбился в полных, пышных, круглобедрых женщин, и они мучили меня в отроческих снах и наяву и только в лагере снились-вспоминались не часто.
«Нарисую ему эту бабу!» – подумал и потому, что самому вроде хотелось нарисовать. Как видел, так и нарисую, в штанах и с расстегнутым лифчиком.
Рисовать поначалу было трудно, безотрадно: лезли смотреть, кто-то уже гыкал, ржал, кто-то спрашивал. Я заорал, что так не могу, мешают, и главвор, все чаевничавший на своей койке, рявкнул: «Не месать ему! Ссяс по крыше дам! А ты рисуй! На больсой делай. Пайку двойную полусис..»
И на одеяло мне действительно принесли-сунули двойную хлебную пайку. И может, потому и закончил я рисунок в аккурат до отбоя. Даже не знаю, как мне это удалось. Я рисовал стремительно, тушевал тени, легко находил все изгибы ее тела, когда она досадливо подхватывала выползающую грудь, нашел все, вплоть до мягких складок у оборок резинок ее штанов, – все нашел и все успел к отбою. Может, это и было вдохновение, подтвержденное двумя кусками хлеба на койке-вагонке?
– Нну… Показывай! – главвор манил меня пальцем, улыбался, полулежа на койке. – Пасмотрим, сто ты за ху-дозник!
Я подал лист.
– Ты сто-о? Я зе тебе голую велел! Го-лую! – начал было он со своим прищепетом и тут же осекся. – Стой!.. Стой! А сто? А? Мозет… Слусай суда… Слусай! Так дазе, позалуй, лутсе. Тось-но! Лутсе в станах! А титька-то как вылезла! Мля… Тосьно! Лутсе так! Смотрится. Я этих бабьих станов узе век не нюхал! Ах ты ссука, мля! Вот угодил! На такую дросить хосется! Ну, верно, худозник ты! Слусай сюда… А ты картоську мою, ну, партрет, сто ли, тоже смозес? Стоб в письме на волю послать? Мля будес? Тогда завтра, мля, рисуй! За зону не пойдес. Отмазем. Я сделаю, здесь останесся. А за эту бабу на тебе ессе двойную. Двойняк! Сало вот, бери. Бери-бери. Такую бабу на стену весай! Картоську мою похозе сделаес – тебя здесь пальсиком никто не тронет. Поняли, бля?! Худозник он. А литузы-то! Ли-тузы! А зо-па! Все в поряде! В правиле! Удру-зыл!
Из-за этой «бабы» я и остался сначала без вывода в производственную зону, на лесоповал, остался не битый, не «проткнутый», потом даже был поселен в отдельной «кабине» с еще одним старым совсем художником Самуилом Яковлевичем. О том особый сказ. Строгая и страшная защита главвора распространилась на меня словно бы на весь срок и даже на все мои пересылки-лагеря, почта у зэков работает лучше государственной. Зато карточки и баб приходилось рисовать без счета – был сыт и, можно сказать, почти «в законе». Никто не трогал меня – редкая в лагерях удача, народ потому что дурной, грозный, жученый и отвести душу на слабаках, малолетках, доходягах было всласть. Один Кырмыр только косил на меня зеленым волчьим глазом, но и я потихоньку свирепел, набирался той лагерной отваги, какой и не может быть у свободных и которая копится в тебе и всегда может взорваться – а тогда: «Держите меня!!» В зоне, хочешь не хочешь, научишься совать в морду, дать пинка, извернуться как бес, отмахнуться-доказать, что не лох, умение приходит само собой, как въедается по-тихой блатной жаргон, способ хлестнуть острым словом, держать «масть», пригрозить взглядом.
Вскоре передо мной и бывалые зэки «шестерили» – добывали бумагу, карандаши, краски. Научился делать рисовальный уголь – обмазывал глиной березовые прутики, томил в костре, получался звонкий крепкий уголек. Рисунки стали куда фактурное. Правда, надо было их закреплять. Чем? Где взять в зоне фиксатив? Можно водой с сахарным песком, молоком снятым – а где оно? Выход и тут нашелся, зэки народ талантливый, и только объявил свою маету, средство враз нашлось. Распылитель сперли у парикмахеров в вошебойке, а фиксативом стал березовый сок. Сок этот для всех спасение. Ждали его. Мечтали вслух. К весне все не все, а многие начинали потихоньку доходить – авитаминоз, пухли десны, шатались зубы. Чтоб не оцинговать, самые опытные зэки на лесоповале всегда жевали хвою, парили в жестянках тошную хвойную жидкость. Летом было проще, летом черемша, саранки; летом когда найдешь ягоды, а то и грибы. Сок же пили весной, пытались заготавливать, кипятить. Им я закреплял рисованные углем «карточки» и «баб», брали их нарасхват, с уговором «не закладывать!» если что, и конечно, «заложили».
Как-то перед разводом дневальный по бараку, хромой блатыга, объявил:
– Ке 315! К оперу!
Мой номер. Никогда не забуду. Хотя звали в зоне и Александром, и Сашкой, и по фамилии моей Рассохин. И просто, потом уже, «художник» – так чаще всего.
«Опер», а он же «кум», чернявый, худощекий, и в глазах одна злоба, капитан хохол Бондаренко. В капитанах давно, погоны замусолены, оттого, наверное, и злой. Боялись Бондаренко хуже начальника лагеря, подполковника. Любил, чтоб зэки перед ним тряслись, сучились, стучали и стукачей вербовали ему. А я-то зачем? Шел в штабной барак в великой тревоге. Этот зря не вызовет. Вдруг срок напаяют или ломать будет, чтоб стучал или что… Управы на него нет… И не отпросишься..
В штабном Бондаренко не оказалось. Зэк-дежурный послал меня в КВЧ, культурно-воспитательную часть – она же барак клубный, где показывали по праздникам кино и зэковскую самодеятельность. Бондаренко расхаживал вдоль стены с лозунгами. На приветствие мое что-то буркнул, уставился как бы сверху вниз, хоть я был выше его, заморыша, на целую голову. Позднее видал я фотографии Ежова – на него точь-в-точь был похож опер.
– Ну что, по-ли-тик? Карточки, говорят, там малюешь? Э? Ггэвэри правду! Малюешь?
Молчал я, прикидывал в лихорадке – кто продал? Да толку-то? И отказываться как? Заложили, конечно, сук у нас много, теперь не отпросишься. Влип. Срок, как пить дать, добавят…
А капитан, глядя уже как сквозь винтовочный прицел (учат, что ли, их так глядеть?), втыкая в меня свой странный прищур, гаркнул:
– А кы-то ттебе пазволил? Ты раз-ре-шенье на свое ма-люванье получив? Э? Ты в мене в кондее схнить хочешь? Парнуху малюешь? Жопы? Баб холых?
И вдруг, усмехнувшись волчьей желто-черной улыбкой, сменил тон.
– Тря-сешься? Лад-но. Я все знаю… Видел твое малюва-нье… Художник. Не затем тебя вызвал. Пощажу., пока. Вот что… Два портрета надо сделать в кабинет начальника. Товарища СТАЛИНА и., товарища БЕРИЯ! – Опер поднял палец, как бы грозя. – ПОНЯЛ? МОЖЕШЬ? Намалювать?
Потрясенно молчал.
– Шо мовчишь?! – переспросил Бондаренко, уже суровясь и опять втыкая в меня глаз-прицел.
– Если бы с фотографии.
– Откуда ж! То конечно.
– Тогда смогу. Попробую.
– Тебе «попробую»! Смочь надо, и харно! С повала тебя на неделю снимаю и пайку добавлю.
– За неделю не успеть, гражданин начальник.
– Та шо тебе? Две недели?
– Чтоб хорошо было… Надо.
– Получишь. Тильки шоб в мене было як… Плохо намалюешь, на стильки же суток в бур… Харно – с повала сниму, переведу художником. А то жид этий не тянет, падла… Иструх.
В лагере был художник. Самуил Яковлевич. Сидел, говорили, уже несчетно, третью десятку. Изредка я его видел. На тощих, болтающихся ногах выходил он к утреннему шмону писать номера на зэковских бушлатах или тащился в КВЧ, согнутый, мефистофельный, уставив тощую, клинышком, бороденку, и словно бы совсем не живой, а так – заведенный и двигающийся.
– Идти можешь, – отпустил Бондаренко. – Краски, кисти, ну, все там, шо надо, у начклуба получишь. Ще понадобится – обратишься. Нносмат-рии!
Это было уже что-то вроде радости. Две недели без вывода на лесоповал! Без увязания в мокром болотном лесу! Без комаров! Без вечного страха перед падающими деревьями. Не своими – своих тоже надо беречься. Давило чаще, калечило зэков чужими соснами-березами. Не поберегся – и обязательно тебя накроют. И сколько зэка погибло на повале, никто не счел. Валить дерево – это еще не вся зэковская мука, спилить спилишь, а оно хлоп вершиной в другие дерева и засело. Вот она где начинается, мука – вытащить на пупах засевший в мох, в корни, в кочки, зимой в снег, комель дерева, оттянуть, а потом толкать, чтоб расцепилось, легло, да еще не поддело тебя этим комлем. И то еще не вся любовь. Самая тяжкая на Ижме работа была на бревнотаске, когда спиленное, осучкованное дерево на лямках вытягивали к лежневкам, а там без кранов грузили на покатях, и то же в войну и после сколько, без тракторов, паром пердячим, с надсадой, наживая вечную грыжу и паховую страшную килу. У иных на бревнотаске гужами мясо на плечах проедало до костей, таким путь чаще был за проволоку, в ямы. Вот и поймите мою радость. Неужто две недели не стану я видеть хотя бы сыромятную рожу десятника Семерякова, неужели почти полмесяца без надсады, матюгов, без всей этой губящей душу муки?
На повале одно хорошее время для зэков – осень. Август, сентябрь, да еще если сухо стоит, жара не донимает, гнуса нет. Ягоды, грибы осенью лучше, чем летом. Летом главная беда мошка и комар, весной сырость и вода, зимой мороз – самое лютое время. Короткий день, а рубим и в полутьме. Зимой и пайка голоднее, а та же самая, без прибавки. Обморозился – сам лечись. Мороженый в больничку не рассчитывай. Считается как самовредительство. Однажды я так обморозил ноги, раздуло до синевы, думал, отвалятся пальцы. Бывалые зэки подсказали. Моча. Ей лечись. Лекарство у зэка всегда с собой. Моча и от горла, и от суставов, и руку ссадил – обоссал и дальше. Заживет.
Тогда шел еще второй год моего срока. Срока-то их, в общем, лучше не считать… Не расстраиваться. И бесполезно было: «за политику» захотят – сунут тебе новую десятку– «червонец». Пятьдесят восьмой и амнистий не полагалось. Пятьдесят восьмая, если не повезет, бессрочная, начало есть – конец и сам Бог, наверное, не знает.
А началась пятьдесят восьмая еще в школе сразу после войны. Ребята из девятых (десятого в сорок пятом в мужских школах не было, вместо десятого – фронт) создали партию Демократической России. ПДР! Вдохновителем и организатором партии в школе был беленький, странный лицом, как стеариновая маска Белинского, Коля Хмелевский. Недоступный, недосягаемый, загадочный во всем, даже в своей взрослой любви к старшей крупнотелой студентке Инне. Инну я знал еще по прежней своей школе, до войны, когда учились вместе с девочками. Я был в пятом, она – в девятом. Потом Инна продолжала меня мучить по памяти и при случайных встречах своими могучими, тянущими формами и самодовольным холодом совсем женского белого лица – лица Богини. Но все говорили, что она любила Колю, низенького и некрасивого, и любила «по-настоящему». Родители Инны были, слышно, геологи, где-то все кочевали по северам и вос-токам, а она жила одна в громадной барской квартире, в том же доме, что и Коля, на углу вокзального проспекта. Впрочем, говорили, что с Инной живет еще бабушка, глухая, сутулая старуха.
Коля был идейный вождь партии. Он написал ее программу и устав. Клятву вступающего. Когда читал ее своим глуховатым голосом (собирались для конспирации у нас в бараке, когда отца-матери не было дома), я глядел на его бело-бледное лицо, похожее еще отчасти и на лицо Радищева, и думал – вот прирожденный герой, «декабрист», не чета мне, ничего не знающему, не умеющему так складно, взросло составить хоть какую бумагу, документ. Вспомнил, мне было хорошо и страшно. Страшно – и хорошо. Нас пятеро. Мы члены тайной организации. ПАРТИИ! – которая, может быть, скоро станет огромной, могучей. Мы сделаем Россию счастливой, умной страной, свободной и демократической. Коля намекал, что организации ПДР есть уже по всей стране, во всех школах, даже у суворовцев, у «спецов» – в военной школе будущих летчиков. В нашу пятерку кроме Хмелевского и меня входили Вова Киселев, Вася Клячин и Гена Бурец из девятого «Б». Вовочка Киселев, домашненький мальчик, больной эпилепсией, был у нас «переводчиком» – свободно говорил по-немецки, мог и по-английски – задача будущая – связь партии с зарубежными странами. Гена Бурец – радист, потому что запросто мог смастерить любой приемник, хоть пятиламповый, хоть десятиламповый. Бурец знал «морзянку». Коля определил его, как будущего связного ячеек партии. Коля не доверял никакой другой связи. Вася Клячин был «боевик». Странное и раннее подобие мужика-смерда, худой, косторукий, с рябым лицом простейшего типа, имевшем в себе и верно что-то от крестьянских извозных клячонок. Немногословный, сильный, какой-то терпеливо-портяночный. Коля внушал, что партия сразу должна иметь свои боевые отряды и туда по одному, по два войдут боевики из каждой пятерки. Мне, как ходившему в студию Дворца пионеров и вечному школьному оформителю праздничных газет, и в партии отводилась роль художника и печатника: писать плакаты, оформлять воззвания, множить листовки на гектографе – конструировал и усовершенствовал его сам Коля, но что-то все у него не получалось. Игра? Дети? Да. Господи! Игра. Вместо партбилетов, на случай обыска и для конспирации, жестяные бирки. У меня номер 306! Коля утверждал, что номер не порядковый, а шифровой, порядковых больше.
Летом сорок пятого я кончил седьмой и сдал экзамены в художественное училище. Получил задание от Коли организовать в училище первую пятерку. Начал приглядываться к ребятам. С кем-то поговорил. Кого-то уже видел готовым к вступлению в партию. А в апреле сорок шестого, как раз накануне Первого мая, меня и Киселева арестовали на почтамте, туда мы ходили разбрасывать листовки. Ротозей Вовочка не успел даже предупредить, а продал всех Гена Бурец, продал подло, сознательно, как Павлик Морозов. Сходил в приемную МГБ и сообщил о «готовящейся акции». Нас взяли с поличным. А Коля оказался прав и не прав: рыжего Гену он проморгал. Мне дали десять лет. Вовочке – семь. Васе Клячину – столько же. Хмелевского не взяли. Закрывшись в своей комнате, он расстрелял всю обойму, последнюю пулю себе. Где оказались Клячин и Киселев, я не знал, живы ли – тоже. Гена Бурец спокойно закончил политехнический. А я теперь возвращался. Я не был даже реабилитирован, ведь боролся не против Сталина, против «советской власти», и боролся сознательно, и возвращался после отбытия.
Хитрый ли, ласковый ли (надо, чтоб был ласковый) прищур-прижмур глаз. Добрые усы, казалось, под ними одна только добрая улыбка, а не гнилые, сплошь замененные на пластмассу зубы, и лицо это желто-темное, корявое-сыромятное в прозелени прокуренных, пропитанных, впечатанных прожитыми злодействами лет. Где мне все это было знать?! Доброе лицо великого, именем которого я посажен без всяких скидок на молодость, глупость, простой юношеский этот максимализм, как выразился бы ныне какой-нибудь премудрый защитник. Рисую лицо вождя, пока углем. Закреплю рисунок настоящим фиксативом, потом буду прокладывать красками в полтона. Еще дальше – основная прописка. Иосиф Виссарионович, может быть, самая загадочная личность двадцатого века, явившаяся из века девятнадцатого! Что ты знал обо мне? О миллионах таких же мошек? Ты, великий, величайший, мудрый и мудрейший отец народов, величайший полководец, гениальный зодчий грядущего КОММУНИЗМА – золоченого миража, обозначенного лукавыми слугами Сатаны для сонма легковерных и запуганных, старательных и забитых рабов! А может, так оно и лучше: стройте, муравьи, Вавилонскую кучу, тяните к небу, пока она сама собой не рухнет, погребая вас под своими обломками. Может, так и надо? И легче трудиться, и проще подыхать (отдадим все свои силы, а если понадобится, и жизнь за великое дело Ленина-Сталина – расхожая фраза всех газет), легче подыхать, надорвавшись где-нибудь на бревнотаске, в шахте, в камере, как какой-нибудь бывший «вождь», герой и «рыцарь революции», озаренно думая: «Я внес свою лепту в торжество ЗАРИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – ЭХ ТЫ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО! – и надежда на твою благодарную память. Эх ты, ЗАРЯ, сколько раз волхвы и чародеи зажигали ее перед жаждущими! Ад и рай заповедовали нам, ад и рай устроить пытались на Земле великие вожди, учителя и продолжатели самонадеянных мудрецов, просиживавших штаны в парижских и лондонских библиотеках, проедавших без совести не ими заработанные марки, фунты и рубли.
Великий вождь, обративший меня в рабство за отступничество и желание думать дальше позволенного, давал теперь своему ничтожному рабу неделю отдыха от устроенного им ада. Может быть, эта благодарная мысль и двигала мою руку, и, когда я закончил портрет, Сталин был написан не хуже, чем на цветной вырезке из «ОГОНЬКА», врученной мне капитаном Бондаренко, и высочайше одобрен.
– Художник, оказывается, ты, триста пятнадцатый… Ну ладно… Второй портрет малюй. Фарбы, краски этий, мабудь, надо щче?
Второй портрет лысого злодея-интеллигента в пенсне писал я уже совсем уверенно. Лаврентий Павлович, кажется, вы освобождали меня не только еще на неделю, а может, и совсем от этих «общих» на лесоповале. И хоть тянуло исказить твою подлую рожу, жирную, залихватски-грозно глядевшую с открытки, решил, что надо уж сыграть до конца. Пусть опер порадуется, может, лишний раз не будет вязаться. Точно к сроку, на день даже пораньше, сдал заказ высокому начальству – низенькому плюгавому гаденышу.
– Ну, што ж, считать будем, шо справився. Харно намалював. С повала тебя снимаю, будешь при КВЧ. Малювать шо дадуть. Но споткнешься – подымать не стану, бачишь? Жить будешь, хде этий жид, в кабине при седьмом бараке. Пайку – по первой. Иди! Та смотри в мене!
– Благодарю, гражданин начальник.
– То-то… А жопы больше шоб не малювать!
Итак я стал живописцем, им же, на легком хлебе, коль есть такой в зонах, и кончал свой лагерный срок.
Художник Самуил Яковлевич был в зонах еще с тридцать седьмого. Москвич по рождению, он постоянно вспоминал об этом. Был знаком с многими знаменитыми художниками, учился чуть ли не с Герасимовым, официальным живописцем вождя. Самуил Яковлевич был бессрочник, проходил по той же пятьдесят восьмой, да еще ему добавляли за всякие там «уклоны», за «буржуазный формализм». А он, будто помешанный, прославлял все какого-то Фалька, художника Виральта, говорил, что Сальвадор Дали – гений. Из всех имен, какие он постоянно перечислял мне, я знал-слыхал только Ренуара да еще Пикассо. Знал, что они импрессионисты, «формалисты», никаких работ Пикассо не видал даже в репродукциях. Сам же старик рисовал, на мой взгляд, плохо, ужасно, все с какими-то вывертами, изломами, постоянно нарушая перспективу. Но главное качество, которого у него никак нельзя было от-нить, – он прекрасно знал, наизусть помнил все поучения и заветы великих художников и как-то незаметно сделался моим учителем. Это была какая-то ходячая энциклопедия, «ходячая» в полном смысле. Расхаживая по нашей маленькой комнатушке-кабине – два топчана, две тумбочки и стол – мы привилегированные зэки – от стола до двери, он говорил:
– Слушайте мене, Саша! Техника и медленная, обдуманная работа – это, конечно, не взрыв вдохновения. Взрыв прекрасен, но его можно подготовить только техникой, как говорил Роден, «надо пройти искус».
Самуил Яковлевич почему-то сразу и навсегда звал меня только на «Вы».
– Вы знаете, Саша, что говорил Поленов? А что говорил Поленов? Он говорил: «Нужно предварительно все выяснить: пропорции, цветовые отношения, свет и тени – и только после етого приступать к живописи». А затем, когда (он говорил «када») начнете работать красками, вы все время внушайте себе, что ето уже будет ваша лучая вещь, что вы напишете ее луче, чем ваши товаришчи. Настройтесь так, тогда и начинайте.
Вот вы, Саша, никогда не слыхали такого художника – Вламинк? Вламинк, таки я скажу вам, ето был великий художник, к сожалению, не столь известный, как его товарищи, ранние импрессионисты, и те, что были после них. Так вот, етот Вламинк написал мало картин, но еще более был известен как теоретик, и он уже говорил:
«Каков человек – такова и его живопись. Я в ето верю больше, чем когда-нибудь. Характер человека легче разгадать по его живописи, чем по линиям его руки. Происхождение, среда, влияние, здоровье, болезни, душевное равновесие, пороки, наследственность, благородство, величие духа – все отражается в живописи. Если бы когда-нибудь мне (ето Вламинк!) пришлось быть судьей, я выносил бы приговоры людям на основании их живописных работ. И я никогда не сделал бы ни одной судебной ошибки». Вот так, Саша. И надо всегда стремиться быть не кем-то, а самим собой. Етот же Вламинк говорил, что если я рисую в духе Энгра, я тогда рисую не Вламинков, а копии Энгров, и я не нахожусь в согласии с самим собою, и значит, тогдая не правдив».
Если я не стал живописцем, то живопись все равно меня многому научила.
Самуил Яковлевич считал себя конченым человеком и в самом деле уже доходил от туберкулеза. Кашлял ночами, плевался кровью. На воле его, слышно, никто не ждал. Он не успел обзавестись семьей. И странно, стоически нес свое заключение, поражал способностью ни о чем не волноваться, ничего не ждать.
– Саша! Я пришел к выводу, что жизнь бесполезна. Да. Я живу в етом измерении всего лишь по приговору судьбы, а дальше, после того, как помру, опять будет новая и более интересная жизнь. Здесь я все могу, могу рисовать, могу размышлять, здесь меня все-таки кормят, женшчина-ми я никогда не интересовался. Женшчины вообще обман, блеф, в лучшем случае – машина воспроизводства жизни. Если б я жил на воле, вряд ли бы я что-нибудь добился, мои абстракции при социализме никому не нужны, а уехать за рубеж, как Василий Кандинский, или Гончарова, или Малявин, я бы не смог. Вот почему, Саша, я не грушчу и отказываюсь писать портреты Сталина и Берии. Вы их написали, и правильно сделали, у вас есть теперь возможность рисовать, у вас, Саша, есть будушчее и перспектива. У меня же ничего нет. И лучше я буду писать номера на бушлатах и жить в себе.
Меня он заставлял рисовать ежедневно, ставил всевозможные натюрморты из подручных наших предметов: шапка-зэковка, кружка, ложка, облизанная до голодного блеска, или луковица из посылки, кубик сахара, пайка, прежде чем ее съесть. Сколько я перерисовал этих «паек», а Самуил Яковлевич все ставил мне устные жесткие оценки. «Ну, сегодня вы, Саша, уже на два с плюсом. Не моршчитесь, ну, на три, но с двумя минусами! Таки что это за штрих? Где рука? Где уверенность? Где глаз – я вас спрашиваю! Или вы уже выпили где-то водку? Ето пьяная живопись, тьфу, пьяный рисунок. Мазня! И в тушевке надо показывать руку! Запомните, уверенность, даже самоуверенность, и как бы наглость, есть основа мастерства, и вы, Саша, должны были нарисовать мне здесь не эту хлебную пайку, а голод, Саша, ГО-ЛОД! Вот тогдая поставил бы вам четверку. А на пятерку, Саша, писали и рисовали лишь величайшие! Да, ВЕЛИЧАЙШИЕ, и то НЕ ВСЕ!»