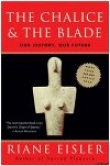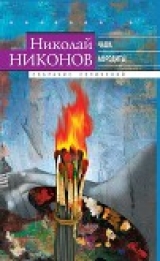
Текст книги "Собрание сочинений в 9 т. Т. 8. Чаша Афродиты"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
Глава IV. УЧЕНИК ЭНГРА
Снова на первом курсе художественного училища. Раньше оно еще называлось совсем пышно: «ваяния и зодчества»! Отсюда меня «взяли», сюда снова прибыл. Зачем-то мне стало нужным вернуться, хотя думал, лагерная школа рисунка и живописи уже заменяла мне целую академию. И какие были «учителя»: главвор Канюков, «кум» Бондаренко, Самуил Яковлевич! «Академия имени Сталина». И все-таки я собрался учиться всерьез. «Художником без школы вы, Саша, можете быть только подмастерьем! Ничво серьезного в таком случае уже не получится! Даже великий Рубенс долго был учеником, учился у итальянцев, Ренуара напрасно считают самоучкой, он держал экзамен в академию, а учился, пусть недолго, у Глейра. А етот Глейр таки ешчо третировал его! Но гению и не нужна длительная работа в чужой мастерской. Ето для бездарей. Гению нужны основы школы, а дальше он учится сам, всю жизнь. Великий Энгр за недолго до смерти копировал картины старых мастеров. Когда же его спросили: «Зачем ВАМ ето?» – таки он ответил: «Чтобы учиться!» Вот так, Саша. Основы художественной грамоты непременны, вы не пытайтесь ето отрицать!» И я не пытался отрицать. Сколь ни схожими с оригиналами были мои «карточки» зэков, сколь ни соблазнительны ягодицы моих воображаемых моделей и грозны лики членов Политбюро, я чувствовал необходимость какой-то ясной теории и практики рисунка, а живописи особенно – такую могло дать лишь серьезное училище, мастер, УЧИТЕЛЬ.
Художественное училище было теперь на новом месте. Из старого, еще дореволюционного здания его без пощады вытеснил сельхозинститут с кукурузой – шла всеобщая хрущевская мания с делением обкомов, совнархозами, ветвистой пшеницей, целиной, развесистой клюквой, интернатами для всех детей и обещанием коммунизма через двадцать лет. Училище «живописи и ваяния» ютилось теперь на верхних складских этажах филармонии, пыльных, темных, век не ремонтированных.
В тесных классах с мелкими антресольными окнами потолки оскаливали желтую, иссохшую дрань. В коридорах с тусклыми лампочками висели не менее тусклые картины выпускников. «Доярки на отдыхе», «Портрет знатного сталевара Королева». Портрет токаря-карусельщика, Героя труда. Это слово «карусельщик» вязло в памяти. Какой он? На чем крутится? И дальше до самых торцовых окон: трактористы, самосвалы, тепловозы, домны. Запах дешевых малярных красок, серые от пыли гипсовые бюсты на постаментах, алебастровые маски. И совсем не верилось, что великое искусство социалистического реализма зарождается здесь и отсюда оно начинает свой путь к «сияющим вершинам». Зато яснее ясного ощущалось (может, только мне?), что здесь та же зона, пусть без колючки, и готовят здесь рабов живописи, послушных холуев и приспособленцев и никак уж не героев, не титанов, тем более не богов. Все набегала, мучила глупая мысль: где и как учился «бог живописи» – Тициан. У кого?
Преподаватели оказались все новые. Кроме одного. Раньше он преподавал перспективу и тогда уже был старичок, сзади похожий на тощенького подростка. Желтые в стороны уши, перевернутая трапеция головенки на тощей с ложбинкой шее, серый в крапинку подростковый пиджачок, черные брючки с манжетами, манжеты уже выходили из моды, и брючки из-за них топорщились, были коротковаты и выше подростковых полуботинок. Но когда «подросток» (и чаще внезапно!) оборачивался, в вас вонзались горящие, с ядом, хоть где-то в глубинах, может, и добрые, глаза фанатика, не признающего ничего, кроме собственных устоявшихся мнений и неоспоримого превосходства над всеми. Вы встречали людей, считающих себя главными на земле? Это как раз один из них. К тому же теперь старичок был еще и директором училища.
К нему меня и направил завуч, молодой художник – типичный кагебешник и стукач, – на них у меня нюх, никогда не промахнусь.
Директор принял меня сидя в огромном кресле, под портретом явно позирующего, уставленного в газету Ильича. Долго мял, листал, разглядывал мои справки. Узнать меня он, конечно, не узнал. Зачем? А вдруг и правда не помнил?
– Шты ж ты тэк? Пратив саветскый власти пыпер? Мы-ладой, штоль, был? Глупый?
Осталось принять вид покорного власти громовержца. Весь вид мой подтверждал: молодой, глупый. «Побеждай гордого мольбой». Так в свое время победил я и страшного опера Бондаренко. Все в жизни годится.
– Я вам и экзамен по перспективе сдавал тогда. Пятерку получил.
– Ты? Питерку? – старичок вроде теплел. – Ну, што с тыбой сделаешь… Пыступай. Рыз так пылучилось… Ды смы-три… Штабы ничего такого! Скыжи там… ПРИКАЗЫВАЮ принять!
И снова вошел я в тоскливую муку тушевания гипсов, разбивки орнаментов, «лепки» форм и фигур. Цилиндр. Куб. Шар. Детали гипсовых капителей. Тени. Полутени. Блики, вынимаемые хлебным мякишем. Антиной с развратными губами удовлетворенного гомосека. Давид, прекрасный член которого любая женщина впивала, наверное, как мечту. Непроницаемо-гетерное лицо Венеры, и торс ее с какой-то женской слабостью в ягодицах. Женоподобные Аполлоны, мужланистые Зевсы и Гераклы. И налитое всеми соками бессмысленное лицо Помоны. Кто там еще? Мы (я) тушевал и тушевал эти античные головы и бюсты. Кто лучше? Кто хуже? Хуже, кажется, было у способных, лучше у старательных, трудолюбивых бездарей. Это кто-то из них создал теорию: терпение – и есть талант! В мире художников – позднее я это хорошо усвоил – есть особый сорт, трудолюбивый трутень. Трутни-художники вовсе не бездельники. Трутни вдохновенны и элегантны. Трутни и в улье крупнее обычных рабочих пчел. Трутни всегда полны замыслов и спермы. Они любят позировать в мастерских для журналов, давать интервью и оплодотворять деревенских девушек-моделей. Трутни загодя пишут полотна к зональным выставкам. И всегда эпохальные: «Ходоки у Ленина», «Ленин-вождь», «Рабочая династия», «Честь труду», «Слава Октябрю», «Праздник Первомая на Красной площади». Сколько еще радостной, старательной ярко-политурной мазни создали трутни. Мазни? Не скажите! У трутня все сработано по канонам. Он мастеровит. К нему не прикопаешься. Ни шагу от законов рисунка и перспективы. И какие краски!
Будущие трутни выделялись уже на первом курсе. Владя, высоко носивший свою гордую, с залысинами и уже заранее тщеславную голову. Отнюдь не мальчишка, мнящий себя гением. Готовый гений, знающий все высшие истины. Мелочь глядела ему в рот, изрекающий медленные неоспоримые истины этого странного дела – ЖИВОПИСИ. Семенов был «западником», опирался на парнасцев, и, как сейчас, слышу его медленный гордый голос: «Гоген говорил: живопись проста, и нечего придумывать: видишь синее – пиши синим, видишь желтое – пиши желтым!» Другой трутень, Лебединский, являл собой погруженное в дремучую бороду лицо Фавна. Из бороды, как облизанные леденцы, торчали яркие, неприличные губы. Этот был русофилом, народником, слышно было, собирал иконы, кресты и складни, а в спорах всякий раз козырял Репиным, Васнецовым, Саврасовым. До училища еще он писал картины: «Седой Урал», «Ермак на Иртыше», «Гора Думная» (по сказам Бажова), считался уже готовым художником и кандидатом на преподавательскую вакансию. И еще был Замошкин – хилое с виду, но ужас пронырливое создание с ежиным профилем, клейкие волосики назад, въедливое, нюхающее и нахальное. Если первые трутни были всяк по-своему величавы, медлительны, Замошкин поражал невероятной подвижностью – всюду лез, юлил, хамил, лебезил, где сойдет, наглел, протискивался – и результат – везде был в фаворе, в известности, чуть ли не в славе. Его картины: «Воскресный день» (с Лениным!), «Свердлов на трибуне» – висели в вестибюле филармонии. Были куплены! – невероятный случай для студента-первокурсника!
Троица трутней с первых дней моего появления противостояла мне. Они были тут законодатели, а я, хоть и немногим взрослее (каждый из трутней где-то уже поработал в художниках), был для них «лагерник», примитив-недоучка, вообще неуч, особенно для Семенова, потому что не прочел бездну книг, и для Лебединского, что знал акафисты всех отцов-академиков Серовых и Репиных, Поленовых и Айвазовских. А для идейного Замошкина я просто был «зэк», пария, неприкасаемый. Замошкин смотрел на меня как на временно выпущенного. И точно так же сторонились не только вожди курса, а пожалуй, и все однокурсники – вчерашняя зелень, школьники. Я был среди них как волк в стае дворняжек. А особенно опасливо глядели на меня немногие наши девочки-художницы, внимания которых я не то чтобы жаждал, но все-таки желал и хотел.
Девочек на курсе всего четверо, и все художницы, так сказать, по наследству: у одной художник папа, у другой дед, у третьей – оба родителя. Четвертая, рыже-гнедая, долговолосая и по-лошадиному могучая самка, в училище явно искала мужа, богатого мальчика, – таких на курсе вроде не было, и скоро она исчезла так же непонятно, как появилась, оставив по себе рыже-гнедое, кобылозадое (извините) воспоминание. Лошадь ведь сексуальна в мужском восприятии. Что стоит одна ее грива! Корова – нет. Хотя корова, быть может, воплощенное женское терпение. Все потомственные художницы были с комплексами – так они сами культурно изъяснялись, – все курили, каждая прошла школу довольно хорошую: раннее развитие-созревание, располагающая среда, лобзания с подругами, ранние генитальные радости, первый мальчик в тринадцать-четырнадцать, первая нечаянная беременность, аборт, слезы, искушение зрелой лесбиянкой, мечты о прочном замужестве и плохие надежды на него, и мастерские, мастерские, мастерские художников и художниц, свои пачковитые опыты – восхищение седовласых импотентов.
Теперь я пишу воспоминания и могу назвать нечто тем языком, каким не владел, конечно, когда учился, точно так, как волосы мои, теперь с проседью, но в общем, нормальные, тогда никак не могли дорасти до длины, чтоб зэковское прошлое перестало явно обозначаться, а с лица не сходило выражение той замкнутости в себе, какая наглухо отгораживала меня и от заносчивых трутней, и от сокурсниц-малолеток, от девочек, по которым ныла моя иссохшая без женщины душа. Едва я, стараясь изобразить самое дружеское внимание, подходил к их мольбертам, хуже, чем испуганно, ложились на меня взгляды, губки приоткрывались опасливо, потом дева овладевала собой, но глухая отчужденность все равно разделяла нас, как морозное стекло. Меньше всех дичилась та гнедая лошадь, что искала в училище удачного замужества, но она была ясная, откровенная хамка и сука, которая никого, никогда не стеснялась, а меня просто не брала в свой ясный расчет. Девочки-художницы! Как ни слабо разбирался я в теории живописи, оснащенный лишь лагерными библиотечными книгами и философствованиями Самуила Яковлевича, я все-таки понимал, что цветистые ваши старания говорят о полной всеобщей бездарности. Женщина-живописец? Художник? Великий? Кто? Где? Когда? Остроумова-Лебедева? Или Мухина? Кстати уж, замечательная фамилия! Но вот напишу крамолу, что, если женщина – художник, она, видимо, не женщина. Если уж художница, то не художник. Это я объяснил себе после потом и затем, а тогда только чувствовал. Кстати, я не хочу женщину унизить. Просто мне кажется, либидо ее и ее экзистенция (это я пишу теперь!) сотворены и направлены не туда, куда гонит одержимый художник-мужчина. Ева предложила Адаму яблоко с дьявольского древа познания. Но яблоком Ева была и сама. И ах, либидо женщины, его втягивающие, бесконечные, ненасытные густеющие глубины! Женщина недаром состоит из ангельской призывной тишины. Омут на рассветной реке – нырни – и затянут в его невидные вращающие вихри. Они подобны и аналогичны той странной СУЩНОСТИ, куда падают и где пропадают бесследно НЕВЕДОМЫЕ ВСЕЛЕННЫЕ. Инь всегда поглощает Янь. Вода гасит огонь. Что же сильнее?
Просыпаюсь от воспоминаний. Я стою у мольберта, где трудится, стараясь не обращать на меня внимания, прилежная девочка-костянка с лицом, еще хранящим в угловатых скулах и раскосых (немного) глазах полурастворенную уже невинность, полупотерянный газелий страх. Она еще лучше других, у нее я еще иногда читаю в глазах подобие зеленого сострадания, чего уж никак не нахожу у другой художницы, пыхтящей за своим картоном бесформенной клумбы, всегда в чем-то ярко-бездарно вязаном – огромный берет, кофта, платья. Такие девушки без конца сами вяжут. Полумужское лицо, намек прежнего иного существования. Сальные волосы. Виски в малиновых прыщах. Щеки кухарки. А губы, вывернутые рыбьи, присосные, великой и тайной сладострастницы! В перерывах она курит у лестницы, уставя в стену и мимо взгляд мутно-синей болотной голубики. Ягоду эту дикую и странную я знал по Ижме. Даже латинское ее название какой-то ученый зэк называл – гонобобель. Противное название, латынь на русский слух часто омерзительна. А зэки звали дурника, пьяника. От съеденной на голодное кружило голову, ломило в висках.
И третья дева с личиком, если не вглядеться пристально, как бы красивенькая, тонкая, ровненькая. Та, у которой папа и мама художники. Во всем обличье поколениями отстоянная культурность. Но, приглядевшись к этой культуре, замечаешь мелкую, пустенькую душу, замешанную на амбициях домашней спеси. Опять вспоминаю: их звали как будто Маша, Оля и, кажется, Люда, Людмила. Я встречал ее даже чаще других, кормилась художницей, оформителем при издательствах, часто выходила замуж и так же часто разводилась.
О девочках сказал-вспомнил потому, что не только сам, прошедший искус лагерным голодом и по-прежнему, а то и мучительнее снедаемый им от каждой юбки-резинки, смотрел, и все однокурсники, молодые полумужики, юнцы и парни, тоже смотрели на девочек, как смотрят на хлеб вечно недоедающие, вечно лишенные его в сытом избытке. И вообще, сомневаюсь я, есть ли сытые этим в избытке ХУДОЖНИКИ. Кто там: Герасимов? Юон? Иогансон? Кто написал: «Ленин на III съезде»? Или еще на каком? Если вы сыты женщиной и славой – помните: вы не художники! Главное свойство художника – вечный, неутолимый голод по НЕЙ. Слышите, Герасимовы, Серовы, Иогансоны? ГОЛОД!
Не надо лозунгов, молодой человек! Если вы сексуальный маньяк, так отнесите это к себе и не мешайте жить и работать нормальным людям! Суньте свою морду туда, куда хотите, и сидите там. Больше вам ничего не надо? Врете. Вам надо еще хлеба, сначала его, хлеба, а хлеб зарабатывают трудом. И «Утро нашей Родины» написано для хлеба. У Герасимова же, между прочим, есть отличная работа «Женская баня». Какие там толстые, здоровенные бабы моются, обливаются из шаек, зажмурив глаза! Невидимый критик все время влезал в мои раздумья. А я думал о женщине и женщинах постоянно, подчас пугаясь этого своего состояния, страдая от него и не желая избавляться. Да и не избавишься никак, если это в тебе и ЭТО есть ТЫ.
Склоняясь к мольбертам, прилежно рисовали, смахивали уголь тряпкой, снимали хлебным мякишем. Подходили смотреть. Как и у кого? И без зазрения совести судили. И я сравнивал. У всех вроде, особенно у трутней, было лучше. Рисовал я, должно быть, отчаянно плохо, нехотя, мне хотелось-мечталось дорваться до красок, и однажды я даже пожаловался на это.
Рисунок вел художник Болотников. Размеренный, спокойный, опрятный, иной раз даже в бархатном пиджаке. Доброе, немецкого склада лицо потомственного интеллигента, еще не старый, но опять же потомственно лысый – точнее, лысина его была вся покрыта нежным светловатым пушком, и, может быть, именно она, эта лысина, вместе с головой красивой, правильной, культурной формы, хорошим взглядом чуть опущенных в углах глаз и умными нервными руками давали Болотникову выгодное отличие от прочих наших наставников с их винными, дурной выпечки лицами и манерами записных бубновых гуляк, трепачей и компанейщиков. Художники – народ веселый. Были среди наставников и двое-трое уж совсем откровенных пьяниц-«политурщиков», лихо надирающихся в своих мастерских вдали от гневливых жен и диктаторши-тещи.
Болотников казался аристократом, а лучше сказать, им был. Позднее я думал: всем нам, и может быть, мне особенно, повезло, что преподавал именно он и вел не только рисунок, но и живопись.
Испытывая к нему доверие, пожаловался: рисунок не терплю, надоело, – к живописи стремлюсь.
– Это все равно что строить дом с крыши, – ответил он, усмехаясь чуть-чуть глазами, но как-то приятно, не обижающе. Вот так и доктор может лечить, не заставляя страдать. – Рисунок надо делать точно, сразу, без всяких этих резинок-подтирок. Простите… Рисунком воспитывайте свою руку. Смелость! Твердость! Взмах! Четкость! Красота! Ритмика! Этого пока у вас нет. Вы, чувствуется, много рисовали, но неграмотно. В вас есть умелец, а живописи нужен рисовальщик-профессионал. И в живописи нужна четкость. Живопись, если угодно, мозаика! Мозаика четких тонов. Будете зализывать – получите мыло. Грязь. Когда рисунок не твердый, вы его боитесь! А надо рисунком по-ве-ле-вать! Запомните: рисунок – это три четверти живописи! Так учил Энгр. А Энгра в рисунке и в живописи никто не перерос! Не Тициан, Энгр был богом живописи! Руку набивайте все время. Чертите, гоните линии, круги, дуги. Рука должна быть смелой до дерзости! И особенно в дугах и окружностях. Ничего нет прямого. Даже пространство искривлено, а параллельные прямые пересекаются. Дуги! Дуги! Окружность есть самое совершенное выражение дуги. Посмотрите на женщину. Она совершенство природы и вся состоит из окружностей и дуг!
Болотникова было приятно слушать, уча, он не снисходил, но открывал истины. Других преподавателей мы, если честно, сплошь числили в бездарях, кустарях, мазилах.
Так минул год моего возвращения в училище, в течение которого я вырастал сам из себя, из шкуры зэка, которая снималась медленно, по мере того, как отрастали волосы, сходил неизбывный вроде и будто копченый, масляный загар, лагерная, тюремная чернота, накипь, что въелась как будто во все мои поры, проникла в дыхание, во взгляд, в походку, и теперь я ее выкашливал, отхаркивал (простите), смывал в банях, пытался смыть с души. Сходило тяжело, помогали учеба, свобода, старание и книги. Их жадно накупал на все свободные деньги, таскал пачками из библиотек. К рисунку с легкой руки Болотникова и поучений Энгра стал относиться куда серьезнее. Книгу Энгра откопал у букинистов – жадно схватил. Теперь было с кем советоваться. Энгр был со мной. Энгр прав всегда. Читал:
«Когда хорошо знаешь свое дело, когда действительно научишься подражать природе, самое главное для хорошего живописца – продумать свою картину в целом, полностью иметь ее, если можно так выразиться, в голове, чтобы затем выполнять ее с жаром и как бы одним взмахом. Тогда, я думаю, все будет проникнуто единством. Вот каково свойство мастера, вот чего, думая день и ночь о своем искусстве, нужно достичь, если ты родился художником. Огромное количество творений прежних времен, выполненных одним человеком, доказывает, что приходит момент, когда гениальный художник чувствует себя как бы подхваченным своими собственными силами и создает то, что ранее он не считал возможным сделать».
Казалось, что это написал я. Я просто боготворил Энгра. Завел тетрадь и потихоньку списывал его изречения, всякий раз поражаясь их созвучию моим мыслям:
«Изучайте прекрасное только стоя на коленях!»
«Только плача можно прийти к совершенству!»
«Кто не страдает, тот не верит».
«Все переносить стойко, работать для того, чтобы нравиться сначала себе, а затем лишь немногим – вот задача художника, искусство не только профессия, но и служение. Все стойкие усилия рано или поздно вознаграждаются. Я тоже буду вознагражден: после многих мрачных дней придет свет».
«Рисунок содержит в себе все, кроме цвета».
Здесь я не соглашался с Энгром, мне казалось или начинало так казаться, что рисунок содержит даже и цвет. Лучший рисунок!
«Надо рисовать беспрестанно, рисовать глазами, когда нет возможности рисовать карандашом!»
Не с Энгровой ли подачи я постепенно полюбил рисунок. Сначала понял, потом проникся. А может, отбили меня от рисунка те «карточки». И все вернул Болотников, заставив поверить в рисунок.
Все смелее крутил карандаш и уголь, все решительнее, отчаяннее старался подчинить себе натуру. И она начала поддаваться. Шли месяцы, и уже не с ненавистью, как бывало, не с ленивой небрежностью, нерадивой старательностью выполнял я задания, делал наброски и зарисовки. Иногда, будто снайпер по мишени, я кидал стремительную очередь линий. Не всегда получалось, но когда попадал, чувствовал будто прилив иной и высшей силы. Ощущение невесомости. Болотников по-прежнему мне радел. Пожалуй, его внимание и заставляло меня стараться. И все-таки рутина училищной жизни, нафталинных правил, сточертелых натюрмортов, которые я давно перерос, выводили из себя. Яблоки. Луковицы. Консервные банки. Медный до кислоты во рту самовар, тряпки-драпировки, пережившие десяток поколений, вылинявшие от наших пристальных взглядов. Господи, что еще? Я стал, кажется, ненавидеть этот жанр. Натюрморт. Природу мертвую. И даже вроде бы радостные сирени, черемухи, подснежники, винограды-арбузы уже удручали своим затасканным однообразием. Я никогда не соблазнялся писать, даже ради рублей, натюрморты для столовых, как сплошь писали их наши великие трутни. Да вы видели их творения, непременно с разрезанным арбузом, с дыней, синим кишмишем, ну еще стаканом чая с лимоном. И лимон тут же, долька его, и ножик. Видели? Это кто-то из них написал.