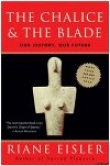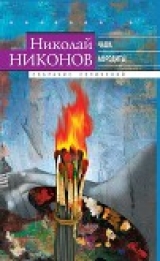
Текст книги "Собрание сочинений в 9 т. Т. 8. Чаша Афродиты"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Глава V. ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ
Непонятным образом мифология и Библия одинаково влекли меня. И если я написал «Еву», почему не попробовать картину на уже известный сюжет – ну, допустим: «Похищение Европы»? Я уже говорил, что написал бы, наверное, и картину «Пасифая». Женщина, отдающаяся быку. Кажется, такой не было ни в одном музее-галерее. Видения древних чудовищных храмов, где женщины, обнажая свою исконную животную суть, отдавались быкам, львам, жеребцам, ослам и чуть ли не слонам, посещали меня иногда, когда я был абсолютно свободен и поиски денег не уводили меня от главной моей стези. Чудовищные грезы моих несбыточных картин мучили меня настолько, что, не в силах им противиться, я хватался за карандаш, и жизнь дикая, подчиненная одним лишь законам мира, а не пошлому обустроенному разуму со всеми его табу, двигала его. О, это были страшные фантасмагории, и в конце концов я захлопывал папку, боясь словно, что они овладеют мной настолько, что я не выдержу их тяжести и соблазнов.
Но почему мне не написать «Похищение Европы»? Их писали, вероятно, сколько угодно. Хоть тот же Серов. Великий? Может быть. Но «Европа» ему явно не удалась. Бык еще так-сяк. И то надо было искать. А сидящая на нем тощенькая еврейка Ида Рубинштейн? Разве находка? Здесь все не так, набросочно и театрально. Серов был явно болен или торопился. Он не нашел. Не сдвинулся дальше первого решения. Но Бог с ним. Он сделал, что мог. Я даже не буду на него равняться, создам несравнимое «Похищение Европы».
Я пустился в поиски картины в рисунках, набросках, красочных «нашлепках», как учил Павел Петрович. Что-то вроде получалось: и море, и бык, и женщина. Однако, едва приступил к первому варианту-этюду, я понял дикую тяжесть задачи. Картина на мифическую тему? Какая тут разверзалась бездна! Во-первых, море. Ведь это не просто море, которого я, кстати, никогда не видал. И это, Бог с ним, это не обязательно. Айвазовский тоже писал море в мастерской… Но море моей будущей картины ничем не должно было напоминать море, допустим, старых голландцев или буйных, помешанных на цвете импрессио. Это должно быть, и прежде всего, то древнее, Нептуново, Посейдоново, Нереево, Протеево, Эгеево море, полное чудес и тайн, и колыбель ВСЕГО, качающая мир колыбель! Как найти его особый цвет? Чтобы было широким, бездонным и как бы клонящим в сон и синеву. В вечность! Как написать такое море, с лазурью, и зеленью, и сединами первобытной дали?
Ну, допустим, я справился с морем. А дальше, в степени последовательности идет БЫК. Бык? Морда коровы здесь, конечно, никак не годится. Нужен бык. И для этого я, не раздумывая, еду в пригородный совхоз. Еще стоит чахлое бабье лето, и пасут на выгонах черно-белый, какой-то безрадостно одинаковый скот. За стадом я долго наблюдал, пока ко мне не подошли пастух с подпаском. Два придурка, старый и малый. Поинтересоваться. Но скоро отошли, отстали. Рисует коров! Гы-ы-ы! Там, в стаде, был и бык… Большой. Черный. Злобный. Грозно взревывающий на своих покорных, женственных, терпеливых бесчисленных жен. Время от времени он громоздился на одну из них, униженно стоящую или тихо бредущую, так что ему приходилось тоже идти – переступать на своих дьяволовых копытах. Бык довольно скоро прекращал свое занятие. Был явно пресыщен. Но это был обыкновенный бык, пусть красивый, гороподобный и грозный, но просто бык, корова мужского рода. А мне нужен был воплощенный в быка Юпитер. К тому же, по преданиям, белый, священный, а если уж черный, то Апис с волшебной звездой во лбу. И еще? Какие у него должны быть рога? Лироносные, как изобразил Серов и как встречаются у древних изваяний? Или? С наплывами, как у кафрских буйволов? Или раскинутые, как серпы? Рога – это еще поддела, их можно «поискать», найти в рисунке, а вот морда, она ведь еще должна быть и лицом, ликом грозным, могучим, античным, повелительным, Зевсовым, каким-то еще Геракло-Гераклитовым? Титаническим. В нем должна быть несметная сила, жгучая любовь, власть и предвкушаемое наслаждение. Как решить и найти такое?
В поисках «лица» моего Быка-Юпитера я бродил теперь по улицам, вглядываясь даже в мужские лица. Н-о! Как это бесполезно! Легче все-таки искать быка. «Что можно Юпитеру, то нельзя быку». В поисках забрел даже в зоопарк. Старый, тесный, паршивый зверинец, который, однако, я помнил каким-то цветущим ковчегом. Тогда, в детстве, я очень любил сюда ходить. И помнил, там стоял в зимнем стойле чудовищно могучий черный бык – гаял! Теперь зоопарк захирел. В вонючих, тесных клетках маялись медведи, с печалью обреченных глядели на толпу львы, и бегали облезлые, дрянные лисы. Быка-гаяла, конечно, не было. Хотя я даже представить себе не могу, как могло погибнуть такое огромное великолепное животное. Он подошел бы мне для натуры. Я вспомнил, как безбоязненно трогал его желтые рога в тесном загоне-стойле и как бык однажды качнул головой, отбрасывая мои глупые ласки. В зоопарке были, правда, зубро-бизоны: что-то древнее фавновое и даже с бородкой. Но у них были невпечатляющие короткие рожки, и при всей скульптурной античности лика бизоны, я чувствовал, не годились для Юпитера.
Меня выручил цирк! Рассеянные по городу щиты рекламы вещали: приехали дрессировщики с группой тибетских яков. Я кинулся в цирк. И был вознагражден. Среди диких и вдохновенных обличий этих странных горных быков я почти нашел Юпитера! Грозные морды этих животных были вдохновенны, дики и величавы. Юпитер, Юпитер прятался в них.
Теперь дело было за женщиной. И это самое трудное – найти Европу! По мифам-то смех ведь! Европа – дочь эфиопского царя! И следовательно, эфиопка, почти негритянка?? Европа – негритянка? Такое соединение не примет никакой зритель. Тут налицо расслоение образа. А я-то хотел написать ее светловолосой, голубоглазой, дебелой – этакой скандинавкой, пусть миф из античности. Но ведь читал же я, что истинные древние греки были светловолосыми и голубоглазыми? Нет уж! Миф мифом, а Европа должна быть Европой. В ней, этой женщине, или девушке, я должен был передать всю чувственную прелесть континента, так связанную прямо с ее пышным, прекрасным именем. Ев-ро-па! Найдись! Найдись! Я уже, кажется, готов был творить заклинания. Художники, кстати, часто их творят, когда пишут. Они все тогда (мы все!) колдуны и волхвы. Опасные люди. Безопасные дураки. Пьяницы. Горюны. Озабоченные бездельники. Самоприкованные страдальцы. Европу вот ему подавай! Ев-ро-пу?!
Я вспомнил случай, уже давний, когда я встретил на трамвайной остановке удивившую меня девушку. Был июль. Душный теплый вечер. Надвигалась гроза. И за крышами уже поблескивало. Девушка явно ждала трамвай. А я глядел и восторгался. Это было живое подобие леонардовской Моны Лизы. Но, скорее, не она, а лишь подобная ей и где-то еще запечатленная в картинах самого Леонардо и каких-то еще близких ему возрожденцев. Да. Она была много лучше Джоконды. Много лучше… И более правильным лицом, и прекрасными густыми волосами, скажем, стилем девятнадцатого, обрамлявшими ее величественное лицо. Трамвай наконец подошел, девушка шагнула на площадку, а меня словно втянуло за ней в ту же глубь сумрачного, еще не освещенного вагона. И, представьте, я поборол, сломал свою дикую робость, я совершил подвиг! Я познакомился с ней, и настолько, что предложил ее проводить. Оказалось: студентка, с заочного, приехала на сессию, ходила в театр, остановилась у родственников. Все это я выяснил, стоя у какого-то подъезда, освещаемый уже только вспышками молний и под рокот и грохот близкого грома. Дождя, однако, почему-то не было. Был ветер, мрак клубящейся тучи. И это странное венецианское лицо. Девушке, похоже, я нравился. И я пригласил ее встретиться. Завтра или послезавтра. Условились. Договорились. Душа пела. Джоконда скрылась в подъезде. А я под начавшимся уже дождем, грозою, громом пешком пошел к трамвайной остановке. Я почему-то даже не торопился. Я был счастлив. Познакомился с такой необычной девушкой. Венецианкой. Она сказала, что приехала из очень прозаического городка. Асбест? И все равно я простил ей это дурное название, никак не соответствующее ее облику женщины из Вероны, Неаполя, Генуи – откуда еще? Венецию я назвал первой. Мы встретились. Она пришла. Мы даже распили с ней бутылку шампанского на открытой веранде у пруда. И во время этой встречи я замечал, как тухнет и гаснет ее оживленное было лицо, лукавый взгляд обретает будничное значение, и вся наша встреча закончилась ничем. На следующее свидание она попросту не явилась. Я думаю, виною были мои изреженные цингой зубы. Я слишком много говорил и слишком радостно улыбался. И еще забыл, что заранее радоваться всегда плохо.
Теперь я вспомнил эту Джоконду и даже подумал: она подошла бы натурой для Европы. Быть может, подошла. Однако… Может быть, я и ошибаюсь… Садите Мону Лизу на быка, и вы поймете, какая будет пошлость. Я все-таки попробовал этот вариант в набросках. И женщина у меня «пошла». Так здорово, что мне бы, наверное, позавидовал сам
Энгр. Моя венецианка из Асбеста была просто прелестна. Как у Энгра! Льстил себе и себя же отвергал. Слабо. Плохо. Надо, как у МЕНЯ! Энгр должен был чудиться.
Эту женщину на быке я вертел во всех немыслимых и мыслимых вариантах. Верхом. Наклонившуюся. Обнявшую быка за сверхмощную шею. И сладостно приникшую к нему. И перепуганно-счастливую. Европа ведь сама хотела, чтоб ее похитили! Она ведь влюбилась в Юпитера-быка! Она ведь ждала чего-то немыслимого в своем ближайшем. И может быть, жена царя Миноса Пасифая, родившая Минотавра, была вовсе не единственной в том древнем мире чудовищной соблазнительницей, буффило-манкой? Европу я пробовал изобразить и так. Но это было бы уже «обольщение Европой». Не находя облика и натуры, я делал Европу то современной косметической девой, то негроидной шлюхой, то античной элладной богиней, и все не то, все без какой-то сути ЕЯ.
И уже кончалось еще одно считанно-несчетное лето. Подходили к концу мои заработки. Какой-то блатной хваткий художник незримо теснил меня в мастерских, и вот мне уже перестали давать заказы на Ильича. Представьте, что я даже не огорчился. Скорее обрадовался. Деньжонки все-таки были за счет моей вечной экономии и бережливости. Одна голова не бедна. Есть хлеб, хороший, вкусный. Есть яйца. Доступная цена. Молоко! Я его никогда не пил и не нуждался в нем. Ну, сыр, колбаска. Картошка. Рисовая каша. И пшенная. Из гречи только у меня не получалось ни черта. Жить было можно. И главное, не пьянствовать, не курить, а одеваться я научился в одном магазине «Рабочая одежда». Там были вполне приличные недорогие брюки, костюмы и крепкие, ноские ботинки. Ботинки главное. Как волку ноги. Хорошие я брал в запас по две-три пары.
Зимой и осенью ходил я не в теплом, однако опрятном демисезонном пальто. Носил новую кроличью шапку. В ботинках, с носком! Мне был и не страшен мороз. Хвала тебе, лагерь! На всю оставшуюся жизнь ты был мне опорой и сравнением! В одежке, в морозце, гуляющем по лопаткам, в рубахе, которую не менял на свитер до лютых морозов, в чернухе, которую продолжал любить, ел досыта – ТАМ она была ведь ух какой вкусной! И в том даже, что вот десятилетия жил, по сути, без женщины, без бабы, без той, о которой так голодно мечтал, когда был закрыт ТАМ. Без «бабы»!
А жил по принципу: лучше уж БЕЗ, чем с какой-нибудь. Я чурался, боялся всяких этих «случайных связей», липких бабешек, вокзальных и уличных шлюх, их было тогда не так-то уж много. Проституток ловили, куда-то ссылали, а если такая и попадалась, без ошибки можно было понять-определить ее грешную, подлую, пьяную и больную жизнь.
Такие женщины привлекали меня лишь как экземпляры каких-то страшноватых насекомых изощренного энтомолога. Я всматривался в их лики, почти всегда дебильные, примитивные, схожие с помойками, вслушивался в их речь, густо насыщенную изворотливым лагерным матом, – таким не выматеришься, не побывав ТАМ и не общаясь с ТЕМИ. Наверное, заметив и во мне что-то неизбывно-лагерное, они, бывало, подходили, предлагали. И словно расстраивались-удивлялись, что я отказывался и уходил от проявленного внимания.
Мое обыкновение торчать на остановках и перекрестках, у магазинов и кафе, у входов в кинотеатры и кино, и даже у вокзалов, сбивало с толку предприимчивых женщин.
Вот так, прогуливаясь однажды взад-вперед неподалеку от винного магазина, я обратил внимание на старуху, которая хитро-прицельно глядела на меня, а потом даже подошла.
– Мужчина? Можно спросить?
– Пожалуйста.
– Я вот подумала, вам, наверное, женщина нужна?
– Как это вы определили?
– Да вид у вас такой. Голодный. Голодный вы, видно. Без женщины.
– …
– Я дак вам хорошую женщину могла бы предложить. Одна живет. Чистая. Полная. Тут. Недалеко. Я бы вас познакомила. Вы ей понравитесь. Медсестрой работает. Правда. Красивая, говорю. Полная. Ну, такая, с фигурой. И без мужчины. Страдает. Вы бы ей очень подошли. Недалеко тут. Ну, а мне только бутылочку, за труд.
«Полная?» – подумалось мне, а спросилось:
– И молодая?
– Молодая! Молодая! Тридцати нет. Не девушка, конечно. Молодая. Она вам понравится! А я вижу – вы полных любите.
«Все видит!» – подумалось мне.
– Не сомневайтесь, мужчина. Она хорошая, чисто себя содержит. В поликлинике работает… Так что… Как не уметь все… Что женщине положено… Поедемте..
И я поехал. Это было действительно недалеко. По дороге на вокзал. На третьей остановке мы вышли, зашли в магазин, где я купил три бутылки вина. (Одну тут же отдал старухе.) И в этом же доме – лишь ход со двора – оказалось жилище Цирцеи. Когда поднимался по лестнице, я внутренне усмехался не то своей смелости, не то наглости. Ведут, как бычка-производителя, и что там окажется еще за «телка». Название входило в моду среди молодежи, и, честно говоря, мне нравилось. «Телки» у меня никогда не было. А хотелось ее иметь.
На особый звонок старухи послышались грузные, шлепающие шаги – так ходят женщины в квартирах, «в домашнем». Дверь открыла молодая женщина, при виде которой с порога я остолбенел. Это была та, которую я искал как натуру для своей картины! Европа.
– Ну? Заходите? Чего стоите? – не слишком-то приветливо позвала она.
И я шагнул через порог, обоняя прежде всего запах незнакомой квартиры, женского жилья. Здесь пахло едой, одеколоном, стиркой, словно бы женской одеждой и немного туалетом. Он, видимо, был рядом.
Женщина передо мной стояла большая, но достаточно стройная для такой толщины. Чувственные правильные губы – это бросилось в глаза. Хорошая грудь, полноватый живот. Волосы были светлые, длинные, почти натуральной окраски, брови накрашенные, и странные были глаза: цвета густой, холодной малахитовой зелени, и, когда она чуть повернула голову, один глаз вспыхнул голубоватым огоньком. Норовом.
«Ого! – подумал я. – Дикая лошадка!»
– Проходите, – помедлив, позвала она, видимо тоже не разочарованная моим видом и оглядом.
Старуха же, победно дернув губой, подморгнув глазом, ушла куда-то по коридору. Квартира эта была явная коммуналка.
В комнате продолжили обозрение друг друга. Было все-таки непривычно, конфузно, по крайней мере мне. Комната женщины не понравилась – все в ней было какое-то не новое, захватанное, как из комиссионного магазина. Стол, большая кровать под бархатным одеялом-покрывалом, ковер на стене тоже комиссионный, клоповый, с выгорелым, вытертым ли рисунком, где некий персидский шах с неясным ликом ласкал припавшую к нему рабыню-невольницу в выцветших шароварах. У «шаха» видны были яснее всего дырочки глаз и полоска зубов. У невольницы – обведенные цыганские глаза. Еще в комнате у окна был фикус в битой эмалированной кастрюле. Все в этот момент попало в поле моего зрения, и вряд ли это понравилось хозяйке.
Но теперь я разглядел ее лучше. Да. Молодая, крупная, толстоногая женщина. Волосы ее все-таки были крашеные, но краска не лезла в глаза, не мешала их натуральному восприятию. Лицо же было с той явной «бесстыжинкой», которая одинаково и привлекает, и отпугивает мужчин. На улице я с такой бы не познакомился. И женщина, сразу и ясно поняв и оценив все мои мысли, презрительно дернула пухлой жадной губой. Странные малахитово-зеленые глаза похолодели. Все-таки в ней было много, чересчур много от больничной медсестры, чересчур много, чтобы это уже не отпугивало. Профессиональное, уверенное, знающее. Что-то, похожее на что-то… Я рылся в памяти, может быть, даже лихорадочно, и сразу нашел. То занавешенное белым окно. Медсестра Марина. Она была лишь много старше этой. И ее уверенные, жадные руки, которые творили со мной, казалось, невозможное..
– Меня Валей зовут, – сказала она, слегка усмехаясь – Да вы садитесь. Чаю хотите?
– Нет… Чаю не хочу… А… А может быть, мы пойдем погуляем? (С чего это я взял? Само сказалось. Какой-то инстинкт безошибочный выручал меня!) Погода хорошая. Если у вас… Если вы… Если есть время и желание. – Язык мой все-таки спотыкался. Верный признак, что женщина мне нравилась. Все-таки нравилась.
И она опять тотчас это поняла и оценила.
– Ну что ж! До трех я свободна. Пойдемте. Подождете меня на улице? Я ведь так не могу… – Она вдруг распахнула халат, и я увидел, что под ним она совершенно голая, толстая, розовая, с большими свисающими грудями и выбритым гладким лобком, вписанным между ляжек четкой перевернутой буквой «М». Бесстыжий пуп, как черный глаз, прицельно смотрел на меня.
Секунду она наслаждалась моим остолбенением и замешательством, потом, криво усмехнувшись, запахнула халат.
– Ладно. Идите. Ждите меня внизу. Приду.
Я вышел в коридорчик, где опять наткнулся на старуху, глядевшую теперь уж совсем победно. Зачем-то я отдал ей и вторую бутылку. Видимо, этого было сверхдостаточно, потому что, понимающе и благодарно глянув-кивнув, она тотчас же ушла.
Я спустился по лестнице, этаж был третий, вышел на людную улицу под нежаркое солнце и стал прогуливаться по тротуару, усмехаясь и как бы в такт своей странной ситуации. Такого со мной никогда еще не случалось. Познакомился с женщиной. И женщина-то вполне. И понравилась мне весьма. И натура – вот она! И знал – останься я сейчас у нее – ничего бы не вышло, не получилось. И пусть красивая, полная. Но – чужая какая-то, страшноватая. И явно много прошлого… И медсестра еще. Да я-то что… Кто? Девственник? А веду себя примерно так. Гулять позвал! Хо-хо… Вот дурак. Она все еще стояла перед моим внутренним взглядом. Груди, живот, пуп. Пухлое, выбритое «М». Ноги, сомкнутые в ляжках, розовые, круглые. И эти странные малахитовые глаза. Профессионалки и блудницы. И задница, наверное, тоже загляденье. А губы какие присосные, жадные. Вот только глаза… Что в них такое? Ну, ладно, посмотрим. Не съест же она меня… Не съест..
Она вышла в легком болоневом плащике, с цветной косынкой на шее. На ней было вискозное, скользяще-бесстыжее платье. Такое как раз, как я люблю.
– Ну, что? Хм? Куда пойдем? Поведете куда?
– А пойдемте на набережную, – предложил я, досадуя, во-первых, что не обдумал, куда мне вести эту «телку», а во-вторых, опять поняв собственную глупость. Она-то, «телка», предполагала, очевидно, что я предложу поехать ко мне или куда-то, где и можно будет без помех приступить к тому, зачем я сюда, к ней, явился.
– Ну, хм, ладно… – согласилась она, дернув губой.
– Там посидим в павильоне. Мороженое, наверное, есть… Жарко! – пробормотал я.
– А вы кто? – спросила она, пристраиваясь к моему шагу.
– Свободный художник! – ответил я, наверное, несколько игривее, чем было надо.
– А если серьезно?
– И серьезно – художник..
– Шутите?
– Нет. Живописец я. Настоящий..
– Хм… – неопределенно отозвалась она. И в этом «хм» я понял все: художник – значит, бедняк. Бедолага, дерьмо. Или так себе… Шалопай. Солидный мужчина не станет таким заниматься. Правда, все-таки, может, профессия… А это профессия? Нет, конечно. Так. Блажь. Юродивый какой-то. Но все-таки интересно. И безденежный, конечно. По одежде видать.
– А вы – я знаю – медсестра?
– Бабулька сказала? Вот дерьмо… Все выболтала. Пьянь… Она вообще-то – ничего. Душевная старуха. Она мужиками до сих пор бредит. Не поверишь? Молодыми причем мужиками. Хм. Она мне ассистенткой иногда работает… Ну, а вы что рисуете? Вы работаете где? Хм.
– Я же сказал, что свободный художник.
– Значит, нигде? А как живете? Картины продаете?
– Иногда. Или устраиваюсь на время.
– Ну, это не заработок! – дернула опять своей красивой губой. – И вас это устраивает?
– Что?
– Без денег?
– У меня есть деньги. Пока. А дальше видно будет.
Она посмотрела с нескрываемым сомнением, и глаза еще больше похолодели, сделались каменными, яшмовыми.
– Видно, все вы, художники, одинаковые. Вот у моей подружки – в больнице тоже работает вместе со мной– художник был. Такой пьянь… И импотент почти. Уж она чего с ним не делала. А баба – ух! Все умеет. И любила его… Несмотря… Мне, говорит, интересно. Она кого хошь заставит… А тот художник все равно от нее смылся. Хочешь познакомлю? От нее, пожалуй, и ты сбежишь. Ха-ха… Хм.
– Я еще с вами не познакомился, а вы уже меня хотите другой сдать, – усмехнулся я.
– Да это я так. К слову. Вот мы пришли.
– Я вас приглашаю. В кафе. Мороженое..
– Мороженое? Это хорошо. А выпить там есть?
– Наверное… Шампанское..
– Вот и дело. Деньги правда есть? У тебя?
– Садитесь вон там к окну. Закажу.
– Ну, ладушки… И сигарет мне купи. Пачку. «Стюардессу». Смотри!
В павильоне было почти пусто. Я заказал по две порции мороженого и бутылку шампанского, которое буфетчица тут же, нехотя словно, открыла.
Сели за столик.
– О! Люблю этот морс! Шампунь! – сказала Валя. – Ну, за твое! За знакомство! Пей!
«Угощает!» – про себя усмехнулся я.
Бутылку мы быстро выпили. И Валя вдруг сразу рассолодела. Смотрела на меня уже не малахитовыми глазами, а какой-то странной водянистой зелени. Мутноватые, бесстыжие глаза все знающей женщины. Лицо ее приобрело тот неприятный оттенок крепко пьющей, еще розовое, но уже с той, едва уличимой, но явной фиолетинкой, какая появляется под глазами и на щеках, а окраску губ делает какой-то химической.
– У тебя ведь в сумке еще бутылка есть? – спросила она, глядя на меня сквозь дымку.
– Есть.
– А бабке сколько отдал? Вот сволочь – две взяла. Да еще продала меня.
– Как?
– Ну, что я в больнице работаю.
– А что такого?
– Хм. Давай бутылку, открывай! Ничего, выпьем тут… А то, что я в такой больнице работаю, что ты счас сбежишь, как узнаешь. По-нял?
Признание не обрадовало меня. И я только еще раз поразился своему провидческому нежеланию быть у нее в комнате.
– Но ты… Не бойся… Я чистая… Слежу. Я и вылечить могу. Если чо..
– Спасибо. Не требуется.
– Наливай!
И еще я понял, что она алкоголичка.
Бутылку мы допили. Причем я – треть, она – остальное.
– Как же вы! На работу?
– A-а! Не выйду – и все. Подменят. К нам не очень-то идут. Медики… Таких дур мало… Как я. Ну ладно. Все… Счас пойдем ко мне? – с треском отодвигая стул, сказала она. – Нет? Пойдем… Отдохнешь на моем пупе. За все ведь надо платить. И рас-пла-чи-ваться… Пошли.
– Я домой пойду. В мастерскую.
– Что? Уже не понравилась? Это ты зря… А может, у тебя того? Не стоит, не гнется? Все вы, художники, импо-о… Нинка рассказывала. Клизму сделает, и он сразу заработает. Пойдем. Я тоже все умею. Я тебе, как тряпочку, выкручу…
Мне уже стыдно было с ней сидеть. Вышли на ветерок. На мою родную, залитую солнцем набережную. Красивая бесстыжая женщина, свесив густые беловатые волосы, покачиваясь, стояла передо мной.
Мне хотелось скорее расстаться, и она, через хмель, поняла это.
– Нну, ладно… До следующего? А? Бы-вай… Ху-дожник… А захочешь – заходи… Выкручу… Х-ха..
Она ушла, нехотя повиливая бедрами. Еще раз пьяно полуобернулась, помахала кистью.
Еще одна женщина, которая от меня ушла. И слава Богу, что ушла, я понял это через горькую горечь несбывшегося желания.
Впрочем… Почему несбывшегося? За два дня я написал с нее Европу. Моей памяти достаточно было одного прицельного выстрела.
Европа, жаждущая, хотящая, ненасытная, влюбленная, умелая, плыла верхом на своем грозном быке. И бык бешено таращил страдальческий глаз на эту, уже слившуюся с ним, приникшую в ласке, неостановимую наездницу.