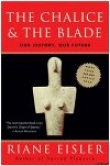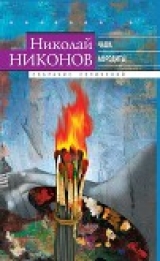
Текст книги "Собрание сочинений в 9 т. Т. 8. Чаша Афродиты"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Глава XII. …И ОТВЕРЗЕТСЯ
Летом в жаркие воскресные дни мы ходили загорать на пляж, и я со сладкой гордостью в душе замечал те взгляды, что были направлены ЕЙ, на НЕЕ, ее откровенно женской мощной юной фигуре, косе, хвост которой уже ласково гладил то место, где начинались ее нежные круглые ягодицы, и я сам любовался ее женственностью, что так удивительно сочеталась с постоянно детским и девичьим в лице, нежным румянцем щек и малиной откровенных губ. Она явно цвела, и я с ней казался и был явно моложе, гордился этой своей моложавостью и обладанием и прощал кобелиные эти взгляды, и стойки, и то, как она косила на них, украдкой и вскользь (как не посмотреть!), прощал и забывал даже тревожиться, хотя дальним умом, на самом дне памяти хорошо и горько знал, что такое счастье, и особенно – счастье с ней…
Как-то перед новой осенью она сказала мне словно бы с раздумьем:
– Отпусти меня в Ялту?!
– Куда? Зачем? – поперхнулся я. Мы пили вечерний чай, и она была какой-то особенно милой и нежнопрелестной.
– Ну, есть путевка… Бесплатная… Профсоюзная… В наш профилакторий… Я же нынче почти не отдыхала? Отпусти… И ты пока отдохнешь от меня. Ты ведь тоже устал? Ну, милый, дорогой Сашенька? Ну, душечка, пончик, ватрушечка… – этой глупой детской присказулькой-наговором она всегда награждала меня, когда хотела подлизаться, и я всегда на нее клевал.
– Нас поедет восемь человек… Все женщины… Да, да… И одна семейная пара..
И тот вечер, и то раннее утро..
Тем вечером она была необычно ласкова со мной, и мы снова играли. Она была божественной медсестрой, опустошившей меня подряд уже три раза… Сидя на мне верхом, закидываясь животом и ошалело встряхивая грудями, мотая распущенной гривой, она походила уже не на женщину, а на что-то дикое, необузданно воплощенное, и низкий стон, рвавшийся из-за стиснутых зубов, покривленных страданием губ, казался нечеловеческим. Она пила, всасывала, лишала меня любой попытки сопротивления, и я будто уже растворялся в ней, объединялся с нею, становился единой с нею сущностью… Так не было еще никогда.
– Это, чтоб ты без меня не гулял! Не гулял! – шептала она, целуя меня и засыпая молодым каменным сном. А я еще долго ворочался и не мог заснуть. Почему-то укололо ее счастливое веселье и ее уж явное и необычное даже старание. «Не гулял! Сама там – не загуляй!» – бормотал я, и все ворочался, и не мог заснуть, уже светало, и у меня болело сердце… Перебрал..
А на утро я проводил ее до остановки, где за ней должны были заехать по пути в аэропорт. Мы почти не ждали, потому что сразу подкатила «Волга», два молодых жлоба выбрались из распахнувшихся дверок. И она, улыбаясь, отдала им свой чемодан и едва кивнула мне (для них я был, очевидно, ее «дядя»), и они посмотрели на меня мельком, с презрением молодых и превосходящих. Дверки захлопнулись. «Волга» укатила, словно унося половину моей души, может быть, и больше, потому что ОНА даже не махнула мне, не глянула в окошечко. Она была уже не со мной, а только ТАМ и с ними.
Сентябрьский рассвет был росный и холодный с тем оттенком прожитого и как бы последнего лета, которое, уже уйдя, лишь горестно чудилось в далях, и крышах, и в похоже ранних женщинах, идущих к трамвайной остановке.
И, стараясь превозмочь все это: внезапную тоску, ревность, боль, ломившую сердце, подозрение, вдруг едко осенившее меня, – я вернулся в какую-то донельзя опустевшую, словно постылую и без души квартиру, с ненавистью покосился на закрытый тряпкой подрамник и едва не заплакал. Как она уехала от меня! Что такое было со мной? Опять предупреждала моя страшная интуиция? Я открыл скрипнувший шкаф на кухне, достал водку, налил целый стакан – так только и можно, кажется, теперь, за шестьдесят! Глушить тоску, залить… И, жмурясь, жадно, по-алкашному, выпил, утерся, без закуски… Без закуси… А-ах… Стало легче. Оттеплело. Отмякала, распускалась душа. Отходил будто дурной этот страх… Не страх… Так., безнадежность. И еще была маленькая надежда: может, зря я так… Приедет она… Все-таки неделя, недолго. Может, правда, она устала, приедет – и все будет по-старому… Уехала только с бабами, семейная пара не в счет. Все женщины – говорила – с ее работы, машинистки, бухгалтерши..
Успокоился и, даже пьяный, начал рисовать. Рисовал теперь словно нехотя. Богиню, а получалась Женщина. И вдруг пришло-осенило! Да что же я маюсь?! Афродита и должна быть ЖЕНЩИНА! ЖЕНЩИНА – прежде всего! Плотская, плотская женщина! И если лицо МОЕЙ женщины не подойдет здесь, то тело моей женщины-девочки, так соблазняющее меня до чувственной дрожи, тело, по которому я уже тоскую и держу его в уме, и в душе, и в памяти, я смогу написать с никому недоступной силой!
Вот говорят: «Не пей!» А истина, казалось, неразрешимая открылась мне в вине, открылась в водке! Я нашел решение моей Венеры. Афродиты, рожденной из пены..
Она обещала приехать через неделю. Но прошла и вторая, и началась третья, а ее все не было. Правда, в конце второй недели был звонок. Краткий (нет денег): пока не могут все выехать, нет билетов. На работе договорилась «без содержания». Явно было – вранье, явно – пока звонила, за спиной стояли. О, вранье, вранье! А ты еще поверил, болван! Уезжала она, конечно, на полную катушку, на весь отпуск! И не одна! Она опять обманула меня. Обвела, как дурака.
Я трепыхался. Я даже уловил в ее голосе надтреснутый холод. Так не звенит чашка, когда и трещина еще не видна. Голос женщины, которая разлюбила тебя. Эх, дурак ты, дурак, дурачина. Я не спал толком уже столько ночей… Считал дни… Сомнения не давали мне жить. И тогда я позвонил на ее работу. Спросил. Равнодушный женский голос ленивенько ответил:
– Да что вы волнуетесь? Они же отдыхать группой уехали…
– Сколько? – глухо обронил я.
– Да человек шестнадцать их уехало… – ответил голос и добавил: – Приедут… Не бойтесь… Не маленькие.
Шестнадцать! «Все женщины!» – открытие окатило меня ледяной волной. А я, кажется, ведь был готов к этому.
Значит, все точно – женщина намеренно и спокойно обманула снова. Намеренно и спокойно..
Две мои картины – одна давняя (Надя-малярка, мой диплом!) и пейзаж с рекой – из недавних, кажется, приняли на зональную выставку! Кажется, приняли… Во всяком случае, официального отказа я не получил. Не отвергли, как раньше, внаглую. И немножко все это отдаляло мою душевную боль, хотя., как отдалишь явное?
Вот и сейчас я то ли шел, то ли плелся, не замечая ничего вокруг, ни течения встречной толпы, ни наглого бега трамваев, ни редкого первого снега, пролетавшего в пасмурности свежего ноябрьского пасмурного утра. Был ноябрь, самое начало, и раньше я любил этот осенний, поздний, а скорее, предзимний месяц. Шел на выставку, а держал в памяти все, что было после ЕЕ приезда. Приехала изменившаяся, чужая, похуделая, холод в глазах, ледок в голосе, снисходительные умолчания на мои обвинения. Понял – все! Понял – теперь надолго. Если не навсегда. Понял, что не нужен, есть-появился другой. С ним она ездила. И там уже новая любовь. У нее это было так просто, как, видимо, и у ее матери, а дочь «повторяет судьбу матери». Неужели правы эти древние индийцы: «Сущность женщины – измена». «Нет места, нет времени, нет пожелавшего – потому и чиста женщина». А там было и место, и время, и пожелавший был. «Никогда не насыщаются любовью прекраснобедрые, словно коровы в поисках свежей травы, бродят они в поисках наслаждений. Снаружи они прекрасны, внутри ядовиты, как ягоды гунджи». Лезла в голову вся эта афористика. Раньше я как-то не придавал ей серьезного значения… «Поверивший женщине подобен заснувшему на вершине дерева – он проснется, упав!» Все держа это в памяти, перебирая в памяти тяжкие детали разлуки, я вошел во вновь отстроенный выставочный павильон, где должны были быть мои картины и где засилье ликующей парадной живописи не то чтоб удивило, или ошеломило, или напугало-озадачило, а просто толкнуло, еще больше словно унизило меня. Невыносимо как-то стало.
Ленин.. Ленин.. Ленин.. Ленин – вождь! Ленин, идущий по крови знамен. Ленин, орущий на меня с трибуны отверстым черным ртом. Ленин. Ленин… С детьми, с соратниками, с газетой «Правда». А дальше, в огромном зале-вестибюле, полотна одно другого внушительнее размерами: «Сталевары», «Доменщики». «Прокатчики». Женщины-трактористки. Геологи-землепроходцы. Буровики-нефтяники. И самые эти вышки, как увеличенные вышки несметной зоны… Лагерь… Социалистический… Тут он справлял свой праздник. И Чапаев тут был. И женщина – «Анка-пулеметчица»! Пулеметчица! Метательница ПУЛЬ! Господи?! Где же истина? Кто заблудился? Я – или ОНИ? Ходит вот, задрав голову, мой однокашник «трутень» Семенов. Знаю: он уже НАРОДНЫЙ!! Почти ВЕЛИКИЙ! На меня даже не смотрит, я для него никто, мошка… Даром, что когда-то сопел за моей спиной… Убелен сединами. Величав. Картины растиражированы «Огоньками» и «Работницами». Возле послушные журналисты, глядящие в рот искусствоведки… А поодаль партдама со свитой, и возле нее вьется-крутится бойкая крыса Замошкин, льется угодливой улыбкой. Картина его «Уральские ходоки у Ленина»! Мало, оказывается, серовских «ходоков», объясняющих гению, как он их обморочил. В той серовской, покопаться если, и смысл найдешь, в этой одна сплошная политура, смотрят на Ильича подобострастные охламоны – где он, Замошкин, такую натуру нашел? Глядь, и заслуженного схватит. Батюшки! И Лебединский тут – полотно едва не в стену длиной – «Ермак на Иртыше». И написано здорово, краски сияют, куда Васнецову. Лебединский единственный, пожалуй, из «трутней» вышел-выбился в настоящие живописцы, но хвалою обнесен – не та все-таки тема, мало этой самой «партийности». Постоял с ним, поговорили. «А ты что? Не представлен?» – «Как это? Две работы… Брали..» – «Не видел что-то..» – «Ну, давай, ищи. Может, проглядел я… Выставка большая… Министр обещал быть… Обкомовцы вон ходят. На окончательной развеске ты разве не был?» – «Не был..» – «Как же ты так?! Там ведь и запросто снять могли… Обком!» – побежал здороваться с начальством. Я же как будто понял – нет, видимо, на выставке моих «принятых» картин. Уж он-то бы, Лебединский, углядел! И все-таки, не веря своему предчувствию, иду… Иду из зала в зал. Иду – и везде это: домны, тепловозы, краны, шофера, работяги, сталевары, пограничники, герои труда и – нет женщин, женщины, есть только плакатные какие-то лаборантки, спортсменки, тоже сошедшие с плакатов, передовая доярка с видом глупее самой глупой коровы и заслуженная учительница, седая вдохновенная ханжа. Все. Где же ты, моя Надя? Надия? Моя первая и, кажется, последняя надежда? Нет тебя… И здесь ты сбежала от меня., и тут – бросила. «Сущность женщины – измена».. Как еще там сказано у этих индийцев? «Книга, жена и деньги, раз уйдя из рук, не возвращаются. Если же возвращаются, то книга истрепанной, жена испорченной, а деньги по частям…» Да, вернувшись, она совсем охладела ко мне. Две или три встречи… Ссора на ссоре. И вот расстались злые, разбегающиеся. И ясно мне стало – ей надо провести праздники без меня. Помнится, вначале даже вздохнул с облегчением. Кончено. Хватит. Надоело. Лопнет сердце. И чего мне ждать еще, перевалив за шестьдесят? Может, права и она? Зачем ей, двадцатипятилетней, я? Кому ни скажи, и всяк оправдает ее и осудит меня. Ишь чего захотел! Вечной любви! А то, что клялась, целовала руки, стояла на коленях – не в счет? Так ведь и я все это делал. Разве что не клялся, а просто – любил… Любил. Где же ты, моя картина? Надя-Надежда? Обошел все залы, большие и малые, и не было нигде… Ничего..
И вот, выйдя из выставочного павильона как оглушенный, – пробыл-проискал добрых два часа, – я опять в городской густеющей суете. И вдруг кольнуло-осенило: «Сегодня же 6 ноября! Сокращенный предпраздничный день! И сегодня, сейчас, я еще могу найти ее и, может быть, вернуть, сказать, что не могу без нее, что опять не взяли мои картины и мне надо ее участливое слово, просто слово. Господи, кто понимает, как нужно доброе слово, участие измаявшемуся в сомнениях художнику и как нужно тут именно женское слово… То, что картины мои – и даже пейзаж! – «забодали», уже не вызывало сомнения, даже на такой огромной выставке я не мог их не найти. Да, и пейзаж мой тоже, видимо, показался безыдейным. Там были сплошь пейзажи индустриальные! Или уж какой-нибудь «Седой Урал», или «Посадка космического корабля в уральской тайге» – и такой пейзаж там был! Господи, о чем это я? Надо бежать, торопиться… Я еще застану ее… И все расскажу… И она поймет… И мне снова станет легче. Легче пережить эту ссору… разлуку… праздники., которые я всегда переносил, переживал, как болезнь, как мученье… Я так привык к ней! Я ведь, может быть, все эти годы, когда уже накатывала та самая, без просвета, возрастная апатия, держался ЕЮ, дышал, ждал, встречал, терял и снова находил. Я писал ее и бросал кисти, но мне она была всегда нужна, даже после любой ссоры, даже после ее предположительных тайных измен… Найти ее сейчас… Она еще должна быть там, в этой проклятой прокуренной конторе! Скорей! Я бросился к трамваю. Пробился. Толпа внесла, вдавила меня в его тесное, душное нутро. Ехал, негодуя на каждую остановку, перескочил на автобус, на трамвай снова и – успел! Из конторы еще только начали выходить какие-то тошнотворные мужики, мужланы, с малиновыми рожами, принявшие первую дозу «праздничной», хамье и жлобье с матерным говором и такие же держаные, громкоголосые веселые бабешки, похотливое суетное племя обыкновенных простых людей, кому уже семьдесят лет втолмачивали, что они и есть соль и цвет этой земли, и завтра ИХ праздник, весь состоящий из дикой пьянки и примитивного блуда, от которого они неделю будут потом отлеживаться. Завтра ИХ праздник, который они уже начали сегодня в наспех оборудованных застольях. Все эти оживленные люди рассаживались по машинам, по ждущим служебным автобусам, жестикулируя, шли к трамвайным остановкам. Но ЕЕ не было среди них, и, превозмогая обычное свое отвращение к этой конторе, я забежал внутрь, в пахнущий цементом, соляркой и прокислым табаком коридор, заглянул в комнату, которую знал. ЕЕ не было. Значит, ушла раньше, уехала… Куда? С кем? Впрочем, может быть, и одна. Я не поощрял ее за эти бесконечные коллективные пьянки, и до поры она слушалась меня. Но все-таки что-то выше моего рассудка толкало меня бежать и искать ее, и снова, толкаемый этим предчувствием, я вылетел к трамвайной остановке и, будто уходя от погони, прыгнул в уже двинувшийся трамвай, туда, в ту сторону, к ее общежитию… Я даже не дождался привычной остановки, а выскочил раньше, чтобы напрямик, по заснеженным пустырям и картофелищам – так было скорее – добежать до ее дома. Вот они – три бетонные коробки-общаги, полные сутолочной густой, пьяной, одинокой, тошно коллективной и тоскливо буйной жизни. Я бежал туда, бежал, бежал, и сердце готово было взорваться. Вот он, второй дом, вот угол, надо завернуть, и я увижу ее окно. Окно ее комнаты на восьмом этаже. Вон оно..
Пасмурно. С отемненного неба идет редкий снег. Четыре часа дня, но уже смеркается, будто и в комнатах горят огни. В ее окне нет света. И значит, ее еще нет. Но я даже не успел обрадоваться, пока понял. Дома она! Голубым слабым сполохом мерцает включенный телевизор… Мой подарок… Все жаловалась – скучно без телевизора. Значит, дома – и я уже на лестнице. Лестница общаги! Заблеванная, прокуренная, век не метенная и не мытая. Коридор. И вот дверь. Чтоб унять одышку, остановился. Тихо галдит телевизор. Нет вроде других звуков. И колотится, дубасит в грудь сердце… Постучал. Нет привычных ЕЕ шагов. Нет голоса. Что? Заснула она, что ли? Постучал еще, заколотил в дверь, так что посыпалась, наверное, штукатурка. Выскочила соседка.
– Где она!!! – мотнул пьяно.
– Не знаю… – буркнула, тотчас скрываясь.
И по этому исчезновению понял – там она! ТАМ! И НЕ ОДНА! ТАМ БЫЛИ ЗАНЯТЫ. ТАМ любили…
Вынести дверь? Избить их обоих?! Вломиться, как буря? И все разнести? С моей-то сноровкой?
Но почему я повернул назад? Почему оглушенно спустился с лестницы? Почему, как слепой, держась за стены и ничего не видя, выбрался из подъезда? И еще зачем-то стоял, все не веря себе. Оправдывая ее. Вдруг куда-то ушла? И забыла выключить? Но я знал – такого с ней не бывает, не может быть.
Прошло непонятное время, и в темнеющем воздухе яснее сделалось дерганье голубого огонька там, и вот наконец неясная за шторой белесоватая женская фигура в короткой ночной рубашке (моей, подаренной!) показалась в окне и тотчас отпрянула. Увидела. Исчезла.
И тогда, совсем оглушенный, не разбирая уже ни дороги, ни следа, я пошел назад, к остановке, шел и рыдал, не боюсь этого сказать, рыдал, как впервые обманутый мальчик, – я взрослый, старый, битый жизнью мужик, художник, опять потерявший самое главное, то, что было, как видно, самой страстной и страшной, последней любовью.
Сошли праздники, и был еще один, самый тягостный уже после них солнечный день. Пустой и тихий. Не было ветра. И даже притаивало на солнце. А по крышам, приняв тепло за весну полошились голуби и галки. Тепло было. Но стоял ноябрь – месяц изменницы Луны и лукавого Нептуна.
С утра я бродил по городу, весь охваченный сосущей душу жаждой. Она никак не унималась, эта проклятая жажда. Никак не унималась. И даже тянуло вновь поехать туда, чтобы словно еще и еще пережить свое унижение. Я знал, что там в окне опять трепещет и гаснет тот огонек и, наверно, опять любят друг друга на софе, которую мы вместе с ней покупали, или на том ковре-паласе, куда она, бывало, меня стаскивала, чтоб не слыхали соседи.
Нет, я не поехал, потому что точно уже знал, с кем она изменила мне, по-обидному пошло, как секретарша с начальником, и что все это началось еще до Ялты и теперь уже напрочь отделило ее от меня. Машинально я шел бесконечно длинной улицей к своему дому, к мастерской, и шел долго, медленно, собирая и обдумывая все, что узнал и понял за эти бесконечные праздничные дни, когда я то до одури хлестал водку и драл на себе рубахи, то впадал в забытье, равное прозрению, и, проснувшись, пытаясь опомниться, пил снова. Я шел к дому, пока что-то не остановило меня, и я понял, что это телефонная будка с выбитыми стеклами. Что остановило? Зачем-то я решил позвонить в Союз художников. Узнать, где мои картины. Был выходной, и это был безнадежный звонок, но мне почему-то ответили. Дежурная. Я спросил телефон председателя правления. И она ответила, что в праздники он просил его не беспокоить. «А в чем дело? Кто спрашивает?» Я назвал себя.
– Хочу узнать, что с моими картинами. Они были приняты на выставку.
– Ах, это вы? Так я вам отвечу. На окончательном заседании отборочной комиссии ваши картины отклонили. Комиссия посчитала их недостаточно идейными и не новыми по композиции. Такое тут заключение. Вы можете их забрать. Они в Союзе.
Я очень медленно повесил трубку. И вышел из кабины. Трамвай, полупустой и гремучий, пробежал мимо меня. Он приостановился на остановке, но совсем не для того, чтобы меня подождать. Двери закрылись, и он ушел. Так у меня было не раз во сне. А может быть, и это был сон? Вся моя жизнь, все ее стремления и вся маета?
Я вдруг понял, почти радостно, что мне надо делать. Понял это освобождающе и ясно, как бы глядя на все удаляющийся трамвай.
Я побежал вдоль линии, как бегают потерявшие рассудок люди и собаки. Машины на шоссе и трамваи, несущиеся слева, со звоном обгоняли меня. Я бежал и все ждал, вот лопнет сердце, и я упаду, и тьма, уже словно застилающая глаза вместе с заливающим их потом, закроется, и все кончится, кончится раз и навсегда. Но я бежал и не знаю, почему этого не случилось.
Я добежал до дома, бегом поднялся по лестнице на свой этаж и только здесь, роняя ключи у двери, упал. Но я был жив, и мне было что-то еще надо. Очень надо… И потому я оставался жив. И наконец открыл дверь. Я бросился к своему столу, где лежали мои тетрадки, все тетрадки, в которых, одна за другой, я написал за последние три года все это – всю мою жизнь. Я сел к столу и стал писать вот эти последние страницы.
Теперь я обвел взглядом свою мастерскую, свою недописанную картину, где Венера с еще не найденным лицом выходила из бушующей пены, и вспомнил, что из всех веществ, какие есть, мне сейчас нужнее всего пинен, очищенный скипидар и разбавитель, который поможет мне решить все. Эти голубые пузырьки стояли в ванной, и я собрал их, чтобы, скрутив пробки, вылить на мои картины, холсты, на шкаф, где они стояли. Я не стал плескать скипидар на стены, и на ковры, и на эту недописанную мной мучительницу Афродиту. Все равно ничего не уцелеет и не должно уцелеть. Запах скипидара и нефти я вдыхал как нечто пьянящее. Пока дописывал эти строки.
А дальше я открыл дверь в лоджию. Сейчас я возьму спички, весь коробок. Зажгу и брошу его в залитый скипидаром шкаф. Возьму эти тетради – их с собой – и несколько времени буду смотреть, как веселым, голубым и радостным огнем покроются и растворятся мои муки, слезы, поиски и находки. Все эти мои женщины и мои страдания, от которых теперь я свободен. Да, свободен от Каиновой печати лагеря, от моих удач и неудач, от Афродиты, Евы, Надежды и от моей последней, несбывшейся любви.
И вот распахнуты створки. Я ничего не боюсь. И ничего не хочу. Сейчас я шагну вперед. И буду совсем свободен..
12/XI 1993 г.
Было тепло. И даже таяло на пригревах. И на отвесах крыш копошились голуби и галки. Стоял ноябрь – месяц изменницы Луны и лукавого Нептуна…