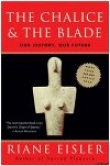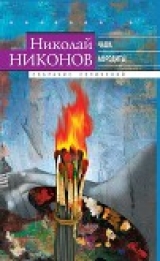
Текст книги "Собрание сочинений в 9 т. Т. 8. Чаша Афродиты"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Глава IV. ЕВА
К картине я готовился долго. Все ждал будто какого-то толчка. А в сущности, наверное, художник пишет только те картины, какие заповедал ему написать задолго до рождения САМ ГОСПОДЬ БОГ! Уверен я, что Шишкин не был бы Шишкиным, не написал бы свой «Лес», «Рожь», «Сосны», если б заранее не был включен в Божий Промысел. И точно так же не стал бы Левитаном Левитан, Энгром Энгр, Ренуаром Ренуар. Почему я так думал – не знаю. Знаю только, что весь мой путь, моя судьба и мой обостренный поиск женщины и женской красоты были вложены в меня КЕМ-ТО. Этот КТО-ТО вел через все мои испытания, сомнения, искушения к одной цели: написать только те картины, которые ОН мне поручил. Их было много по сюжетам, они томились в моей памяти, толпились, как толпятся просители в приемной важного лица, ждут решения своей судьбы. Я хотел бы написать все типы женщин: всех этих красавиц, блудниц, соблазнительниц, ведьм, толстушек, продавщиц и официанток, юных девственниц и девушек с панели, написать, как писал Дега, – в ванне, в постели, за стиркой, прилавком магазина, улыбающихся, плачущих, лишенных невинности, яростно нападающих на своего мужа, любовника, моющих пол, присевших на корточки за нуждой, да мало ли где, когда, в каком немыслимом месте и повороте желала и жаждала их изобразить моя томящаяся кисть.
Карандашом, по памяти, всякий день добавлял я новые и новые наброски. Папки пухли. Но я никак не мог выбрать сюжета, найти то захватывающее и единственное, что как озарение ждал.
Может быть, в своей работоспособности я превзошел всех художников, рисовавших женщину, всех Дега, Модильяни, Кустодиевых и Мессии. Периодами я просто уже смеялся над собой. Захотел объять – необъятное!
Странно при этом, что любил и хотел написать я всегда только полных, толстых и очень полных женщин. Ренуар, наверное, предвосхищал меня, а его предвосхитил Рубенс. А продолжил Энгр. Мне же хотелось идти еще дальше: писать каких-то невероятных женщин, таких, чья скрытая и страшная, по-видимому, сексуальная сила вмещалась в могучие, сверхмощные тела. Расхожая глупость: все «толстые– фригидны, им ничего не надо, их нервы заплыли жиром» – есть выдумка тоскливых, бездарных слабаков, импотентов, способных на двухминутное горение, сексуальных лодырей, что храпят уже, едва справив свою нуждишку. Знал по Наде, что полная и зрелая сто очков дает вперед любой худощавой нимфоманке, дайте только полной женщине могучего и любящего ее полноту самца. Такого, чтоб мог без устали, яростно, диким жеребцом, наслаждать, щипать, шлепать, в экстазе пороть ремнем ее ненасытные бедра, сосать ее мощную раковину-вагину, накручивать на руку ее длинные волосы и – обладать, обладать, обладать, меняя вдруг натиск оголтелого, ненасытного насильника на нежное, плавное, до кончиков спинного мозга доходящее скольжение, движение, когда эта с виду неповоротливая, розовая, белая и сладостно раздвоенная округлость будет сама плавиться и таять, рыдая и пристанывая, истекая слюной обоих своих ртов, присасываясь с нежностью пуховой молочницы и насыщая неиссякаемой энергией громадного, пышного тела.
Все это я знал, а если не знал, то чувствовал, догадывался, когда смотрел на этих неразбуженных и даже не знающих своей страшной необыкновенной силы женщин, погруженных в привычно-тоскующее бытие, полуотверженность, озлобленность и следующую за озлоблением холодность, холод, безразличие отупевших чувств.
Полные лишь немногие сами знают и ощущают свою силу и счастье. Все здесь зависит от мужа, любителя, – МУЖИКА, которые еще более редки, чем сами полные женщины. Но когда такое встречается – счастье огромной женщины и ее обладателя безгранично. Это самые счастливые пары на свете, но как мало их!
Размышление это постоянно ломило мне голову, когда я вспоминал эпизоды своей ненасыщенной, голодной жизни. Но голод ведь как раз и обостряет чувственность, и заставляет думать, и заставляет искать.
Должно быть, такое и было заповедано мне: вечный, непреходящий голод, который я очень странно пытался утолить – искал женщин, женские типы и даже не пытался знакомиться, не делал никаких шагов к сближению. Словно бы я откладывал это знакомство на будущее, словно бы забыл едкую зэковскую мудрость: «Не оставляй пайку на завтра, а… на старость!»
Часто грубая эта пошлость приходила мне в голову, когда я вспоминал эпизоды своей жизни и то, что доводилось видеть и знать. Как-то, собирая книги для своей рабочей библиотеки, – тогда я работал и деньги более-менее водились, а покупал-искал самое-самое! – я познакомился с женщиной-«книжницей». Странный сорт таких женщин встречается среди нимфоманок, девочек-«нимфеток», лесбиянок-«мужиков», поэтесс, женщин «с приветом», «с пунктиком», синих чулков, а также просто краснорожих дур, ищущих Агату Кристи и «Анжелику» и собирающих все это дерьмо в одинаковых (по цвету) переплетах. Женщина, с которой я познакомился, была недурного вида, но явно озабоченная поисками надежного мужа-книголюба, и я при знакомстве оказался просто пробным шаром: «А вдруг?» Никакого «вдруг» в таких случаях обычно не происходит. Закоренелые в своем одиночестве, в поисках тех единственных, кого давно отпустили и даже не находили никогда, мы сразу поняли ненужность нашего знакомства, однако, по инерции, оно еще продолжалось. И тут как-то, во время очередного похода за книгами на «яму», так называлась книжная толкучка за городом, у насыпи железной дороги, моя компаньонка – назову ее так – познакомила меня со своей подругой, также возымевшей желание покупать книги. Если компаньонка была фигуриста и по-женски привлекательна, то подруга ее оказалась совершенно бесформенной толстухой – круглый шар белейшего и нежнейшего женского мяса, в свою очередь весь состоявший из полушарий, окружностей и пухлых, молочного цвета, валиков. Подруга эта была одета в легкое темного цвета крепдешиновое платье. Жоржеты и крепдешины, кстати, удивительно идут сверхполным женщинам, и я это не один раз замечал. Вот ярко помню – шла-двигалась куда-то, явно в гости, молодая пара (может быть, и впрямь молодожены) – тощий парень-мужик и рядом с ним, собственно так держась за его руку, женщина пропорциональных, но совсем чудовищных по объемам форм, вся сотрясалась и колыхалась при каждом шаге, переливаясь бесстыжим медузным движением бедер и ягодиц под черным, развевающимся на ветру, просторным жоржетом. Сверхсамка. Сверхъестественность женской плоти. Но если эта, которую я тотчас вспомнил, была пропорциональна, то подруга моей «книжницы» была абсолютно бесформенна, просто толстенная девочка-пампушка с девичьим личиком и еще не потерявшим прелести невинным взглядом.
Трамваи тогда, как на грех, не ходили, и мы решили идти на «яму» пешком (кварталов семь, если не более!). День был знойный, июльский, постепенно накалялся, и если мне жара нипочем, и ее стойко переносила упомянутая знакомая, то подруга-толстушка совершенно раскисла, изнемогла, и в конце концов нам пришлось присесть на отдых в тени наклоненного провинциального забора. Сели на траву. Толстушка стонала, задыхалась, на невинном личике мрело страдание. Но она мне была приятна даже этой своей немощностью. И я завидовал мужу «лягушки». На пухлом пальце сияло широкое, яркое, втиснутое в плоть кольцо, которое явно было никому никогда не снять. А спустя какое-то время моя недолгая знакомая рассказала про подругу, что та, несмотря на полноту, очень любима, муж в ней не чает души, заботится, как о маленькой, едва на руках не носит (если б было возможно – носил бы!), и все время они ненасытно совокупляются. Днем, ночью, утром, вечером, чуть не по десять раз в сутки. Дама сказала об этом деликатно, усмехаясь, но так, чтобы я все понял. «Вот вам и толстая, и формы, никаких, можно сказать, а как любят!» – посетовала она, явно страдая, что опять, видимо, все рушится, знакомство тает, а я подумал: будь на ее месте эта, к сожалению, накрепко замужняя толстушка, я бы, наверное, делал то же самое, что и тот неведомый счастливый муж. Обладающие толстыми не ведают часто своего явного счастья. А те, кто смотрят со стороны, не знают его сами.
Я искал полную и молодую для задуманной первой картины «Ева». Мне надо было какую-то удивительную и особенную. Сочетание чего-то такого, что я не находил никак. Я даже не знал точно к а к у ю, но художественное мое чутье (чем не собачье?) отвергало все, что я видел, – все было не то, не та, не те. Есть в карточной ворожбе такая – пустые хлопоты…
В поисках этой неведомой женщины-натуры я слонялся все лето по пляжам, заходил в магазины, торчал в учебное время у подъездов институтов и техникумов, зимой и осенью мок и мерз на транспортных остановках – ничего, нигде. Еще хуже было бездомно бродить по улицам, впустую, потому что нет хуже места для знакомств – улица, хоть именно на улицах и встречаются красивые. Еще чаще есть они на вокзалах и в аэропортах, но там так все озабочены, все в отъезде, в отлете, в будущей судьбе, что знакомства тоже несбыточны.
И все-таки, снедаемый тоской по натуре, по женщине моей задуманной мечты, скажем так театрально-высоко, я забрел как-то на автовокзал, где кишела обычная пригородная жизнь. Автобусы фырчали, подкатывали и трогались, обдавая толпящихся под бетонными навесами синим тошно-масленым выхлопом, люди прели на лавках, курили, жевали, стайками болтали девчонки – тупые, пустенькие личики будущих продавщиц, поварих, ткачих и просто замужних дур. Мужчины были редки, больше парни, жующие жвачку, да пригородные пропитые мужичонки, истасканные, как шелудивые собаки. И такой же пропитый, веселый, положив кепку на асфальт, пел, подыгрывая на трезвучном баяне:
3-запо-ля-а-ми, ле-са-ми,
за пасекой
Н-не уй-ти ат задум-чи-вых
гла-аз!
Тем… кто дер-жит свой ка-а-мень
з-за па-зухой,
Ох, и тру-уд-но в дя-рев-не
у на-а-ас!
В кепку кидали медяки-рублевки.
Мужик снова и снова повторял припев.
Я прошел под навесом вокзала, мимо лавок, мимо скучающего мента, явно с удовольствием прислушивающегося к ладному пению мужичонки и явно боровшемуся со служебным желанием прогнать певца, и уже хотел повернуть обратно, как вдруг просто обмер от неожиданности. Передо мной на краешке лавки, приспустив явно не вмещавшееся на край бедро, сидела юная и прекрасная Ева! Именно это имя-определение сразу пришло мне на ум, ибо девушка, даже, пожалуй, девочка была прекрасна в своих женских формах, кругло обозначившихся под простеньким прямого покроя розовым одноцветным ситцевым платьем. Толстые ноги девушки-девочки были совершеннейших форм, бедра округло-мощно поднимались и плавными дугами натягивали подол короткого платья, высоко открытого над прекрасными круглыми коленями. Но самое замечательное у девочки – было лицо! Полускрытое челкой и как будто ничем не классической формы, оно было воплощением совершенно ошеломляющей женской нежности, чистоты и ласки. Такой красоты – не макияжной, не накрашенной, простой-простейшей, мило-нежной, будуще-бабьей, очаровательно-мягкой, улыбчивой – я никогда не видел. Прямые, слегка золотящиеся волосы покрывали девочке всю спину, спадая до мощных бедер.
Господи! Боже! Это было, кажется, первое явление мне совершенной и пленяющей будуще-женской красоты.
Девочка доедала яблоко. Ела тоже по-женски, спокойно, умело, со вкусом.
– Господи! Боже! – кажется, теперь прошептал я, глядя на нее, не решаясь стронуться с места. Это же готовая натура для моей Евы! А волосы! И распущены так просто-первобытно! Ева! И такое прекрасное лицо! Е-ВА!
Я так глупо-нагло, наверное, уставился на девчонку, что она заалела, но все же неторопливо (очевидно, она вообще не умела торопиться!) доела яблоко, бросила грызок в недальную урну и, достав из кармана кукольный, с кружевцем, платочек, по-женски, умело вытерла губы и пальцы. Господи! Пальцы! Какие совершенные пухло-белые, нежные, толстовато-прелестные пальцы! Каждый был произведением искусства! Каждый ее пальчик!
Как подойти к ней?! Как?! Кто она? Я не имею права ее упустить! Пусть я старше на тридцать лет. Я не имею права ее… Сесть рядом? Но как? Все места заняты, а я как пень стою и смотрю на нее в упор (как тот дурак на пляже на тот женский живот!). Может быть, я даже молился кому-то, чтоб освободилось место. Женский голос в официальной форме объявил посадку в какой-то автобус, и, к неописанной радости! – дядька, сидевший рядом с моей Евой, МОЕЙ богиней, что-то по-кроличьи жевавший, торопясь, сунул еду в карман, встал и пошел на посадочную площадку, и я ястребом спикировал на его место, сел и тотчас ощутил тот блаженный, расслабляющий ток явно родного мне женского тела, какой испытывают далеко не все и весьма редко, лишь когда встречаются женщины с идеально совпадающей аурой, и такое бывает раз-два за жизнь. – совсем не встречается. Кто знал и чувствовал это внезапное, сладостно-томящее, приручающее без обмана теплоизлучение? Бывает, оно узнается даже на расстоянии. У кого так было?
Обычно застенчивый, неумелый и робкий, я вдруг превратился в свободного, отвратительного ловеласа и тут же спросил у девочки о чем-то незначительном и как-то просто поинтересовался, куда она едет.
– В Сысерть! – охотно отозвалась девочка-девушка. Мы с мамой едем. К бабушке.
– А мама? (В смысле – где она?)
– Мама здесь, ушла еще яблок купить.
– Вы, наверное, поступать ездили? Или на подготовительные? – подкатывался я.
– Нет. Я еще учусь. В школе.
– В школе? – притворное изумление. – А в каком классе?
– В седьмой перешла.
«В седь-мом! – про себя удивился. – Вот это девушка! Я, по крайней мере, думал…»
– Я думал, вы в девятом-десятом!
Господи! Что за чушь-дичь я ей плел! Я болтал первое, что приходило в голову. Я пел соловьем, разливался дураком-приставалой. Но она слушала меня терпеливо, и я весь ушел в любование ее неясным лицом, волосами, струящимися до колен, когда она улыбалась, поворачиваясь ко мне. Спрашивал, как она учится, что любит, рассказывал зачем-то о своем детстве, про школу, которую всегда ненавидел. Сравняться я, что ли, с ней хотел? А девочка тихонько поддакивала, глядела улыбчиво. И все радостнее убеждался – родная, близкая мне душа! Господи! С разницей в тридцать пять. Может, и больше. Осторожно спросил, откуда она.
– Из Бреста! – ответила-огорошила.
– Из Брес-та?! Но… Как же вы… Вы здесь?
– Я на лето к бабушке в Сысерть приезжаю. Мы с мамой. Мама у меня из Сысерти.
– И… И когда же вы., обратно..
– А вот, наверное, двадцатого или двадцать третьего. Поезд так..
В это время подошла не слишком красивая, совсем не похожая на дочь, чернявая женщина. Покосилась подозрительно. Но все-таки, видимо, не захотела отозвать дочь от приставалы-мужика (а скорее, не сочла возможным такое. Согласитесь: пятьдесят и тринадцать?). Еще раз оглядев, не найдя криминального и беспокоящего, мама уселась на лавку поодаль.
Мы продолжили разговор. «Хоть бы дольше не приходил автобус! Хоть бы дольше! – думал лихорадочно. – Уедет – и все тут». Правда, есть маленькая зацепка: уедет-то поездом на Брест. И я могу ее еще встретить (глупая, безнадежная мысль). Никогда так не поступайте. Не надейтесь на чудо!
– А вы кто? – поняв мое молчание как потерю, вдруг чутко спросила она.
– Я? Я – художник! – ляпнул напрямик.
– Я почему-то так и подумала.
«Подумала», – нежно пронеслось во мне.
– И еще у вас руки в краске.
– Правда?
– Немного.
– Не отмываются… Уже…
– А вы? Что собираетесь после школы? Замуж?
– Ну… – заалела.
– Хочу поступить в здешний институт иностранных языков.
– Правда?! – глупо обрадовался.
– Да. Здесь. У нас, в Бресте, нет.
– Как бы хорошо!
– Почему?
– Я бы вас встречал и рисовал. Ваш портрет.
– Разве я., красивая?
– Очень! Удивительно красивая!
– Ну… Вы скажете! – она повела челкой. Откинула струящееся тяжелое покрывало волос. – Я такая полная… Толстая даже..
– Это ваше великое счастье!
– Скажете..
– Да! Счастье! И вы никогда не стесняйтесь своей полноты. С ней вы – красавица!
Я, кажется, попал в точку. Девочка, конечно, понимала и ценила свою необычную красоту. Но кто говорил ей об этом? Скорее всего, ее упрекали за полноту, а может, и смеялись, дразнили.
«Как бы узнать хоть ее адрес. Писал бы… Ждал… Как бы».
Но автобус теперь уже неумолимо фырчал на площадке для пассажиров. Люди выстраивались в очередь на посадку. Девочка встала и оказалась еще прекраснее.
– Как вас зовут? – с отчаяньем спросил я.
– Ксана, – пробормотала она очень тихо.
– Как?
– Оксана! – погромче повторила она.
– Вы точно уедете?
– Скорее двадцать третьего.
– Оксана! – позвала мать, уже стоящая в очереди. И все кончилось. Моя Ева пошла, поправляя платье-рубашку, переливаясь тяжелым золотом волос по спине.
– До свидания? – нежная улыбка на прощание. МНЕ.
И последний раз я видел ее невыносимый торс, ее полные ноги, ягодицы, округлившие платье, когда она ступила на подножку автобуса. Волосы-волны закрыли всю спину.
Оксана-Ева уехала. И больше я никогда ее не видал, хоть приходил на вокзал и двадцать третьего к поезду на Брест. Как одержимый бегал вдоль вагонов. Еде там! Или не видел? Или не встретил? Было даже дурно. Потерял Еву! Но где-то же есть она и сейчас? И все коплю надежду ее встретить. И даже думаю – вдруг когда-нибудь найдет-прочитает это! И меня найдет! Оксана! Напиши художнику, который говорил с тобой в ожидании автобуса на Сысерть!
А тогда, чуть не бегом, вернулся в мастерскую и по свежей памяти (чем свежее память, тем лучше! Заметьте, художники!) нарисовал, написал свою юную Еву, Еву до встречи с Адамом. Не верю я в Адамово ребро! Она родилась как-нибудь иначе. И сразу все мне удалось! Оксана-Ева сидела вот так же: волосы до бедра, густая челка, милое женски-девичье нежное личико. И то, еще не съеденное и не предложенное Адаму яблоко. Как хорошо, что она съела яблоко сама! Картину «Ева» я написал за три дня и оставил у себя. Я никому, никогда, ни за какие деньги ее бы не продал. Художники знают такое. И еще: я не сделал бы с нее ни одной копии, не позволил бы снимать никаких репродукций! Ева была первая моя женщина, первая картина этого цикла. Как первая мучительная и незабываемая никогда любовь. И подпись. Название поставил: «Ева», на обороте «Оксана», Оксана из Бреста! Не скрою, и годы спустя я приходил на эту остановку, сидел на скамье и даже говорил с воображаемой Евой. Я надеялся на чудо. Но чудеса редки и чаще вообще не случаются. Если бывают вообще… Если бывают вообще..
Не было у меня Оксаны. Но теперь еще больше я страдал от нового поиска натуры. Новая картина зрела, копилась во мне, ждала толчка, новой ошеломляющей находки.
Пока такой не было, я снова писал наброски. Например, беременных женщин. Удивительно или нет, что нравились женщины «брюхатые», «пузатые», «обремененные», в том положении, которое кто-то не зря назвал «интересным», а кто-то глумливо «декретным».
Такую очень молодую женщину я встретил в универмаге, стояла в очередь, терпеливо держа-снося свой живот. Милая, добрая, явно сельская или поселковая. И я чувствовал ненависть к ее мужику, пустившему маяться по очередям, давиться по магазинам такую красоту, что будь у меня, не отпустил бы ни на шаг, ласкал, целовал ее круглый, вздутый живот, дрожал бы над каждым шагом! Она тоже была склонна к полноте, но беременность лишь дополняла это, придавала несказанное очарование.
Другую беременную и совсем уже иную, носатую, греческую, с обликом изощренной гетеры с какого-нибудь античного фриза, я встретил на рынке. Она продавала с машины поросят. Типичная картина для рынка, где продают коз, свиней, петухов, голубей, птичек и рыбок. Тертый, битый «жигуль», открытый багажник, где возятся белесые поросята. Молодой мужик-охломон: крепкое лицо, крепкий крытый полушубок, крепкая шапка, собачьи унты, и эта баба под стать ему, поселковая деловая Афродита (если бывают такие? А бывают!). Стояла, отставив крутой зад, выставив мощный живот. Как часто мне попадались отменные красавицы, и сплошь беременные. Баба стояла с улыбкой всезнания, с выражением глаз какой-то хищной птицы, вообще «птицы». Вам не встречались женщины с ястребиным, куриным, вообще неподвижно-птичьим взглядом? Так она и стояла, все время сознавая свою плотскую, тянущую мужиков красоту, ибо ни один, даже ледащий пропойца-доходяга, не шел мимо, чтоб не покоситься, не обвести хотячим глазом, не кинуть вслед слюнявую шутку (самые смелые). Обладатель гетеры не то уже привык к вниманию, не то все-таки злился, потому что время от времени садился в машину, пытался запустить капризный, сношенный мотор и наконец все-таки завел. Тогда он со злобой хлопнул багажник с непроданными поросятами, баба едва втиснула на заднее сиденье все свои округлости. Дверки захлопнулись, и мне осталось лишь дома набросать всю эту сцену, испытывая какое-то злое, отравное удовольствие в изображении великолепной и, должно быть, все-таки грешно распутной бабы.
Жизнь продолжалась. Но как ни тянул я свои убывающие капиталы, пришел день, когда мне снова было нечего есть. В смысле: не на что купить. Снова на завод, к печам? Да ни за что на свете! Опять куда-то «ишачить», грузить бревна, уголь, гвозди, ящики с мылом или писать плакаты и лозунги? Властные лики почти небожителей? Кажется, я мог бы рисовать их с закрытыми глазами – все эти галстуки, подбородки, «орлиные» взгляды, сплошная уверенность, непоколебимое бессмертие! Так это, наверное, им самим даже казалось.
О, безденежье! Эти горькие и сладкие деньги! ДЕНЬГИ. Вы спасали меня и давали возможность быть самим собой, и вы же доставались мне таким путем, от которого я бежал, который клял, и даже зарекался уходя: никогда не пойду в эту тоску и скуку! Главное было даже не в запахе металла, мазута, не в шуме машин. Будь я один и подчинен только самому себе – работал бы и даже неплохо, наверное, справлялся. Главное было – неподобные мне люди, эти приказы, всякая подчиненная зависимость, режим «от» и «до», проходные, заборы с колючкой, и опять будто зона, лагерь, лагерь, лагерь… От него я никак, уже двадцать с лишним прошло, не мог освободиться, забыть, не держать в памяти. Лагерь… Лагерь. Гу-лаг!
В отчаянии от этих метаний я как-то собрался с духом и решил найти Болотникова. Может быть, посоветует. Я нашел телефон, позвонил. Глухой, показавшийся не слишком бодрым голос ответил. И мы договорились сразу встретиться, хотя я даже был не готов к такой встрече, – тащил в мастерскую найденный на дороге сосновый брус – хорошая штука для подрамников, если распилить его вдоль. Брус, должно быть, потеряли, когда везли на лесную базу, а Болотников жил тут недалеко, может вполне так быть, что потому я и вспомнил. Нужда не знает приличий. А к Болотникову я бросался всегда, как к спасательному кругу. Так уж мы погано устроены.
Он пришел ко мне, когда я сидел на этом брусе, и усмехнулся, здороваясь:
– Ты похож на Сизифа, влекущего камень! Да, пожалуй, это типично. Каждый стоящий художник – Сизиф и Прометей. И крестный путь на Голгофу – тоже наш путь.
Он сел со мной рядом на бревно. Мы походили на потерпевших кораблекрушение.
– Как жизнь? Знаю. Не говори. Нет женщины. Нет денег. Нет заказов. И скоро не на что будет покупать хлеб?
Читаю на челе. Не обижайся. Сам я так жил какое-то время. Вкалывать не хотел. Мест нигде не находилось. Жил на собранные по паркам бутылки. Да, собирал… А попутно смотрел на любовь в кустах. – Он усмехнулся. – Тебе могу сказать. Грешен. Да грех ли это еще? Надо спросить. А у кого? Кто не грешен-то?
– На вас, Николай Семенович, вроде не похоже.
– Не похоже… Я ведь тоже был молодой, алчущий. Что ты? Пропустить сцену соития? Какой грех! Да с детства ими грезил. И ты тоже! Знаю. И все мы! Особенно художники. Ты знаешь, какую сексуальную женщину я однажды видел, даже не столько ее, а ее орудие! Подвинься, сяду как следует, расскажу.
Он устроился рядом поудобнее. И теперь для прохожих мы были просто два усталых мужика, присевших отдохнуть на свою ношу.
– Так вот… Самое совершенное женское орудие я видел в самом, понимаешь, неподходящем месте. Впрочем, почему не подходящем? Туда все ходят. А мы – мальчишки, подростки, голодные до женщин, даже разыгрывали – кому. Строение, позволявшее утолять наш голод, было, понятно, на два отделения. И вот заберешься, бывало, ждешь, трясешься, а приходят одни старухи с геморройными задницами. Но зато когда придет девчонка! Или зрелая баба – это уже пир! Потом рассказываем друг другу. Вот так, помню, и пришла однажды литая, мощная, молодая баба. Наверное, тридцать не будет. Зад – выше всякой меры! Формы! Совершенство! Белизна! Розовость! Все это я, друг, увидел. Но дальше! Дальше, друг мой, я обозрел такую великолепную присоску, такой инструмент с цветком-нарциссом, такую раскрытую розовую устрицу, что не забуду вовек! Никогда! Знаешь, еще приходило в голову даже такое написать! Да. Написать женскую раздвинутую вагину такой вот красавицы! Господь? Это грех или нет? Ведь я хотел, чтоб была поражающая всех кар-ти-на! Может быть, главная суть женщины?! Ах как я хотел написать эту картину. Но картину ведь – должны видеть. Ее должны видеть как можно больше. Иначе – ее нет! Понимаешь? Нету-у! Картина – это ведь отраженный зритель. Искусство не может жить для искусства. Все эти утверждения – ложь, немощь, глупистика! Их выдумали творческие импотенты и жалкие извращенцы! Те, что жили впроголодь и пытались эпатажем завоевать публику и покупателя. А в общем, никого не виню. Что мы за жалкий народ? Художники. Когда мы жили по-человечески? И я – тоже? Ведь художнику надо бы жить совсем по-иному. В добротном доме, с розовой экономкой, которая удовлетворяла бы тебя каждую ночь. Ладно. Это я так: поплакался тебе, как близкому. Сказал бы, «как родному». Одесса. Ну, что ж? Без денег ты. Это неоригинально. Но есть путь, место. Там нужно делать официальные портреты. Владимира Ильича. Ну, те самые, которые в каждом кабинете. Над креслом шефа. Противно? Ничего… Деньги не пахнут. К тому же ты можешь неплохо заработать. Хотя платят скупо, рублей сорок или шестьдесят, но сделай трафарет. Количество. Пусть и без качества. Вот, слушай, я знал одну милую женщину. Дочь профессора. Умница. Красивая. Единственная. А вышла за жлоба, подонка. Он – якобы писатель. Он и писал. Но лодырь, нахал – феноменальный. Нигде не служил. Бабенка высохла, избилась вся. Но оптимизма не потеряла. И вот такой разговор. Он у них уж и столовое серебро пропил, и так, что под руку, из дома тащил. Вот разговор: стоит она, бедненькая, перед ним и говорит: «Ну нет денег! Что делать? Хоть на панель иди». А он покуривает, развалясь, нахал, и говорит, хам: «Да кто за тебя больше трешки даст?» – «А три, да три, да три?!» – усмехаясь сквозь слезинки, она. Сам слышал. И вот ты: делаешь трафарет. Глаза, брови, нос, усы, бороденка. Абрис плеши, галстук в крапинку. Пиши! Канон нарушать нельзя. Стандарт! И все! Иди. Вот адрес! – достал бумажку, – Дерзай. Может, еще Никиту подбросят писать или бровастого этого. Чего тебе? Живые деньги. С них можешь не только кормиться. Конечно. Не творчество. Но что делать?
– А как хоть вы живете, Николай Семенович?
– Как? Хм. Все глуше, все тише мое бытие… Стихи бы с этого начать… Был бы поэтом. Писал. Бод-лер! Знаешь, недавно купил этого Бодлера. Чушь! Великая! Или вот – Хлебников. Ве-ли-мир! Покупаю: «Творения»! Листаю: Дичь! Дурь! Немощь! Амбистика и Глупистика! Хлебникова этого один сноб, знакомый, порекомендовал. Потом я его, сноба этого, спрашиваю: «Ты что за чушь мне нахвалил?» – «Какую?» – «Да Хлебникова этого!» – «А я, – говорит, – его не читал!» Ххо-хо! Вот так… Благословляю, Саша. Иди путем Ильича. Не угрызайся. Великие писали и пишут! И скольким он дает хлеб! Ты знаешь – я болтлив. Я все больше становлюсь похожим на старика Дега. Дега этот был жутко одинок. Жил десятилетия в одной квартире. Правда, была у него экономка с каким-то зоологическим именем: Зоэ? Мезозойская эра! Так вот. Потом дом, где он жил, не то снесли, не то стали перестраивать. И он вынужден был уехать. Но на другой квартире не мог прижиться и все бродил по Парижу, приезжал на то место, где жил, и смотрел сквозь забор. Я всегда помню об этом. А наш дом тоже собираются перетрясать. Не знаю, как это я вынесу. Жить в другом месте? А еще Дега ездил на тогдашних подобиях трамваев, на самых тесных площадках из конца в конец. Что это? Да. Все мы – Дега. И жизнь наша такая. Ну, ладно. Прощай. «Будем идти, пока не свалимся! Но идем, идем!» Бунин это. Прощай.
Он предложил мне помочь тащить бревно, но этого я сам бы никогда не позволил: что вы? Донесу. Не тяжело. А сам видел, ему бы и не помочь мне. Выглядел он плохо.
Я потащил брус в мастерскую. А Владимир Ильич Ленин вскоре начал исправно снабжать меня деньгами. В художественных мастерских я получал заказ на месяц, делал его за три-четыре дня. В остальные был свободен, и теперь у меня пока было на что купить хлеб. Я снова начал писать сюжет большой картины.