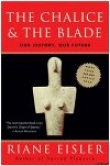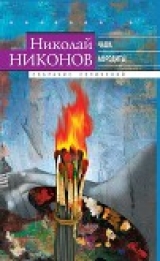
Текст книги "Собрание сочинений в 9 т. Т. 8. Чаша Афродиты"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
А в общем, жила и живет и опять ждет отпуска, отлучки, чтоб туда, в Сочи, в Анапу, в единственное счастье и бегство от самой себя, грубых выросших детей, тошной свекрови, лгущего супруга, которому без раздумий и угрызений будет там, на курорте, наставлять рога (все равно квиты!), прокрутит бурный «роман» с таким же, как и сама, и муж, свободным на месяц, чтоб в последние дни, охладев и как бы угрызаясь, покупать на сэкономленные за счет «временного» подарки и ехать в пыльном, усталом поезде со скучными соседями, раздраженно припоминая в себе весь этот отдых, замыкаясь на мысли: «Скорей бы домой..»
Женщина скрылась, помахивая подолом с продуманной оборкой, повиливая плоско-толстым, несовершенным задом. А глаз мой уже останавливался на новой, идущей мимо, чтобы задать мозгу порцию стремительной работы, отсчета и пересчета, прикидок и решений, которыми я наслаждался, как следопыт, эпикуреец или следователь, дразнил какое-то дальнее сознание: не написать ли вот и такую картину-портрет? «Женщина». Чтоб все, что я подумал и придумал, было там ясно, и все увидели и поняли, а не я один. И чтоб история этой женщины, глядящая из рамы, была глубока, реальна и поучительна. Смогу я так написать? Конечно, смогу. Наверное, смогу. А знал, что не стану. Как зря тратиться, если б даже получилось. Удача невелика. Я же как будто ждал только красавицу, необыкновенную, необычную. Ее, наверное, все художники хотят, алкают, выдумывают, мучаются…
Что такое в самом деле женская красота? Что? Да – бездна! И никто кистью не объяснил. А пытались все. Читал же я разное: что она – красота – бесцельна, что, наоборот, высшая целесообразность, что, мол, красота – это мера (хорошо хоть не «высшая»!). Кто-то сводил все к запретному «ли-би-до». А я и Фрейда благодаря Болотникову почитал – надоело, много там было вроде верного и чепухи всякой вдоволь. Какой-то неудобоваримой чепухи. А пришел к своему решению: красота многолика и как раз не подвержена стандарту. Потому что красоту определяет вкус, он же разный у всех. И тем более, нет у красоты никакой той классовой подкладки, как долбили нам на занятиях по эстетике. Есть, мол, была – дворянская или крестьянская! Чушь. Чуяли, дурь толкают. Никаких истин никто не открыл, ни Чернышевский, ни Добролюбов. Потому что истина многолика, так же, как красота. Вам нравятся скаковые лошади? А мне – ломовые, тяжеловозы. И, ценя абстрактно утонченные черты ангелоподобной красотки, я красотку эту все равно не променяю на тяжелую, задастую, цветущую и лицом своим, и статью, и плотью, и косой девушку-крестьянку. Я буду упиваться ею (была б у меня такая!). Лицом, я бы мордой всей под подол, под юбку к ней влез и целовал, целовал, на коленях стоял бы.
Вспомнил, как минувшей зимой был у меня случай: шел мимо театра, увидел сквозь широкие окна цоколя лестницу. Был конец спектакля, и на лестнице ждали, видимо, свои шубы и шапки. И стояли на лестнице перед окном, обратив ко мне свои тыловые прелести, две молодые женщины. Брюнетка и блондинка. Как нарочно, они были разные. Брюнетка, с могучим выпуклым задом, стояла, крепкоуверенно расставив ноги, навалясь животом на перила, демонстрировала прекрасные ляжки, туго охваченные голубыми штанами, блондинка, в юбочке-кринолине, парила повыше и так же прелестно обнажив тонкие ножки в кружевцах и резинках. Картина была готовая. И дома по памяти я тотчас набросал рисунок. Назвал «Лестница». Немало любовался им – редкое для меня дело, – пока убрал в папку. Но и там иногда тревожил набросок. Хотелось даже написать картину или акварель. Лучше бы, наверное, акварелью. И не по памяти бы… С натурой! Но где было взять такую натуру? И такую постановку? А особо клял себя, что не дождался, ушел, упустил ту, которая была в голубых штанах, мне она была будто позарез нужна. Нет чтоб дождаться у входа… Господи, сколько так, по-глупому, упускаем! Может бы, познакомился, может, нашел бы как раз то, что всю жизнь искал. В поисках этой (или хоть приблизительно такой!) я потом таскался по универмагам, вообще везде, где были лестницы и женщины, и такая уже не встречалась мне… Настоящие мужчины поймут, художники особенно… С натурой на Руси вообще мучение. Увидел еще попробуй познакомься, познакомился – попробуй уговори. На колени становись – не станет позировать. Волей-неволей я пристрастился заглядывать под подол, и, думаю, многие женщины сознательно демонстрировали мне свои тайные прелести, как были, конечно, и угрюмые, злобные даже, безвкусные, без мужского желания одетые. Тощеньких моделей попадалось порядком, той же, подобной юной слонихе, не встретилось ни разу. И картина пропала. К тому же и в тех же универмагах, на вокзалах наметанный глаз мой засек немалое число ненавистных ментов-тихарей, переодетых, шляющихся будто, но уже следивших за мной, принимавших, как видно, за извращенца, секс-маньяка. У них, ментов, у всех своя одинаковая мерка. А мужичков этих, несчастных, болталось в таких местах много. Их гасили, куда-то уводили, и я плюнул на безрадостное занятие. Картину же «Лестница» писать не стал. Черт с ней! А рисунок остался.
И, будто подтверждая все мои мысли на эту тему, на скамейку, где я сидел уже, наверное, часа три, откуда ни возьмись, опять приземлился Юра. На сей раз был без мороженого, но все с тем же выражением неутолимого, ненасытного голода.
– Все сидишь?
– А ты чего?
– Да я… По трамваям я… Понимаешь? – просто объявил Юра. И, поняв мой взгляд, пояснил – Да нет, не то… Не ворую… Так, разве найду что… Я., счастье получаю. Баб жму. Лето. Бабы в разгаре… Ну вот и… Юбки… Задницы… А что я? Кому? Голодный я. Понял? Вечно… А утолиться не могу… Только этим… Без этого – башку под поезд… Пропаду… Меня, знаешь, из-за этого в психушку таскали, гады… Заметали… А я никакой не псих. Я – голодный! Поседел там! – ткнул в остатки волос за ушами. – Потом отпустили. Мол, посадим… А за что? Что я с детства такой? Я вот был, – показал рукой, – а уже к женщинам меня тянуло. С тетей – материнской сестрой младшей в одной постели спал и уже ее хотел, щупал. Дождусь еле, как она засопит, и рукой, тихонько по боку, по животу, до сосков доберусь… А хочется ниже, в штаны – она в штанах спала… И вот туда я стал залезать, сначала поверху гладил, по резинкам. Помню – трясет меня всего. А остановиться не могу. Или подниму одеяло – и смотрю. Тетка долго меня не трогала. Наверное, ей самой любопытно было. Потом все-таки меня отшлепала, когда совсем уж осмелел. За ЭТО ее стал… И спать не стала брать… – Юра вздохнул, виновато усмехаясь. – А матери, видно, все-таки не сказала. Мать не лупила. Да и тетка-то была молодая, дура. Больно я мал для нее показался. Наверное… Вот… Ну, а что толку, если б и драли? Мы в поселке под городом жили. Вроде деревня… Только сносили там все дома. Другие строили… Конюшни, помню, старые там оставались. Без крыш даже, и бабы со стройки туда ходили. А я маленький, – Юра опять показал, – как баба туда – бегу! Противно? Х-хе… Женщина потому что… Потом я за ними уж на стройке, в сортире подглядывал. Там кабинки были. Я залезу. Дыру прорезал. И сижу. О-ох, зубы ноют. Трясусь весь. Мужики, проклятые, мешали. Стучат. А так – красота. Придет, бывало, белая, сдобная. Подол задерет, штаны до колен спустит. И прямо у меня вот… Как на ладошке. В нос брызжет. А я трясусь. Зуб на зуб не сходится. Каких только там задниц не навидался, каких чудес! Воронок этих, ихних… И все разные… О-о-ой. Счас вспомню, мороз дерет – сладко. А были прямо невероятные. Вот, знаешь, какую у бабы у одной видел? Пришла такая, нетолстая вроде, села, а у нее вот такой вот, – показал мизинец, – из губ торчит. Сделала она, а потом смотрю, пальчиками двумя берет его – и там трогает, трогает, сгибает. У меня глаза на лоб, вот брызну, а она трет, крутит, стонет тихонько. Я сижу – просто млею. Баба пристанывает. Задница ходуном ходит. Голодная, видать. Потом как заорет: О-о-ой! Спустила. Натянула штаны. Подол поправила и ушла. А я весь облился. Случай этот всю жизнь помнить буду. Другого такого не было…
Вид Юры был задумчивый, усталый, несчастный. Помолчав, продолжал:
– Потом мы в город, в барак к вам переехали. Отец-то на стройке: стадион строили… Ну, ты там уж все знаешь, да и то не все. Я ведь каждую барачную бабу сто раз видел. – Юра усмехнулся: – Сумасшедший я, правда, может? Не-а… А как хочешь суди! Тону, а всплывать не буду. На стадионе я еще подглядывал. Доску там прямо оторвал и… Тебе не говорил. Чтоб ты не мешал… Да другие все портили. Таких, как я, много. Считай, каждый пацан так начинал. Если он не дерьмо какое… И мужики тоже. Менты за мной сколько увязывались. В аэропорту ловили, на вокзале. А живу пока… Кому мешаю? Что я – обездолил кого? Может, бабам самим показаться охота?
– Женат ты? – спросил я зачем-то.
– Да так… Ну… Был… В общем, считай, что женат и не женат.
– Жены не хватало?
Посмотрел с сожалением, как на дурного, безнадежного – не поумнеть…
– При чем тут жена? Я ее в первый же год наелся – во! У меня если бы и гарем был, я бы и то от него бегал, искал. Я всех, понял, всех баб хочу! – глаза блеснули безумием. – Всех! Всяких! Толстых, худых, тонких, жопастых, молодых и старше – одних старух только не терплю. Медузы проклятые и моралистки они самые. А так – всех!
Это было почти за пределами моего понимания. Но в чем-то и понятно очень.
– Так и живешь? Как?
– А вот встану утречком. Кашку себе заварю. Чаем побалуюсь. И – айда. Как волк в лес. Весь день мой, все дороги мои, автобусы, троллейбусы, и все бабы почти мои. Иду себе – светлые ручейки в душе бегут. Ты даже представить не сможешь, удовольствие какое – новую, свежую, незнакомую по попке гладить. Да летом еще вот. Платьице тонкое. Трусы ихние.
– И как? Не орут? Переносят?
– Х-хо-о? Ты что-о-о? За милую душу подставляются. Они же тоже го-лод-ные! Они, бедные, такие голодные бывают – хуже мужиков. Иную век никто не погладит. Мне за это «спасибо» тихонечко говорили. Ну, бывают, конечно, всякие суки, и злобные. Да я на них чхал! Отстраняешься, и черт с тобой. Таких и не трогаю. Зато другая просто сладостью тебя обливает. Стоишь – ног под собой не чуешь. Бывает, целый час там едешь. Ей владеешь. И думаю вот: были бы люди не дураки, не ханжи – сколько бы счастья у них было. Не детей ведь крестить? Эх вы, дурачье. Своей пользы не знаете. Трогались бы, ласкались, кто хочет и с кем хочет. Что тут плохого-то? А жизнь-то какая короткая? Иная баба и двух мужиков не видит. А тут бы и все довольны были. Поймут когда-нибудь. Вот хочешь, так поехали. Прокатишься со мной. Попробуешь – не отстанешь.
– Домой мне пора.
– Ну, как знаешь. Бывай! – И Юра снова исчез в подошедшем троллейбусе.
«Да, женщина, пожалуй, уже съела тебя», – подумал я, когда троллейбус замкнул свои сине-зеленые створки.
Я, может быть, лучше, чем кто-либо, понимал Юру и даже без всякого осуждения. Я, бывший зэк и вечно голодный, и до сих пор без женщины. Но понимал и то, что сексомания съест его или уже не оставила ему ничего, кроме… Для него уже нет природы, леса, рек, дома, архитектуры городов, ничего нет, только ОНА. Я мог бы все это сколько угодно подтвердить ему, и он бы с этим согласился. Ведь был почти нормальным, ловили птичек в бурьянах, спорили, боролись, и нас обоих трясло от азарта с каждой пойманной чечеткой. Но теперь жизнь его и все-все затмила женщина, и он погружался в ЭТО, как в трясину.
Когда я знакомился с женщинами, я даже сам себе удивлялся, до чего же робок и глуп. Вот вижу подходящую, и тянет к ней, а язык приморожен, и слов будто подходящих никак не находится. Да что сказать ей? «Здравствуйте. Хочу с вами познакомиться?» Посмотрит, как на хама, скота, и дальше. Такое уже было. Или: «На улицах не знакомлюсь». А где? Когда? И потеряется, плетешься потом, как оплеванный. Ну, хоть бы поговорила, посмеялась. А то и вообще – глянет так презрительно – и дальше. Или… Страшно мешали мне мои изреженные цингой зубы. И в самом передке. Идти вставлять, дергать? Боялся. Хоть убейте. К вышке бы приговорили – не дернулся. А тут приду в эту пахнущую болью и йодом поликлинику, постою в толпе страдальцев, увижу сквозь раскрытую дверь пыточные эти кресла, людей в них с закинутыми головами – и все, вгоняет в дрожь – ухожу счастливый, на волю! Провались все, проживу без зубов, лишь бы не эти иглы, шприцы, щипцы. Кто их только придумал? Чтоб не показывать свои зубы, старался не улыбаться и все-таки один раз переборол страх, пригласил какую-то красивую девчонку в кино. Был у меня лишний билет для приманки. И она пошла, но после сеанса, приглядываясь ко мне, едва спросив, сколько мне лет, тут же брякнула: «До свидания».
С другой, довольно фигуристой, молодой, познакомился на пляже. Она была белесо-бела, и даже на спине, в ложбинке у основания ягодиц, закручивался поблескивающий на солнце «хвостик». Разговорились – будто век знакомы. Она – сразу на «ты». А едва вышла из ворот водной станции, сама пригласила поехать в лес. «Зачем?» – глупее глупого, наверное, спросил я. «За ромашками», не удивляясь, однако, моей глупости, ответила она. И мы даже поехали, на одиннадцатом маршруте, ходившем до самой окраины. «За ромашками». Но пока ехали, набежала туча, полил обломный дождь, сделалась гроза, и мы, не вылезая из трамвая, вернулись. Белесая девка все-таки сильно понравилась своей полной статью, и я договорился встретиться, где никогда и не думал – в ресторане! Она так захотела. Для такого похода собрал все деньги, намеченные на месяц, надел все самое лучшее, что у меня было. А было: костюм еще сносный, ботинки новые, рубашка не очень. Галстук не в счет. Остались от отца, я их и не носил никогда. В ресторане всего робел, не знал, как заказывать, что, зато она держалась уверенно, выбирала закуски, какие-то страшно дорогие котлеты «по-киевски». «Ну, а пить что будем?» – «Вино, наверное», – пробормотал я (не водку же?). «Вино? – поморщилась она. – Я коньяк люблю». Коньяк этот я никогда не пробовал, слыхал только, будто он пахнет клопами. Что тут же и высказал ей. «Кло-па-ми? Да ты, видно, мужик, блажной какой-то?» И то, как она сморщилась. И это ее развязное «мужик»… Все-таки взяли вина. Но теперь она глядела на меня как-то сбоку, по-новому, переоценивала. Вино было хорошее, вкусное. Я пил меньше, оставляя ей. Она не стеснялась. Впервые видел так хорошо пьющую девушку. Да, впрочем, какая там девушка. Так… За стол к нам подсел какой-то грузин. За ним еще двое. Они налетали, как вороны. С вороньим этим своим галканьем. Официант к ним прямо подбежал. Принес откуда-то целое блюдо резаных огурцов, помидор, зелени. Заиграла музыка. Я пригласил свою знакомую (звали Нина) потанцевать. А когда вернулись за стол – места нам почти не было, подставив стулья, сидели все эти черные, носатые, усатые, наглые. Оттеснив нас, пили уже и наше вино. Правда, и их тут же стояло. Но как было наливать ихнее? Не знал, что и делать. Послать их? Не миновать драки. И что я – один, а их уже шестеро… Правда, грузины начали угощать, но все больше не меня, ее, «мою девушку». Она пила охотно, хохотала и уже подмигивала им, пошла танцевать с одним из подсевших, и я видел, как он ее откровенно уговаривает, что-то, видать, обещает, кобель проклятый. И она, похоже, соглашалась. «Ну, влип», – думалось мне. Да она-то вроде обыкновенная таскучая блядь – как это раньше мне в голову не пришло? Правда, когда я расплатился, она пошла со мной, но, пройдя квартала три, вдруг сказала, что живет «здесь близко» и «очень хочет в туалет» и «провожать не надо». Скрылась в ближнем переулке. А я даже с облегчением расстался с ней. Подумал потом, что, наверное, она рванула в гостиницу (там ресторан) к тем грузинам или забежала за подругами. Тошно мне как-то было и стыдно за себя, за все это смешное, пошлое, дурацкое знакомство, когда меня просто по-мелкому обвели, обобрали. Молодку эту я даже ведь и обнять толком не успел. Правда, и на мои редкие зубы она не обратила никакого внимания.
Глава VIII. ПОРАЖЕНИЯ И ТРИУМФЫ
Писали новую красивую натурщицу Она была как-то отдаленно похожа на Венеру Милосскую или Книдскую – прямой, без переносицы, чуть большеватый нос, такие же опушенные в углах глазницы, капризные губы, презрительнее, чем у Венеры. Но тело было плоховато, уже с кислинкой, с той степенью женской бывалости, какую не скроешь, как, впрочем, и лицо, – все не ушло от моего, наверное, чересчур жадного взгляда. И хоть натурщица «не женщина», не обнаженная, тем более не голая, я смотрел. Мой взгляд переходил от презрительных губ натурщицы к ее бедрам и мыску, который она прикрывала, как та и тоже весьма совершенной рукой, останавливался на животе, чуть более полноватом, на грудях, явно знавших многие мужские руки, и все-таки я старался вытащить из этой гулявшей и видавшей богиню. Мне почему-то не терпелось поделиться открытием.
– Похожа на Венеру? – ткнул локтем старательно рисовавшего трутня Замошкина.
– Ты! Тише! – окрысился он. – Венера! Не Венера, а венерическое что-то есть…
– Дурак! – ответил ему, а сам подумал: трутень Замошкин просто грубее выразил мое сомнение. И мне вдруг расхотелось писать ее так, как стояла она в учебной этой постановке. Еще одна «обнаженная», которую потом кинешь за шкаф.
Наскоро закончил набросок. Снял, открепил картон. Поставил на его место новый, чистый. Я всегда брал с собой два-три картона и, бывало, успевал сделать по три наброска, пока все копались с одним. Об этом даже никто, кажется, не знал, и случалось, учителя мои обвиняли меня в медлительности. Не оправдывался…
А теперь решил писать с этой натурщицы Венеру, выходящую из морской пены. Что бы помешало мне? Да ничего! Натура – вот она! Постановку учебную я отброшу. Фон – море, пену, камни – создаст мое воображение. А дальше – что заглядывать. И вдруг я никогда больше не увижу такую натуру?
Лицо ее, очень порочное, все-таки сквозило каким-то именно божественным сиянием, что-то такое словно вспыхивало и пряталось, заслоняясь обычностью.
И я принялся за работу, пожалуй, даже лихорадочно, совсем как тогда, когда писал натюрморт с панталонами и яблоком. Уголь так и мелькал. Я даже не хватался за тряпку, смахивать было не нужно – все сразу точно, четко, фигура Богини, выходящей из моря, рождалась стремительно. Будто по невидимой кальке, я переносил на картон давно построенное и крепко сработанное кем-то до меня. Я улучшал формы этой натурщицы, я придавал благородство невзрачным, в общем-то, чертам ее лица. Я все нашел, даже красочную гамму ее утреннего (так было надо!), светящегося зарей тела. Я мог писать ее без всяких «нашлепков» и «подмалевков» и ТАК начал писать! Вместо истасканной натурщицы, с терпеливой скукой сносящей весь наш коллективный глум, я писал Венеру. АФРОДИТУ. Мне больше нравится ее греческое, неиспорченное, арфозвучное и пригожее к богине: АФРОДИТА! Писал, как видел ее внутренним взглядом, выходящую из прибойной пены, величественную, пышногрудую, круглобедрую, такую, какую хотел видеть сам и какую хотели бы видеть, наверное, многие, если б смогли… Писал и сам уже любовался беломраморным и розовеющим женским телом! Обыкновенную просинь озябшей на своем помосте-подиуме натурщицы я перекладывал кистью в мрамор божественных оттенков, в сверканье пены под морским ветром, и море, родившее это чудо, уже грезилось мне в красках и даже дышало, – другое, античное, древнее и мифическое, не то бездушное море Айвазовских, какое всегда живет в нас: рамное, картинное, великое, без души. Не знаю, кто может любить Айвазовского. Я – никогда. Так же, как Куинджи с его жуткой до скуки «Березовой рощей». И уже захваченный замыслом, прикидывая, как опустить-поднять горизонт, как должна будет играть заря – ведь рождение должно сотворяться на заре (и на очень ранней заре!) и с таинственной голубой звездой – ЕЕ символом, и еще надо было в картину вложить: это я единственный свидетель творения совершеннейшей женщины – не женщины – богини, принявшей женский лик! Это я, художник. Господи!
– Штой-то вы тут пишети, молодой человек! – Павел Петрович стоял рядом, маленький, встопорщенный, зловопрошающий. Несмотря на то, что он был мал и ничтожен, он все-таки как бы нависал надо мной, над моей работой и моим замыслом. Нависал всеми своими догмами, заповедями, поучениями, умом-умишком, заранее сметая всю мою работу. Это был злой дух.
– Что вы пишете?! – повторил он ненужный вопрос, где теперь содержалось, кроме гнева и негодования, еще и грядущее как бы исключение меня из училища, и старческое его негодование на собственную ненужность, которую он сам от себя скрывал, а она все просачивалась, просачивалась и теперь просочилась окончательно.
– Я пишу Венеру, – ответил я, чтобы уж совсем его разозлить.
– Вы пишете чушь! – взорвался старичок. – Чушь! Дичь! Какая может быть Ве-не-ра! На учебной постановке?! Вы еще ученик! Вы даже не подмастерье! Тем более не художник. Вы просто еще НЕУЧ! И вы смеете… Нет… Вы посмотрите! Какая отсебятина? Ужас! Сейчас же извольте снять эту мазню и писать то, что должно! Я последний раз предупреждаю вас! Иначе вы… Будете освобождены от учебы… Нам не нужно самозваных гениев! Нам нужны прилежные ученики. У-че-ни-ки!
Он так трясся, дергался, стал фиолетовым, точно отведал чего-то жгучего и горячего одновременно. Лицо сделалось просто купоросным.
Но я не хотел убирать свой набросок. И, подумав мгновение, вытер кисти, бросил их в этюдник, закрыл его, подогнул алюминиевые ножки, забрал картон и пошел к выходу.
Профессор, должно быть, немо глядел мне вслед. И, так же немо обернувшись, глядели все.
На другой день меня сразу вызвали к директору. Теперь это был молодой лысоватый кагебешник с прицельным взглядом и непроницаемым лицом, лишь глаза его, глаза ястреба, словно пронизывали, откуда клюнуть добычу. Говорили, что он неплохой художник. Участник зональных и республиканских выставок. Но говорили это наши лидеры – «трутни», и их восхищение лишний раз подтверждало мое о нем мнение. Кажется, он сменил Павла Петровича на посту просто потому, что профессор, оказывается, был беспартийным. А Игорь Олегович был.
Оглядев так и сяк, ястреб клюнул.
– Вчера вы учинили безобразный поступок! Рассохин! – Лучше бы уж назвал Ке-315!
Я молчал.
– Вы действием, – он приналег на это слово, – оскорбили старого заслуженного человека, который всю жизнь воспитывал и учил таких, как вы! Кстати, ведь вот и Я учился у Павла Петровича! Да. Да… Надеюсь, вы поняли, что учитесь не для того, чтобы заниматься формалистскими ломаниями. Станете художником – ваше дело: пишите хоть Венеру, хоть Химеру. Но… Поверьте мне, если вы думаете, что живопись – это лишь полет фантазии, вы горько ошибаетесь. Живопись – это служение.
– Простите… Кому?
– Ах, вы не хотите понять? Служение народу, обществу, социализму. А вы что? Хотите разделить судьбу разного рода отщепенцев? Я не советую вам. Вам особенно. Я смотрел ваше дело, Рассохин. Вас, извините, не реабилитировали. И не стоит вам снова идти тем же путем. Извольте учиться. Я вам желаю добра. К тому же вы принесете извинения. Так делают все порядочные люди.
И я принес извинения. Пробормотал что-то такое. Павел Петрович – странная птица-мышь – казался удовлетворенным. Победил! А я продолжал учиться. Афродита не родилась из пены, я лишь забросил подальше невысохший картон. Мой замысел сжался в точку. И я знал лишь, что точка эта подобна будет той, про которую пишут теперь полоумные физики, объясняя таким методом свои «точки» и «черные дыры», куда впитывается, вбирается, всасывается эта «материя», пока не пресытится, не сверхуплотнится и не грянет Вселенский взрыв и не родит звезды и планеты. Афродита не родилась, и может быть, прав оказался Павел Петрович, остановив мое все равно ненабранное и несовершенное, а я действительно уподобился этой полумифической втягивающей бездне без цели даже построить высшее и лучшее. Я просто знал, что Звезда и я живем тем же единым законом. А Афродита, наверное, подождет с рождением. Подождет с рождением.
И еще это странным образом вспомнилось, как в лагере, в том, на Ижме, главвору пришло в голову сделать из меня «чистого битого фрайера». Чистый фрайер – это как вор в законе, но еще не прошедший посвящение, и желательно «не колотый», без наколок, без всей этой пошлой тюремной «прописки» на руках, на пальцах, плечах, на груди и спине, которую потом мой не мой, а на всю жизнь наш! Носи! И редкие воры-фрайера оставались битыми и чистыми. Такие обычно и входили со временем «в закон». Да как мало было! Когда главвор узнал, что на мне нет наколок и что я, конечно, никого никогда не закладывал, не сучился, не бегал в шестерках и в козлах, он велел Кырмыру учить меня «махаться». Тут я, конечно, был «не в правиле», и обучение началось! Со щепки, которая изображала нож. Кырмыр, похоже, веселился, получив приказ главвора. Учить любил. «Бери щепку, бери, бери! Ну вот! Это у тебя – перо. Теперь сади в меня, бей в натуре! Не бзди!» Я бил. Щепка тотчас вылетала из моей руки, кисть, бывало, ныла неделями. Кырмыр ухмылялся, отвода свои рыжие уши. Был страшен – ловок как бес, силен чертовской, жилистой силой. Ее трудно было даже представить в тощеватом, ничем не выдающем этой силы, обыкновенном мужике. Бил он жестоко, на ногу был легок, никакого страха в котовых рыжих глазах. Справиться с Кырмыром казалось никому невозможным. И никто не справлялся. Он был с какой-то удивительной, врожденной, что ли, сноровкой, если бывает такая… Главвор понимал мою неприязнь к Кырмыру и все-таки заставлял нас «махаться». Меня – учиться, его «учить». Наука Кырмыра давалась через боль и синяки, и все-таки чего-то я нахватался. Исчезла, главным образом, моя инстинктивная боязнь драки. В конце концов и от меня Кырмыр начал хватать синяки. Тогда вор сказал, что теперь хватит, и я готовый «битый» фрайер. Прекратил «ученье». Кырмыр после фингалов стал меньше щериться. Ненавидя воровскую «науку», я все-таки понимал: в жизни может и это сгодиться – кто знает, как там и что? И на воле ведь надо уметь постоять за себя. С другой стороны, воры иногда восхищали какой-то своей дикой, диковинной умелостью, неведомой нормальным людям. Карты делали из клочков с ноготь. Домино из спичечных коробков, спички, чтоб хватило «надолыпе», кололи на четыре вдоль, курили, когда нечего, изо рта в рот, в камерах через стены кричали в кружки и так же слушали «отзыв», записки на волю шли – писать стыдно, на шмоне иные проносили, что хочешь, – умели отвести глаз, воры знали точное время без часов, косили под любых «больных». Натирали подмышки солью – «гнать температуру», всему этому за свой «червонец» я научился – хотел не хотел. Все годилось здесь, в зоне, кроме разве науки лазать по карманам и «стопорить», где приемы были уже откровенно подлы, а жертвы выбирались по законам хищного мира, заведомо доходяги или «молодняк».
Все это не то чтобы въелось в мою жизнь намертво. Как раз наоборот. На воле я старался избавить душу и тело от лагерных пятен, но они никогда не сходили до конца, как дурная болезнь, лишь слабели, прятались на время, а где-то вдали все равно чернили душу. А хищно-котовую рожу Кырмыра я, наверное, буду помнить вечно, как и ласковую, совиную, текучую улыбку главвора.
Зачем, почему все это вспомнил? Да, видно, потому, что несколько дней подряд вместо натурщиц писали обнаженного старика пропойцу. Он был знаком мне. Фамилия его была Скурыгин. Жил по соседству. В одинарке у пруда. Однажды он принес матери, продал большого желтого леща в корзине под свежей крапивой. Божился – поймал только что, продал дешево. Рыба оказалась тухлой. Не иначе краденая или снулая. Мать ругалась. Тогда этот «рыбак» был просто пьющим черноликим мужиком, – теперь совсем старик с белой на фиолетовом в синеву щетиной, костлявый тюремный волк, таким в зонах одна оценка: фитиль, доходяга. В бараках такие были дневальными, парашниками, подметали на кухне, лизали миски, болели черт знает чем, вот и на теле этого, везде знаки его долгой и мерзкой жизни. Старик был вором всегда, сидел несчетно.
На нас, рисующих, он будто бы и не глядел. Тусклые, водочного стекла глаза уставлены в сторону с пустым равнодушием. Всех нас он по привычке ненавидеть неясное ненавидел, по привычке терпел – куда денешься, – как терпел всю жизнь эти «кэпэзэ», «сизо», «пересылки», зоны и прочее, что придумало человечество для своих отбросов. Он и родился, наверное, вором, как рожденные готовыми инженерами, врачами, учителями, философами, актерами, проститутками, пьянчугами – всеми. Но вором плохим, неталантливым. Старик меня вроде бы даже узнал. Понял я по короткому обезьяньему взгляду. Сперва не хотелось его рисовать, рука закисала, не мог заставить набросать даже контур. Но потом я задумался, вгляделся попристальней в его волчью, неделю не бритую седину, впалость щек, прорезанных черными морщинами, пустой провальный рот без губ, в его неуловимые глазки со странным обезьянье-волчьим взглядом и вдруг почувствовал в этом человеке что-то отдаленно-родственное. Что? Что?? Кто он? «Вскормленный в неволе» – нет, не орел, куда… Но, вглядываясь, я стал улавливать главную суть его жизни и понял, это была та самая «с в о – б о – д а», которую ищут все зэки и которую теряют подчас с истерическим воем, пластая тюремные рубахи. Да та же самая СВОБОДА вела его, как и меня, только другой дорогой – иным путем. Я понял наконец топазную искорку из-под опущенной, пересеченной шрамом брови. Один я мог написать его так, чтобы передать всю лагерную его жизнь и вечное это ожидание воли, как в клетке у затравленного, а все-таки ждущего какой-нибудь промашки сторожей волка. Это вечное ожидание воли, во имя которой он и воровал, и бродяжил, привычно лгал друзьям и следователям, пил разведенный денатурат, валялся в мусорной лебеде под заборами, лез на любую шваль и пьянь – лишь бы в юбке, – «хватал» от нее и опять сидел «в больничках», чтобы тут же, выйдя малость подблагороженным, задирать другую грязную юбку, лезть в сутолоке-давке в карманы, в чью-то чужую, манящую сладостным опьянением свободы комнату-квартиру. Он был рабом этой СВОБОДЫ, она родит и орлов, и стервятников.
Все это бежало, летело в голове, пока я хватко «лепил» кистью куски его тела и здесь, на картоне, оживала его сущность, творилось второе рождение. За два постановочных часа я сделал то, что полагалось сделать за двадцать. Даже без окончательной отделки с картона моего глядел старый тюремный шакал со всей своей сущностью, которую он всегда словно прятал, а открыл, сделал доступною всем и ему самому я.