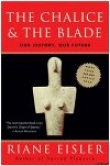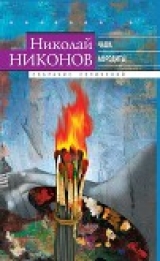
Текст книги "Собрание сочинений в 9 т. Т. 8. Чаша Афродиты"
Автор книги: Николай Никонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Пожалуй, мы сработались. Я был просто выгоден ему. Не пил. Не курил (теперь!). Не травил время зря. Рисовал скоро. Писал плакаты еще быстрее – лагерь научил такому всему. Руки не тряслись. Головане болела. Но мое присутствие было и вредным. Пить «старший художник» стал больше, курить вообще не затыкался, даже и спал с сигаретой, много раз прожигая свой сальный, мазанный красками халат и даже клетчатую рубашку-ковбойку, в которую всегда был обряжен, и она странным образом шла к его вдохновенным всклокоченным патлам-кудрям и желтовато-иссохшему обличью. Рубах таких, кажется, было всего две – «одна с перемывахой», – и обе одинаковые и одинаково жженные.
Однажды, совсем нечаянно, нас посетил САМ. Директор. Почему это директора больших заводов всегда словно или малы ростом, или уж выше всякой меры тучность и представительность? Наш был из второго рода. Тучен, щекаст, краснолиц, с атмосферой нездорового властного мужчины, которая словно распространялась вокруг и на всех.
– Прокопьич где? – не здороваясь, а только вдавив подбородок в шею, осведомился он на мое нижайшее. Я, наверное, так и выглядел: мелкая тварь, подмастерье, подпасок.
Не успел ответить.
– А-а-а! – густо дохнул директор, углядев в проеме входа в каморку торчавшие нежилые полуботинки. – Ххэ… Хуум! Набрался!
– На работе? Хм. Ттээк… Уволить, что ли? – полуповернулся к выскочившему из-за его туши угодливому черноглазому человечку. – Завком? Ты как? Не возражаешь?
«Завком» пожевал со значением, какое можно было истолковать и так, мол, можно и так, мол, может, не стоит?
– Ладно… Пускай дрыхнет. Устал… Пить… Жизнь тяжелая пошла… А ты кто? Помощник? Что кончил? Училище? Ну, ладно. Смотри сюда. Картину мне надо в приемную. Вот… Такую, – достал из кармана открытку. Айвазовский. «Девятый вал». Сможете сделать? Чтобы честь по комедии! А? Оплата отдельная. Как?
– Смогу.
– Ты? Сам?
– Конечно, сам. (Было даже смешно, хотя ничем я себя не выдал.)
– Не напортачишь?
– Справлюсь. Краски получше надо. Наши – малярные.
– Э? Звать как? Александр? Македонский? Хм. Ну, лады… Картину оставляю. Краски будут. Багет – тоже. Срок… Две недели хватит? Ну, чтоб ровно. Все. Посмотрим. Ы – ых вы, хху-дож-ни-ки… Привет от меня передай. Ему! ОТ МЕНЯ! – директор со свитой вытеснялся из дверей.
Взбуженный Сергей Прокопьевич униженно кряхтел. Скреб затылок..
– Што не разбудил? Незадача… По шее наладить могут. От его – сбудется. Он у нас на фронте на передовую знаешь как загонял? Только не угоди… Начальник тыла был. Армии!
А я у него вроде как по худчасти. И доставалось. Даром что в одном классе учились. Грозен. А копия-то важная… Айвазовский! Море писать ему, конечно, не нам… В Крыму, слышно, жил. Маренист… А я? Море-то на картинках только да в кино видал. Выручай, что ли, Александр.
Я выручил. За четыре дня написал это вдохновенное дерьмо. Скучен Айвазовский. Скорее – фамилия одна. И морем его никто, наверное, кроме собирателей, не вдохновился. Мертвое, сделанное, придуманное море, хоть пахнет старой и вечной голландской классикой. Но в багетах для гостиных-приемных, наверное, годится. Не в подлинниках, конечно. Но и копия должна быть лучше всего бы авторской, а дальше, с каждой новой убывает сила картины, разменивается, растранжиривается, и вот уж совсем пошлость, хоть на стену не вешай. Искусство погибает в копиях. Но что делать, когда этого не понимают? И когда заказывают? А писать копию мало удовольствия, – нет находок, нет озарений, не дышит счастье тебе в затылок. Все найдено, сделано до тебя, не тобой: рисунок, колорит, краски. Знай старайся, прилежный раб, хоть и копировать в точности тоже нелегко.
И опять поверг в изумление «старшего» художника без клеток, на глаз повторил картину. Что там: плот, обломки, буревое солнце и штормистый этот ВАЛ.
– Ну-у-у! Гла-зо-меер! А? – уже не хвалил – пел Сергей Прокопьевич. – А краски-то? Да ты сильнее этого Айвазовского написал! Отдавать неохота! Краски-то! Краски!!
Краски были действительно – благородные, яркие, чистые, импорт, фирма «Ле фран». Дурной, крашенный в золото багет я отверг. Принесли другой, дороже и благороднее. Две недели картина сохла. Отлакировали. Вставили в раму. Гляделась теперь как сокровище. «Старший» цвел, потирал руки. Чтоб не обижался, я и ему дал место – прописать второстепенные детали, а едва он смотался в свою каморку, тут же и выправил.
Наконец, обернув раму суровым холстом, понесли торжественно в покои директора.
– Сам-то чо! Бернардине его понравилось бы! – мудро заметил Прокопьич.
Бернардина Августовна – секретарша – по объемам соответствовала директору. Все до того фигуристо-плотно. «Не укулупнешь!» – прошептал Сергей Прокопьич, моргая на ее зад (ушла доложить директору в дверь-шкаф). Так же достойно воздвиглась обратно. Пухлые ноги в белых чулках чудом вколочены в туфли-лакировки. Бюст – подушкой. Прическа – «башня». Все затянуто-обтянуто. Что там, внутри? Лучше не отгадывать. Люблю полных, но не таких ватных кукол. И взгляд! Вечно обиженно-брезгливый. Художники. Нищие… Мужики… Пьянь. Фу…
Картину, освобожденную от холста, директор обозревал, как Наполеон работу Давида «Коронация Жозефины». Где-то я читал, что Наполеон стоял перед «Коронацией» чуть не час. Час не час, но после глубокомысленного, с прищуром, молчания, директор в конце концов вдохновенно развел лапы-ручищи:
– Ммолодцы! Молодцы!! И даже на подлинник дюже похоже. (А видал ты подлинник-то?) Молодцы. Справились с задачей. Я доволен. Все-таки… Мастера. Ну, давайте счас прямо… Спрыснем. По рюмочке… Ди-на!
В кабинете директора над диваном уже висела картина, и тоже копия. Шишкин. «Лес». Но «Лес» этот был тускл, замучен, видно, долго над ним трудились, с многочисленными доделками и переписками, а в живописи, чтоб цвела, надо в один мах, «алла прима», – краски в переписанных местах зажухли, почернели, тональности спутаны. К тому же родимые земляные эти краски: охры, сиены. Тусклый кобальт… Ясно стало, кто и писал этот «Лес». Директор понял мой взгляд, может быть. Совсем невольно, чересчур изучающе оглядел я полотно над диваном.
– Картины поменяю. Эту в приемную, а эту – сюда, – широким жестом.
Сергей Прокопьевич принял жест безропотно. Однако я понял, что теперь мой начальник, получив слишком бесцеремонное доказательство, не станет сильно восхищаться способностями подчиненного.
Выплыла Диночка.
Поднос с фужерами как бы в дождевых каплях. Минералка «Боржоми». Хлеб на тарелочке, тоненько, культурно. Сыр. Колбаска. Зачем-то лимон, нарезан дольками, обсыпан сахаром. «Для чаю, что ли?» – сообразил. На картину покосилась. Не понять. «Да Бог с тобой, подушка».
Директор тем временем достал из встроенного шкафа с сочинениями Ленина бутылку коньяка.
– Ну-ка, хлестнем, испробуем. Марочный! – возгласил он. На шее Сергея Прокопьича вверх-вниз прокатился кадык.
Сели в мягкие кресла. Самолично налил. Не скупо. Чуть не по фужеру.
– Ну-с? Ху-дожники. От лица руководства. Премию выпишем. И, как говорит партия: «Так держать!» – Повел глазом на два портрета: Ленин. Хрущев. Теперь вот здесь будет еще мой «Девятый вал».
Коньяк был горячий. Душистый. Пахнул чем-то вроде крепкого чая. Никогда я не пил коньяк. И закусывать его, видать, полагалось лимоном.
Директор смаковал, посасывал этот лимон. Сергей Прокопьевич хлопнул залпом. И весь залучился, точно это коньячное солнышко обогрело-прижгло снаружи и внутри.
– Как, Прокопьич?
– Хар… Харро-шо-о-о… Такого не пивал!
– Марочный. «КВ».
– Как танк, вроде. Помните. Был такой. ТАМ.
– Как не помнить! Как слоны танки были. «Клим Ворошилов». «КВ». Давайте-ка еще! То-то. Ху-дожники. Искусство… Как там? Требует… Требует жертв… Так? А что, друзья, мне бы вот картину хорошую домой? А? Чтоб не хуже… Лучше даже. А? Закажу?
– Сделаем! – тотчас подтвердил старший.
– Напишете?
– Сделаем! – еще суровее подтвердил, глядя на остатки вожделенной влаги.
Директор разлил.
– Так считаю – договор в силе… Но! – поднял короткий сарделечный палец. – Надо – женщину. Ну, там, в постели, или как… И чтоб пристойно было, и чтоб посмотреть, конечно… Копию бы с не очень известной. А? Как подлинник… Смотрелась чтоб…
– Ренуар подойдет? – вместо меня сказал я. Язык мой сказал так.
– Кто? Как? А… Да… Наверно..
– Тогда я… Принесу альбом… Выберете. А может, вам с Кустодиева?
– Это кто?
– Купчих писал, – вставил Сергей Прокопьевич. (Тоже не лыком шит!)
– Купчих? Голых? Падойдет. Мне надо чтоб женщина. Вот как Дина! С такими вот! Такая… И там чтобы! – показал, какие должны быть у женщины и к а к а я. И «здесь», и «там».
А я сладостно подумал: «Видел бы ты мою Надю! МОЮ Надю. Надию». Тогда я не знал, что такое женщина. Еще не знал. И как опасно применять к ней это простенькое, собственническое и сладкое: «МОЯ».
Когда вышли из кабинета, откланялись Бернардине Августовне – снисходительно повела бровью, была чуть теплее, но все-таки высоко, недоступно: «А, знаю вас всех, вам только бы нажраться», – Сергей Прокопьевич сказал, заплетая косный язык:
– Ты тут ме-ня, то-во… Уволь… Уволь… Это… Я… Не поволоку… Сам давай… Напросил-ся? Ри-нуар… С тебя он счас… Не слезет… Я зна-а… Я… Его со школы зна… Скар-пи-он… Да… А коньяк ххо-рош… Ты ему только… Ска-жи. Шоб не наваливал… За-ка-зов… Хоть так… Отыграться. По-ал?
О, Ренуар! Жан Пьер-Огюст… Или как там тебя еще? Я благодарен тебе и твоей прекрасной натурщице. Директор выбрал «Девушку на обрыве». Обнаженная толстушка-блондинка на обрывистом берегу у моря. Молочное тело. Желтые косы. Восковая спелость… Картина эта понравилась и мне, но, главное, я освободился от диаграмм неуклонного подъема и других-прочих успехов торжествующего социализма, от всякого рода «призывов» и «транспарантов». А главное – обзавелся опять лефрановскими красками и кистями «Рембрандт»! Художники? Слышите меня? Такие краски светили только мастерам живописи, членам Союза художников и то по строгому отбору (не каждому!), а я завладел сокровищем – тубами в нарядных цинковых упаковках, в коробках под целлофаном. Тюбики были с удобными широкими ребристыми крышечками. Пиши, художник! Чистота красочных тонов поражала. И конечно, краски эти я тотчас же начал жадно копить, неучтенно беречь для своих будущих работ и, простите мне, не все расходовал на директорский заказ. Половину просто «взял» – пишите в деле – украл! Картину сделал за день. Еще день ушел на раму. Неделя на сушку. Неделя, чтоб просох лак. Но сделал, видимо, все-таки быстро и так, что тотчас за директором, расхвалившим мой труд, – похвастал и перед своими, явился с заказом главный инженер, за ним – заместители директора, главный механик, секретарь парткома – охотник. Этому понадобился, конечно, не безыдейный Ренуар, а старый русский художник Степанов – «Лоси на болоте», – ну, помните вы, наверное: лес, рассвет, полянка, стог сена и семья лосей около. Лоси – так себе. Написаны без знания.
Рассвет хорош. Степанова я писал с такой скоростью – удивился. Часа через четыре холст был готов. Прокопьич ахал. Я негодовал – без всякого моего желания превратился в заказного копииста. В конце концов про мои живописные подвиги узнал будто весь завод, а ко мне (к нам) явился САМ главный бухгалтер – недоступный мужчина, считавший, что на заводе нет большей величины, и даже на директора взиравший как бы снисходительно. Главбуху понравилась кустодиевская «Венера в бане». И чтоб непременно «как живая». Венера эта была все-таки не находка. Писана явно без натуры, «по представлению». Луновидная крупная баба с веником, в клубах сизого пара. Лицо – явная компиляция с Ренуара, писал явно больной, вкладывал последнюю тягостную тоску по НЕЙ, белой, толстой, розовой… Поставлена фигура грамотно, а все – позитура. Нет движения. Невольная статика. Без модели нет живописи. Нет души. И будь хоть трижды Кустодиев – не добьешься. Картина не оживет. Сама женщина нравилась мне круглой цилиндро-конической схваченной полнотой, а вот загадка – и отталкивала одновременно. Писал ее неохотно, может быть, все время мысленно сопоставлял с могучим совершенством моей Нади, Надии, Наденьки (такзвал про себя), потому что теперь влюбился в нее, как говорят, «по уши». Надя была живая. «Русская Венера» – вся выдуманная, воспетая лишь лихорадочным жаром догоревшего художника. Последнее понял я много лет спустя. МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ.
Копией же я в первый раз остался недоволен, хотел переписывать.
Зато главбух был в восторге. Любовался Венерой, поотставив спесь, и даже щедро отвалил мне сто рублей. Сумма не то чтоб значительная, а все же..
Деньги я взял. В конце концов, это ведь работа, пусть холст, рама, краски – все не мое. Другие ведь и ничего не платили. Считалось – я на работе и, значит, обязан.
Глава XI. КОГДА ЖЕНЩИНА ХОДИТ К ТЕТКЕ
На бухгалтерскую сотню купил Наде серый, жемчужного тона, крепдешин на праздничное платье. Предпочел бы купить готовое, но таких платьев, а главное, таких размеров, в магазинах не было. И я решил, вручив подарок: пойду с Надей вместе в мастерскую выбирать фасон. Странно-счастливые мысли приходят иногда нам в нашу детскую голову. В том, что мужчины – дети, убедитесь сами, подумав.
– О-ай! – удивилась она подарку. – Мине? Ты первый такое даришь! Ай, какой матерьял! – поцеловала она покупку. – Спасибо тибе. Дорого? Да? Уй ты, мой мальчик! Художник мой! Сошью! Для тебя носить буду! Ты у миня герой! Талант. Ты у миня золотой! Дай поцелую! Иди суда. Хочу..
И опять было безумство этой невыносимой, опьяняющесладкой женщины. Не знаю, не объясню, что такое таилось в ней, было в ее лице, улыбке, глазах, ямочках на щеках, в тянущей душу походке, овалах бедер. От нее шел непрерывный возбуждающий ток, тепло, притяжение, заставлявшее меня все время и без устали ее желать, хотеть ее тяжелого и в то же время нежно-пухлого тела, ее губ, грудей с мощными твердыми сосками, ее резинок, панталон, ее запаха – особого, невыразимо приятного, которым упивался, как можно упиваться, сунув лицо в букет сирени, черемухи, пряных полевых цветов. Последнее сравнение вернее, но была в ее запахе и сирень, и черемуха, и даже, вот странно, не портящая общего дурманная пряность калины.
– Што ты миня все нюхоешь? Нюхоешь? – смеялась она. – Миня никто никогда не абнюхивал. Только ты. Облизать готов..
– Готов! Хоть где.
– Какой..
– Да я даже запах твоих штанов люблю!
– …Тогда на! Нюхай! – снимала всегда свежие, чистые, мягкие панталоны (меняла их, должно быть, всякий день), сама прижимала к моему лицу.
– Хорошо? Глупый! – смеялась она, в то время как рука уже охватывала, гладила мою буйно восставшую плоть. Умелая, теплая, нежная, властная женская рука.
– О-о! Хорошо! – стонал я и знал, сейчас опять будет невыносимое, блаженное, бесподобное, разрешающееся таким выжимающим душу всеобщим расслаблением, стоном и дрожью, после которого тело, казалось, теряло вес, становилось воздушным и растворенным.
Но она могла и словно бы кормить своей необузданной энергией. Иногда, может быть, почувствовав или ощутив, что уже достаточно обессилила меня, Надия вдруг начинала меня насыщать. Она делала это всегда лежа на спине, положив меня на себя, и я, утопая в ее грудях и губах, весь во власти ее полного резинового – не то сравнение! – упруго-теплого живота, размещенный меж ее пухлых ног, получал вдруг такую ритмичную накачку, что, даже освободившись (часто Надия не доводила до этого!), чувствовал себя сильным, свежим, отдохнувшим, будто проспал целую ночь беспечным детским сном.
А она улыбалась:
– Я все могу! Видишь? И не устал! Все могу… Может, ты еще и узнаешь, что я могу… Ни все сразу… Все сразу узнаешь – разлюбишь. Миленький мой!
Я еще не знал, что, когда женщина обладает тобой или ты обладаешь ею, она может давать тебе любые клятвы, может кричать, что ты единственный, самый сильный, самый прекрасный, замечательный, любимый… Женщина может, и ты веришь, как верят в счастье и в то, что оно бывает… И в то, что все это одна сплошная ложь.
Сейчас я думаю, что Надия была особенная женщина, потому что непрерывно создавала тот праздник, который делал меня ждущим радости, какой я даже представить себе не мог раньше. От нее шло непрерывное, сильное сексуальное или еще какое-то такое эротическое, да просто женское возбуждение.
В чем оно было?
Было буквально во всем. В ее походке – она ходила с грацией слонихи, но слонихи молодой, игривой, смеющейся (если слонихи умеют смеяться, а наверное, умеют!). Когда она надевала платок, повязывая его так, как обычно носят-перевязывают малярки, я не мог отвести глаз от курносоватого нежно-бабьего профиля, любовался ее овальной щекой, всегда в пунцовом румянце, ее губами, крупными, но не резкими, которые могут и обиженно плакать, и добрыми, простодушными, щедрыми, розовыми, без всякой помады, любовался ее подкрашенной бровью, которой она умела томно играть, и коричневой челкой, наискось из-под косынки. Я особенно любил ее, когда она желанно раскрывала губы и кончик нежно-розового языка дразнил меня, просовываясь меж двумя подковками зубов. Зубы Нади были выше всяких похвал и, наверное, вполне заслуживали всех этих эпитетов: белоснежные, ослепительные, у нее никогда не пахло изо рта, а вернее, запах был чистый и приятный, сходный с травой. Однажды я сказал ей об этом. «А я ромашкой рот всегда полощу, – ответила она, – вот обычной, на дворе растет. Хорошая травка!» И так же, уж признаться, пахла ее вагина, необыкновенно прекрасная, узкая, с двумя розовыми, кругло удлиненными валами и розовым же цветком меж ними. Волос тут у Нади, как у всякой чистоплотной настоящей татарки, не было, и это мне особенно нравилось. Она казалась так моложе и чище, просто крупная тяжелая девочка. Девочка в сорок лет!
Я любовался Надей, когда она одевалась или раздевалась, неторопливо двигаясь по комнате. Уже говорил, что носила она только длинные панталоны и никогда трусики, тем более не плавки.
– А… Нивкусные они, – объяснила, – ниженские. Женщина должна быть в таких штанах – так она желается лучше. А на резинку вот так надо. Вот так! – и, хохотнув, показывала язык. – Ага! Уже попался? Штаны для женщины – первое дело. И для мужчины понимающего – тоже. Цвет… И все такое, и ризинки. Я дак мимо никаких ритузов пройти не могу. Где продают. Увижу хорошие – сразу беру. У меня их штук сто будит. На всю жизень хватит.
Или укладывала полновесные груди в чашки бюстгальтера, жаловалась:
– Ай, тижолые. А перед ЭТИМ болячие. Ненароком заденешь – ойкнешь. И бегать мешают, и работать. Такие пративные… Хм.
Потом она надевала короткую широкую сорочку с кружевом и трикотажное платье.
Красилась недолго. Чернила только ресницы, особенно в углах век, приобретая после этого взгляд, который кто-то назвал у женщин неотразимым.
– Ну, пошла я, – говорила она.
И я провожал ее всегда на крылечко барака, дальше она не позволяла провожать: «Что люди про миня подумают?» Но, уходя, всегда оглядывалась – нет никого? Улыбалась плутовски и шла дальше, нарочно извилисто вертя ягодицами, – они двигались у нее будто сами собой, были одушевленными.
Но бывала она и другая. Вдруг и всегда почти внезапно исчезала дня на два-три. Я ждал, изводился. Работала она уже где-то на другой стройке. И я не знал – где. Спрашивал. «Зачем тибе? Что люди подумают? Я ведь замужняя все-таки». А на мою ревность, когда являлась, всегда очень радостная и словно побитая и приниженная, ответ был один:
– К тетке ездила.
– Что за тетка? Какая? Сама говорила – нет родни.
– Есть… Дальняя… Да что ты миня ривнуешь? Муж ривновал, да ты типерь? Пришла вот. Никуда ни делась. И мужика у миня нет. Все к тибе хожу.
Но однажды, истерзанный этими ее уклончивыми ответами, за которыми чуялась какая-то ложь, я решил выследить Надю. И, как хищник, притаился близ ее общежития в ожидании, когда Надя придет с работы. Был уже конец октября, но стояло тепло. Низкое солнце золотило к вечеру пожелтелые, полуопавшие тополя, и на душе у меня, в тон вечереющему дню, так же вроде было солнечно и грустно… Надю увидел издалека. Шла торопливо, нагруженная сумкой и кошелкой со снедью. Так же, торопясь, зашла во двор, где стоял двухэтажный барак общежития. Забор кругом обходил порядочный пустой двор, там всегда сушилось на веревках белье, а посередине две гнутые железные стойки с натянутой рваной волейбольной сеткой. За разломанным забором я и ждал, бывало, Надю, если ходили вечером в кино, и смотрел, как играли в волейбол, неумело топыря руки, девки-строительницы и парни с мельничного завода. Теперь я остался ждать. По торопливой походке Нади понял, что она скоро выйдет и, наверное, пойдет ко мне. А вдруг не ко мне? Забор был хорошим прикрытием, и я бродил вдоль него, поглядывая, как бы только не пропустить Надю, там был и еще один выход в другую сторону (ко мне!) через широкий давний пролом.
Надя действительно скоро вышла. И с теми же сумками-кошелками. «Значит, верно, к тетке!» – рассеянно подумал я. И хотел уже выйти из «засады», догнать, помочь нести. Но Надя из ворот направилась в сторону, противоположную моему расчету. Я отпустил ее довольно далеко и опять, как хищник, последовал за ней, постепенно понимая, что идет она к улице, где трамвай. К трамвайной остановке. Мне пришлось даже подбежать, чтоб успеть с ней вместе. Шла она быстро и не оглядывалась. Была она в плаще, видимо, еще в кофте, в сумках угадывалась снедь, хлеб и как будто даже бутылки. «Значит, точно к тетке», – с облегчением подумалось мне. И тут же охладило: «А вдруг к мужику? Что же я за дурак? Какой это резон сорокалетней женщине ездить регулярно к какой-то старухе? Ведь «тетке», наверное, не меньше шестидесяти – семидесяти? И так торопиться? Нет, идет она явно… Или к тетке? И все-таки проверю».
На остановке ждала густая толпа. Это помогло мне совсем незаметно сесть в тот же вагон, не упуская из виду Нади. Пока в трамвае было тесно, я даже не очень заботился о конспирации. Надина тетка жила, видимо, где-то на окраине, далеко за Визом, потому что моя женщина (МОЯ ЖЕНЩИНА!) – учтите это, мужчины, любящие притяжательные местоимения, – спокойно уселась на освободившееся место и будто не собиралась подниматься до конечной остановки. Вагон пустел, и мне пришлось выскочить, перебежать в прицепку. Уже хотелось теперь разыграть роль сыщика, и я подумал, стоя на передней площадке второго вагона и рассматривая через два стекла неясно видимую подругу, что работа эта, сыщиком, интересная и даже, найду такое слово, – увлекающая.
Но вот трамвай заскрежетал на поворотном круге, оставшиеся пассажиры поднялись, а я увидел, как встала Надя, поправляя свободной от сумок рукой подол помявшегося плаща. Теперь мне надо было как можно незаметнее выйти, пропустить Надю вперед и в то же время не потерять из виду. Помогло то, что трамвай стоял на повороте и один вагон как бы заслонял другой. Надю я увидел уже порядком удалившейся по ветхозаветной окраинной улице, широкой, обсаженной кленами и тополями, с домишками на два-три окна по обе стороны и сухими колеями, заваленными бурым и желтым листом. «Впрямь зря слежу, – думалось, – к тетке она, конечно. Какое свидание здесь, на этой окраине..» Но я шел следом, пока Надя не остановилась у ворот, не то стучала, не то звонила. Я шел по противоположной стороне, где тоже были тополя, не раз спиленные и окруженные снизу буйной порослью. Меня не было видно, хотя сам я, приблизившись, видел, что калитку открыла какая-то женщина (вроде бы женщина?), так показалось, но могучая фигура Нади заслонила ее, еще раз мелькнул овал ее зада. Калитка захлопнулась.
«Ну? Убедился? Сы-щик! Раз женщина открыла, зачем я тут?» Уже заметно свечерело, и село солнце. Стоял обычный октябрьский вечер, тихий и быстро темнеющий. А я все топтался, как дурак, не то собираясь уйти, не то ожидая, что, может быть, Надя, недолго побыв у тетки, пойдет обратно, а я как-нибудь ухитрюсь, встречу ее на дороге, в трамвае… Даже «прокрутил» все эти сцены, слова, жесты удивления Нади и свою «нечаянную» радость. Что Надя обрадуется встрече, я не сомневался. Так, в ожидании проторчал около домика часа два, медленно ходил взад и вперед, все не решаясь уйти, и уж совсем темно стало. Зажглись огоньки. А я не уходил, теперь твердо решился ждать Надю, чтобы проводить домой. Такое есть мужское беспокойство. Теперь я уже перешел на сторону, где жила «тетка», и приблизился к домику на два окна с низкой завалиной. На окнах были белые занавески-задергушки, а сами окна еще завешены тюлевыми шторами. Стоя у ворот, я грешно подумал, что едва услышу, как Надя выходит во двор, стригану по улице до ближнего угла, а там она меня не заметит, и я разыграю в трамвае нечаянную встречу. Вот и все. А время шло. Стоя у домика, я надеялся услышать хотя бы Надин голос, но ничего не слышал, кроме отрывочных глухих звуков и чего-то похожего на щелчки. Слух мой не мог все это соединить в понятную мне речь. Может, там они по-татарски? Звуки все-таки долетали, но походили скорее на выкрики или стоны.
«Да что они там? Дерутся? Хохочут? Плачут?» – подумал уже с тревогой и подошел к домику вплотную.
– О-о… О-ай! Аи! (Это было точно ее «О-ай!».)
Что там такое? И, уже не думая об осторожности, я встал на завалинку, держась за наличник, заглянул поверх задергушек в освещенную комнату. Тюль не очень мешал смотреть, был прозрачный, и то, что я увидел, потрясло. Я оцепенел.
Надя… Моя Надя стояла на коленях, лежа животом на широкой расстеленной кровати, вытянув вперед связанные чем-то в запястьях руки. Розовые панталоны были спущены до колен, а рядом и тоже в штанах стояла тощая голая женщина, похожая на мужика, и хлестала Надю узким ремнем по ягодицам, по бедрам, оставляя полосы-следы на ее пухлом заду и ногах.
Обе женщины кричали, стонали. Вздрагивал и толстый Надин зад. Она виляла им, дергалась, заламывала за голову связанные руки, а тощая, словно зверея, порола и порола ее все сильней, потом, бросив ремень, повалилась на кровать, и обе женщины, обнявшись, корчились, извивались, взвизгивали, припадали друг к другу и, похоже, даже кусались. Потом тощая, содрав штаны, швырнула их под кровать, оседлала Надю, как лошадь, и, кривляясь, закидываясь, дергалась, как наездница, жутко оскалив зубы, зажмуривая глаза. Я узнал лицо наездницы. Это была та черная Машка, Надина подруга и напарница по работе, нелюдимого вида баба, похожая на мужика и в возрасте, который не хочется определять, – не все равно, сорок ей, пятьдесят или даже больше…
А женщины сплелись опять в какой-то узел, по-прежнему гортанно вскрикивая, и я видел, как Надя, уже с развязанными руками, обнимает, целует свою подругу.
С чем-то похожим на лед в голове я осторожно слез с завалины, стоял как бы оглушенный и пронизанный этим льдом-морозом. Куча парней, светя сигаретами, прошла мимо, и один послал меня матюгом.
Я не шевелился. Мне было как будто дурно, и, если б поблизости была вода, я кинулся бы туда напиться. И тут мне пришла мысль, что иногда я видел на заду моей возлюбленной какие-то розоватые полосы и словно бы синяки.
– Ай! Да на стройке, в ящике посадила! Комбинезон жмет. Толстая я. Видишь, какая. Растет и растет, – хохотала Надя, отворачиваясь от меня. И я верил.
Когда я снова поднялся на завалинку, женщины лежали в постели. Надя внизу, а тощая на ней, присасываясь к ее грудям, попеременно прижимая их к лицу. Всасывалась и дергалась. Потом она повернулась, легла наоборот, и я видел, как длинный высунутый язык лижет вход в Надино лоно. Надя подняла согнутые в коленях ноги, раздвинула их, и мне не стало видно голову этой чернушки, только ее противный зад со впадинами по бокам, вихлявый и мерно бьющийся, и тощие ноги по сторонам Надиной головы.
Больше я не мог смотреть. Спрыгнул с завалины, и видимо, шумно, неловко, потому что в доме почти тотчас погас свет. Все затихло. Но теперь мне уже было не до того. Оглушенный, внезапно оглохший, я шел улицей к трамвайному кольцу. Шел, не зная, что мне делать теперь. Сказать Наде, что я видел все это? Молчать, не подавать вида? Оставить все, как было? В конце концов, она живет со мной, и мне хорошо, и она не так уж часто ездит «к тетке»? Теперь только я понял тайный и даже порочный смысл ее слов и странный смех, которым она сопровождала это: «Я все могу! Может, ты еще и узнаешь, что могу! Ни все сразу!» Понял. Однако странно, что, воспылав к Наде трясучей ненавистью, я почему-то не разбил окно, не залепил камнем? Не нашел? «Сверну шею этой тощей чертовке! Сверну шею!» – кажется, бормотал, идя. Как ясны стали Машки этой ненавидящие взгляды, прицельная злоба ко мне! Да это же была самая настоящая ревность! Постепенно как бы успокаивался. Женщину к женщине ревновать, видимо, проще, легче. Пришла мысль: «Вот если б Надя все это с мужиком? Тогда я не знаю, что бы сделал!» Слабое утешение. Душа ныла навылет. И когда я пришел к трамвайному кольцу, вид у меня был (поглядеть бы со стороны!) как у открывшего загадку Сфинкса.
Страшно говорить, но лагерь и здесь пришел мне на помощь. Пока ждал трамвай, в голову лезли все эти рассказы про женские колонии, про голодных баб, беснующихся там, про их «коблов» и «жен». И вдруг пришло: «А если Машка эта похожа на зэковку? Похожа? Похожа! И даже очень! Тюремная неизбывная чернота во взгляде, неженская развинченная походка, сухие узловатые руки и вроде бы даже наколка на одной. И стрижка «под мужика»! Конечно же, она «мужик», «кобель». А Надия? Уж не была ли и она в колонии? Мотала срок? И она?» Эта мысль заставила меня пропустить еще один трамвай, и еще… А может, я ждал – подойдет Надия, и я ее то ли излуплю, отхлещу то ли кинусь с объяснениями и обвинениями. Что я знаю про Надю? То, что детдомовка, муж в тюрьме. А остальное? Она чуть не вдвое старше меня, и неизвестно, когда и почему сошлась с этой Машкой. Но ясно, что до меня. Да не все ли равно? Пей чашу! Пей чашу, дурак! И знай, что такое женщина! Вот эта у тебя первая? Почти что первая. Первая, может быть, все-таки медсестра Марина, к которой ходил на процедуры – избавляться от глистов и которая обучала тебя, тринадцатилетнего, трясясь до лужи под собой, глотая вытянутое из тебя с утробными стонами. Она ведь тоже была женщина и шла на большой риск – «развращение малолетних»!
На следующем пустом трамвае я уехал.
Я ехал, глядел в окно и ничего словно бы не видел там – мелькали какие-то строения, дома с редкими огоньками, трамвай качало, люди входили и выходили, а я слепо таращился в окно, в себе же и внутри себя видел обнаженный, вздрагивающий Надин зад, хлещущую бабу, ее мужские, с провалами на боках, ягодицы. Так доехал до поворота, где трамвай уже шел по короткой улице Дзержинского, и тогда только очнулся, вышел, побрел к своему бараку.