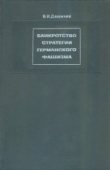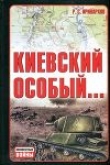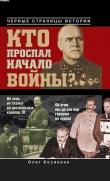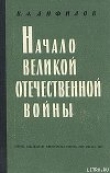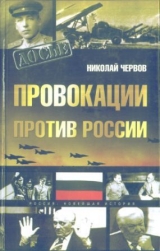
Текст книги "Провокации против России"
Автор книги: Николай Червов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 37 страниц)
В Генеральном штабе не вникли глубоко в смысл предложения Шапошникова и отнеслись к нему отрицательно. В этой ситуации Сталин все-таки потребовал от Наркомата обороны не подводить к новой госгранице основные кадровые соединения, которые находились еще в стадии формирования. Более того, располагая данными о концентрации германских войск по ту сторону границы, он высказал опасение, что в случае нападения гитлеровцев наши войска могут оказаться окруженными и разгромленными в приграничной зоне. «Мы не будем подводить войска к границам, потому что тогда Гитлер действительно при этом раскладе выиграет молниеносную войну. Блицкриг. Любым путем. Хотя Жуков настаивает, Тимошенко настаивает, другие маршалы настаивают, а я сказал: подводить не будем». Однако эти указания Сталина были выполнены не полностью. Тимошенко и Жуков об этом умалчивают. Но так было.
Высказывались другие предложения: а) Основные силы военных округов сосредоточить в районе новой госграницы в готовности отразить удары противника, остановить его наступление, затем самим перейти в контрнаступление на избранных направлениях; б) На новой госгранице иметь только части прикрытия,
72
а главными силами военных округов организовать глубокоэшелонированную оборону, используя для этого труднодоступные естественные преграды.
Наркомат обороны и Генеральный штаб, как известно, приняли свой вариант создания исходной группировки войск западных приграничных военных округов, хотя предложение Б. М. Шапошникова и упомянутые указания Сталина на этот счет были весьма ценными. Если бы они были приняты и реализованы, то события, возможно, приняли бы иной оборот. Однако случилось то, что случилось. Маршал Г. К. Жуков в своих мемуарах не рассматривает названные варианты и не дает им оценки, считая принятое Генштабом решение по этому вопросу оптимальным.
Конечно, у полководца Г. К. Жукова, обладающего талантом предвидения, имелись все основания, к тому же спустя более 30 лет после окончания войны, делать подобные оценки исходной группировки советских войск. Но ведь и на солнце пятна бывают.
Приведенное в таблице 5 реальное соотношение сил сторон на направлениях главных ударов противника, где действовали танковые группы (Тгр) немецко-фашистских войск (22 июня 1941г.), никак не оправдывает «оптимальность» решения Генштаба, согласно которому советские дивизии были рассредоточены на значительных пространствах (2/3 войск размещалось вдоль границы на глубину 100-150 км, остальные – в 500 км от границы).
Таблица 5*
Немецкие танковые группы (Тгр)
Состав первого эшелона Тгр немцев
Фронт наступления Тгр (км)
Соединения советских войск против Тгр вблизи границы
4– я «Север»
1,6, 8 тд (свыше 600 танков), 268 и 290 пд
40
125 сд
* История Великой Отечественной войны. Т. 1. С. 474.
73
Продолжение табл. 5
Немецкие танковые группы (Тгр)
Состав первого эшелона Тгр немцев
Фронт наступления Тгр (км)
Соединения советских войск против Тгр вблизи границы
3– я «Центр»
7, 12, 20 тд (свыше 600 танков)
30
128 сд, один полк 188 сд
2– я «Центр»
3,4, 17, 18тд (свыше 800 танков)
70
6, 42, 75 сд 22 тд (небоеготовая)
1– я «Юг»
299, 111,75, 57, 298, 44 пд, две тд (до 600 танков)
65
87. 124 сд
При указанном в таблице соотношении сил сторон печальный исход сражения был очевиден. Поражает, однако, другое. В своих воспоминаниях маршал Г. К. Жуков говорит о том, что в декабре 1940 г. на военно-стратегической игре, командуя «синими», он «…развил операции именно на тех направлениях, на которых потом развивали их немцы. Наносил свои главные удары там, где они потом наносили. Группировки сложились примерно так, как потом они сложились во время войны».
Спрашивается, почему же Наркомат обороны и Генштаб на практике не сделали необходимых выводов из довоенной стратегической игры? Ответ поистине шокирующий: никто из военных руководителей не рассчитывал, что немцы сосредоточат такую массу танков на всех стратегических направлениях в первый день войны. А почему не рассчитывали? Ответа нет.
Сегодня мы можем только сказать, глядя на таблицу, что нельзя не видеть скрытую в ней гибельную угрозу нашим войскам западных военных округов:
– Советские дивизии, находясь непосредственно вдоль границы, располагались «узкой лентой» на фрон-
74
те 40– 50 км каждая. Они должны были, по замыслу Наркомата обороны и Генерального штаба, в разыгравшемся приграничном сражении прикрыть завершения отмобилизования и развертывания основных сил западных военных округов. Но это для них была заведомо не выполнимая задача, так как на направлениях «танковых клиньев» (главных ударов) гитлеровцы создали шести-восьмикратное превосходство в силах и средствах.
– Складывалась ситуация, при которой немецкие войска имели возможность наносить поражение нашим войскам по частям: сначала всеми силами обрушиться на немногочисленные соединения и части, расположенные вдоль границы; затем преодолеть сопротивление главных сил прикрытия приграничных округов и, прорвавшись в оперативную глубину, напасть на войска вторых эшелонов и резервов этих округов (фронтов). В этом была роковая ошибка нашего Генштаба.
– Крупный просчет в создании исходной группировки войск состоял в несоблюдении одного из основных принципов военного искусства – решительного сосредоточения (массирования) сил и средств на избранных направлениях. Это обнаружилось сразу же в первых сражениях. Например, войска Западного фронта в Белоруссии вынуждены были сражаться в каждый момент времени с превосходящими силами противника из-за стремления прикрыть войсками всю полосу обороны. Вторые эшелоны (резервы), предназначенные для нанесения контрударов и для усиления, во многих случаях выдвигались по частям, с запозданием и использовались для затыкания «дыр».
Раздробленность исходной группировки войск приграничных округов была обусловлена, конечно, не политикой, а военным искусством. Результатом ее стала трагедия для наших войск: многочисленные «котлы» (Белостокский, Сломинский, Новогрудский), фланговые удары, охваты, прорывы в глубину, огромные поте-
75
ри в живой силе и технике*. То есть немцы, используя наши ошибки, повторили в основном те же приемы военных действий, что были в германо-польской войне, только в более крупных масштабах.
Реальная картина получилась такова, что главной причиной успеха гитлеровцев в первые часы и дни войны явилось вступление в сражение советских войск, как и польской армии, по устаревшему «сценарию» Первой мировой войны.
Можно ли было выправить положение дел в группировке сил и средств, начиная, скажем, с 13-14 июня, когда Тимошенко и Жуков требовали разрешения у Сталина о приведении войск приграничных округов в полную боевую готовность?
Для этого, очевидно, надо знать, что делалось на той стороне границы. По данным гитлеровских материалов, в мае – июне 1941 г. шла интенсивная подготовка к вторжению:
в мае Гитлер отдал приказ о начале передислокации войск и подготовке плацдарма для нападения на СССР в Западной Польше;
6– 19 июня -развертывание вооруженных сил в Финляндии, Венгрии, Румынии;
8 июня – доведение боевых задач до командующих группами войск (армиями) о непосредственной подготовке к вторжению;
* Так, потери Западного фронта в Белоруссии (22.06 – 9.07.1941 г.) составили: личного состава около 70% (417 729 человек, из них безвозвратных – 341 012), танков – 3332, артиллерийских орудий – 1809.
Потери немецкой группы армий «Центр» – 22 тыс. человек, танки – около 50%. (Независимое военное обозрение. 2001. № 22.)
Потери пяти советских фронтов и Балтийского флота (Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный, Южный – 18-я армия) в начальный период войны (22 июня – 9 июля 1941 г.) составили (тыс. человек): 762,22 (безвозвратные – 595,71, санитарные – 166,51), танки (на 1 августа) – 90%, боевые самолеты – 41%.
Потери сухопутных войск вермахта (22.06-31.07) – ок. 214 тыс. человек, танки – ок. 45%, ВВС – 35% боевых самолетов (1/3 всей группировки).
76
14 июня Гитлер провел последнее перед нападением на СССР совещание с высшим командным составом, заслушал доклады о готовности войск;
16 июня главные группировки немецких войск завершили сосредоточение и развертывание в исходных районах для наступления. Был отдан приказ о готовности вторжения через госграницу. Час «Ч» был назначен на 3 часа 30 минут 22 июня;
18 июня главнокомандующий сухопутными войсками фельдмаршал Браухич объявил приказ Гитлера о нападении вермахта на СССР 22 июня;
21 июня было зачитано войскам воззвание Гитлера по поводу предстоящего вторжения в СССР. В этой связи Геббельс в своем дневнике записал: «Фюрер заявил, что мы должны добиться победы, не важно, правы мы или нет. Мы должны любым путем достичь победы, в противном случае немецкий народ будет сметен с лица земли».
В ночь на 22 июня Гитлер прибыл в свою новую ставку «Волчье логово» – Вольфшанце (сосновый лес Мауэрвальд в Восточной Пруссии). Отсюда он решил управлять восточной кампанией по уничтожению России.
Здесь, в «Волчьем логове», в 2 часа 30 минут 22 июня Гитлер, находясь в нервном экстазе, сказал своим ближайшим помощникам: «Не пройдет и трех месяцев и мы увидим крах России, такой, которого мир не видел за всю свою историю. После разгрома России никто не сможет победить Германию, она будет в состоянии вести войну с целыми континентами».
Следует особо отметить, что согласно директиве главного командования вермахта (ОКВ) военные приготовления маскировались в основном до 18 июня, после чего камуфляж отменялся.
Сопоставляя проведенные сторонами мероприятия на пороге войны, можно считать, что Наркомат обороны и Генеральный штаб начиная с 14 июня теоретически еще могли кое-что сделать для активного отражения агрессии. Но практически ликвидировать имеющиеся
77
недочеты в создании группировки своих войск, соответствующей условиям складывающейся обстановки, было невозможно.
Не имея разработанной и систематизированной теории характера начального периода современной войны, располагая лишь высказываниями отдельных военных руководителей на этот счет, Наркомат обороны и Генеральный штаб были не в состоянии в считанные дни и в полном объеме перестроить порядок вступления вооруженных сил в войну, особенно в части, касающейся вопросов ведения первых сражений и операций. Например, как можно было организовать оборону или отступление (отход) по всем правилам военного искусства, если эти виды боевых действий военным руководством глубоко не изучались, а оперативно-тактические соединения и объединения им не обучались. Безусловно, это отрицательно сказалось на создании исходной группировки наших войск и определило неблагоприятное для нас соотношение сил в приграничной зоне к началу войны.
Реальность такова: устаревший «сценарий» вступления в войну остался без изменений. Будучи заложенным в оперативные документы, а также в мышление командующих войсками военных округов, он обусловил все прочие просчеты и привел к трагедии. Именно в силу этой первопричины поражение Красной Армии в начале войны было неизбежным. Почему? Потому, что созданная по ошибочной схеме начала войны группировка войск приграничных округов не отвечала ни наступательным, ни оборонительным требованиям, не соответствовала складывающейся обстановке. Изменить в короткий срок группировку войск фронтов, отвечающей обстановке, было невозможно, так как большинство командного состава, включая высшее руководство Красной Армии, в то время практически не было готово к изменениям, происшедшим в характере и способах начала ведения второй мировой войны.
78
Оценивая, спустя много лет после войны, эту глобальную ошибку нашего поражения в первых сражениях, Жуков определенную долю ответственности за нее возложил на наркома обороны, работников Наркомата обороны и на себя, как бывшего начальника Генерального штаба и ближайшего помощника наркома.
Некоторые историки при оценке группировки войск западных военных округов ссылаются на то, что в том виде, как она была создана, имелись якобы лучшие возможности организовать глубокоэшелонированную оборону, организовать сопротивление агрессору и избежать запланированные немцами «котлы» окружения. Однако при детальном рассмотрении проблемы выясняется, что нет ничего далее от истины, чем подобные утверждения.
Все дело в том, что войска округов (фронтов) готовились к наступлению, к наступательным операциям и должны были иметь наступательные группировки. К активной стратегической обороне войска не готовились ни с точки зрения их оперативного расположения, ни в инженерном отношении. Об этом свидетельствуют оперативные директивы (боевые приказы).
В тоже время для ведения наступательных действий сил было мало. Если проанализировать по всем правилам оперативного искусства исходные группировки войск сторон перед началом войны, то соотношение сил было далеко не в нашу пользу. Противник превосходил наши войска по количеству личного состава в 1,8 раза, по средним и тяжелым танкам – в 1,5 раза, по боевым самолетам новых типов – в 3,2 раза, по орудиям и минометам– в 1,25 раза. Поскольку наши резервные соединения из-за удаленности не могли принять участия в отражении первого удара врага, превосходство противника в первый день войны на главных направлениях оказалось шести-восьмикратным!
Знающие эту проблему военные специалисты могут сказать, что в составе военных округов не учтены механизированные корпуса, которые успешно могли использоваться для контрударов и в наступательных целях.
79
Правильно, мехкорпуса были, но только номинально.
В западных военных округах числилось около 20 механизированных корпусов, в том числе в Западном – 6 (6, 11, 13, 14, 17, 20), в Киевском – 8 (4, 8, 9, 15, 16, 19, 22, 24). Большинство из них начали формироваться лишь в марте 1941 г. К началу войны ни один из этих корпусов не был полностью укомплектован ни личным составом, ни боевой техникой. Укомплектованность материальной частью (с учетом танков устаревших конструкций) в среднем составляла 53%. Ряд корпусов (13, 17, 20 и 24) из-за ограниченного количества танков вообще не представлял собой механизированных соединений*.
Так вот, считаю возможным еще раз подчеркнуть, что исходное расположение войск западных приграничных военных округов не отвечало требованиям боевого положения, оно не было ни наступательным, ни оборонительным. Оно было рассчитано на первоначальное приграничное сражение, под прикрытием которого необходимо было в сжатые сроки провести отмобилизование вторых эшелонов и резервов военных округов (фронтов) и ввод в сражение главных сил. Такой расчет был ошибочным, устаревшим и явился главной причиной наших поражений и больших потерь в первых операциях начального периода войны**.
Гитлер считал, что русские, возможно, осознав оперативные цели вермахта, после первого поражения начнут отходить на широком фронте на восток и где-то в глубине за какими-либо естественными препятствиями перейдут к обороне. Поэтому задача: уничтожать крупные части противника, а не заставлять его бежать. Для этого необходимо подвижными группировками овладевать флангами, приостановив временно атаку
* Военно– исторический журнал. 1964. № 3. С. 33-34.
** Должно быть, читатель согласится со мной, что в указанных неблагоприятных условиях предлагаемые Сталину 15 мая 1941 г. «Соображения…» о нанесении превентивного удара по германским войскам были фактически роковыми.
80
в центре, наносить удары по флангам, окружать и истреблять его, стремительно продвигаться при этом в глубину.
Советское военное руководство мыслило иначе. В марте 1941г. состоялось совещание Главного военного совета. Проблема начального периода войны фактически не рассматривалась. Организация оборонительных операций почти не обсуждалась. Основное внимание уделялось вопросам повышения боевой готовности, ведения наступательных операций, концентрации сил и средств на решающих направлениях (КОВО и ЗапВО).
«В первые дни войны, – вспоминал маршал Жуков, – мы с наркомом полагали, что Красная Армия сможет отразить вторжение противника в западные районы страны, а затем, измотав его ударные группировки, перейдет в контрнаступление в соответствии с оперативным планом».
Однако война началась по другим «рецептам», требующим перехода к обороне, а наши войска действовали по устаревшему сценарию начального периода войны и в соответствии с теоретическими взглядами проводили контрудары танковыми и механизированными корпусами с решительными целями, неся при этом тяжелые потери.
Только через неделю кровопролитных военных действий и с выходом противника к Днепру военное руководство Красной Армии «отрезвело» и в душе признало ошибочность всего «сценария» запланированного начального периода войны как одной из главной причин катастрофического поражения войск западных приграничных фронтов.
Забегая вперед, отмечу, что другой главной причиной поражения наших войск в первые месяцы войны явилось игнорирование военным руководством Красной Армии «ведения активной стратегической обороны по всем правилам оперативного искусства».
Как известно, с первых дней войны войска отступали, цепляясь за каждый рубеж, проводили контрудары
81
и контратаки, несли тяжелейшие потери, однако выгодных рубежей для обороны в глубине (р. Западная Двина, Днепр и др.) не готовили. В результате чего нарушенная стратегическая устойчивость фронта долгое время не позволяла ликвидировать опасные прорывы ударных группировок противника на важнейших направлениях. К 10 июля, то есть через 18 дней войны, немцы прорвались на северо-западном направлении до 500 км, на западном – до 600 км, на юго-западном – до 350 км.
Однако спланированной стратегической обороны «по всем правилам оперативного искусства» не было. Планомерного отступления также не получалось. Были тяжелейшие бои и сражения за удержание отдельных рубежей и разрозненный ввод в сражение выдвигающихся к фронту резервов. Такая стратегия «заманивания» противника в глубину страны ставила войска в еще более тяжелое положение, вынуждая их к беспорядочному отступлению.
Только к середине июля удалось противопоставить противнику более или менее устойчивый почти сплошной фронт*. Сама обстановка заставила главнокомандование Красной Армии пересмотреть негодный прежний план войны и перейти постепенно к заново спланированной стратегической обороне.
Все указанные выше ошибки оперативно-стратегического характера были допущены военной элитой – Наркоматом обороны, Генеральным штабом и командованием округов (фронтов) – накануне и в начале войны.
Что касается вопроса о несвоевременном приведении в боевую готовность Вооруженных Сил, то здесь, видимо, также не все однозначно. Сошлюсь на конкретные факты.
Во– первых, в канун войны три флота (Балтийский, Черноморский, Северный) получили распоряжение Главного морского штаба «перейти на готовность
* К этому времени, согласно периодизации войны, фактически закончился ее начальный период (с 22 июня до середины июля 1941 г.).
82
№ 1 и в случае нападения применить оружие». Например, командующий Северным флотом контр-адмирал А. Г. Головко в книге «Вместе с флотом» пишет: «19 июня. Получена директива Главного морского штаба – готовить к выходу в море подводные лодки… Приказал рассредоточить лодки по разным бухтам и губам». ВМФ встретил войну во всеоружии.
Во– вторых, 18 июня 1941 г. командующий Прибалтийским Особым военным округом генерал-полковник Ф. И. Кузнецов издал приказ № 00229 управлению и войскам округа о проведении мероприятий с целью быстрейшего приведения в боевую готовность театра военных действий округа. Совершенно секретно. Приказом предусматривалось:
«1. Начальнику зоны противовоздушной обороны к исходу 19 июня 1941 г. привести в полную боевую готовность всю противовоздушную оборону округа.
2. Начальнику связи округа привести в полную готовность все средства связи на территории округа, для чего: а) не позднее утра 20.6.41 г. на фронтовой и армейские командные пункты выбросить команды с необходимым имуществом для организации на них узлов связи… б) организовать и систематически проверять работу радиостанций согласно утвержденному мною графику…»
3– 19. Ставились конкретные задачи командующим армий (8, 11, 27) и всем начальникам служб округа.
Войска ПрибОВО выполнили точно и в срок задачи, поставленные указанным приказом Ф. И. Кузнецова.
Так, командир 12-го механизированного корпуса генерал-майор Шестапалов своим приказом № 0038 от 18.6.41 г. о приведении частей корпуса в боевую готовность требовал:
«1. С получением настоящего приказа привести в боевую готовность все части.
2. Части приводить в боевую готовность в соответствии с планами поднятия по боевой тревоге, но самой боевой тревоги не объявлять. Всю работу проводить быстро, но без шума, без паники и болтливости, имея
83
положенные нормы носимых и возимых запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов, боеприпасов и остальных видов военно-технического обеспечения…
3. Пополнить личным составом каждое подразделение. Отозвать немедленно личный состав из командировок…
4. В 23.00 18.6.41 г. выступить из занимаемых зимних квартир и сосредоточиться в районах…
5. Марши совершать только в ночное время. В районах сосредоточения тщательно замаскироваться и организовать круговое охранение и наблюдение. Вырыть щели, войска рассредоточить до роты с удалением роты от роты 300-400 м».
П. П. Полубояров (начальник автобронетанковых войск ПрибОВО): «16 июня в 23 часа командование 12 механизированного корпуса получило директиву о приведении соединений в боевую готовность… 18 июня командир корпуса поднял соединения и части по боевой тревоге и приказал вывести их в запланированные районы. В течение 19 и 20 июня это было сделано… 16 июня распоряжением штаба округа приводился в боевую готовность 3-й механизированный корпус, который в такие же сроки сосредоточился в указанном районе».
Во исполнение приказа командира 12-го мехкорпуса командир 28-й танковой дивизии полковник И.Д. Черняховский во второй половине дня 18 июня поднял части дивизии по боевой тревоге. Приведенная в боевую готовность, дивизия в 23.00 18 июня выступила с зимних квартир (г. Рига) и, пройдя за два ночных перехода свыше 400 км, к утру 20 июня сосредоточилась в указанном районе Груджяй – Межкуйчяй – Буйвони (15-20 км севернее г. Шяуляй), в 130 км от государственной границы с Восточной Пруссией, в готовности к боевым действиям. Состав дивизии: 9300 человек, 250 боевых танков Т-26 и БТ-7.
П. А. Пуркаев (начальник штаба КОВО): «13 или 14 июня на Военном совете я внес предложение вывести
84
стрелковые дивизии на рубеж Владимир-Волынского укрепрайона, не имеющего в оборонительных сооружениях вооружения… Тут же из кабинета я позвонил начальнику Генерального штаба. Г. К. Жуков приказал выводить войска на рубеж УРа, соблюдая меры маскировки».
И. X. Баграмян: «15 июня мы получили приказ (из Москвы. – Н . Ч.) начать с 17 июня выдвижение всех пяти стрелковых корпусов второго эшелона к границе. У нас уже все было подготовлено к этому… оставалось лишь дать команду исполнителям. Мы не замедлили это сделать».
Можно привести еще много примеров на этот счет, которые проводились по команде Москвы. Они свидетельствуют о том, что все флоты, большая часть войск ПрибОВО и КОВО были приведены в боевую готовность 18-20 июня 1941 г., своевременно подтянуты и развернуты к границе. Эти мероприятия проводились активно и организованно наркомом ВМФ Н. Г. Кузнецовым, командующими войсками ПрибОВО Ф. И. Кузнецовым и КОВО М. П. Кирпоносом. Неудовлетворительно и бесконтрольно со стороны командующего и штаба округа эти меры прошли в ЗапОВО (генерал армии Д.Г. Павлов).
После всего вышесказанного скудоумными выглядят утверждения ряда историков о том, что якобы из-за упрямства Сталина запоздало приведение пограничных войск в боевую готовность. Рассекреченные и опубликованные ныне документы опровергают любые авторитеты на эту тему. Опровергаются они и практикой первых дней сражений Великой Отечественной войны.
На северном направлении, по оценке командующего 3-й танковой группой немецкого генерала Г. Гота, дивизии 5-го и 6-го танковых корпусов «сразу же после перехода границы натолкнулись восточнее г. Сейны на окопавшееся охранение противника, которое, несмотря на отсутствие артиллерийской поддержки, удерживало
85
свои позиции до последнего. На пути дальнейшего продвижения к Неману наши войска все время встречали упорное сопротивление русских».
Немецкая группа армий «Юг», действующая против КОВО (Юго-Западный фронт), не сумела обеспечить достаточной свободы маневра для моторизованных соединений. Поражало упорство противника в обороне и при контратаках.
Только немецкая группа армий «Центр», по оценке генерала Блюментрита, не встретила никакого сопротивления. «В 3 часа 30 минут вся наша артиллерия открыла огонь. И затем случилось то, что показалось чудом: русская артиллерия не ответила… Через несколько часов дивизии первого эшелона были на том берегу р. Буг. Переправлялись танки, наводились понтонные мосты, и все это почти без сопротивления со стороны противника. Не было никакого сомнения, что застали русских врасплох… Наши танки почти сразу же прорвали полосу приграничных укреплений русских и по ровной местности устремились на Восток». Через неделю обнаружилась катастрофа Западного фронта.
Итак, первые часы и дни приграничного сражения показали, что наши Вооруженные Силы, несмотря на проделанную работу по подготовке к отражению агрессии, вступили в войну недостаточно подготовленными.
Ни на минуту не сомневаясь в неизбежности войны с гитлеровской Германией, советское военное руководство, на мой взгляд, не уделило достаточного внимания начальному периоду войны и не сумело перестроиться на новые формы и способы вступления в войну. Цепляясь за формы начального периода Первой мировой войны, оно было уверено в том, что сил и средств на границе достаточно для отражения первых ударов противника, а с вводом в сражение отмобилизованных вторых эшелонов и резервов – для его полного разгрома. Такая уверенность стала главной причиной катастрофы Западного и Юго-Западного фронтов, которую
86
фактически вряд ли можно было предотвратить, например, такими мерами, как приведение войск в полную боевую готовность, своевременное отмобилизование и т. д.
Что касается Сталина, то авторитетное мнение о нем в данном вопросе высказал Адмирал Флота СССР Н. Г. Кузнецов: «Анализируя события последних мирных дней, я предполагаю: И. В. Сталин представлял боевую готовность наших вооруженных сил более высокой, чем она была на самом деле. Совершенно точно зная количество новейших самолетов, дислоцированных по его приказу на пограничных аэродромах, он считал, что в любую минуту они могут взлететь в воздух и дать надежный отпор врагу. И был просто ошеломлен известием, что наши самолеты не успели подняться в воздух, а погибли прямо на аэродромах».
Переоценка Сталиным боеготовности Советских Вооруженных Сил, по-видимому, объясняется тем, что он в предвоенные годы усиленно занимался вопросами технического перевооружения Красной Армии, переводом промышленности на массовый выпуск новых образцов оружия и боевой техники, реорганизацией и переоснащением всех видов и родов войск. Поэтому из-за отсутствия времени редко инспектировал войска на предмет их боевой готовности, полагаясь в этом деле на Наркомат обороны и Генеральный штаб. Он знал многие слабости Красной Армии по результатам советско-финляндской войны, по докладу Тимошенко после приема Наркомата обороны в мае 1940 г., но надеялся, что новое военное руководство выправит положение дел. Ведь у Сталина были еще другие заботы: громадное хозяйство страны, военно-промышленный комплекс, сложнейшие вопросы дипломатии, создание государственных резервов и мобзапасов и т. д.
Без преувеличения можно сказать, что только благодаря Сталину созданный накануне войны достаточно прочный фундамент экономического и военного потен-
87
циалов позволил Советскому Союзу избежать полного разгрома в начальный период войны и обеспечить себе будущую Победу.
Теперь рассмотрим другую ошибку того времени – о просчете в определении сроков вероятности нападения фашистской Германии. Почему, зная о неизбежности войны, гитлеровцы застали нас недостаточно подготовленными к отражению ударов? О какой внезапности нападения можно говорить, если войну ждали со дня на день?
Вопросы сложнейшие, требующие сопоставления множества фактов, мнений, сведений.
Например, маршал Жуков считал, что ошибка Сталина состояла в том, что он отрицал неизбежность скорой войны с немцами и это явилось основной первопричиной тяжелой обстановки, сложившейся в первый период войны. Аналогичная мысль на страницах печати повторяется и поныне.
Более того, в 10-м издании мемуаров Жукова, дополненном по рукописи автора, высказывается почти научная, но далекая от истины следующая версия: «И. В. Сталин убеждал нас в том, что гитлеровская Германия надолго связала себя, ввязавшись в войну с Францией и Англией, и выйдет из нее настолько ослабленной, что ей потребуются многие годы, чтобы рискнуть развязать большую войну с Советским Союзом. Тем временем наша страна значительно окрепнет экономически, освоит воссоединенные с Советским Союзом районы Прибалтики, Западной Белоруссии, Западной Украины и Молдавии и закончит строительство укрепленных рубежей на новых государственных границах.
– Когда же все это нами будет сделано, – говорил И. В. Сталин, – тогда Гитлер не посмеет напасть на Советский Союз.
88
Желая во что бы то ни стало избежать войны с Германией, Сталин строил свои расчеты на сомнительной основе».
Складная получилась сказочка о «мирном пути ликвидации военной опасности». Но только Сталин никогда в так называемый «мирный путь» не верил. Даже при подписании советско-германского пакта о ненападении он сказал Риббентропу, что Россия не верит в этот пакт, так как Германия все равно пойдет войной на нас и при наличии этого договора. Многочисленные факты опрокидывают так называемый «мирный путь ликвидации опасности войны», которым якобы руководствовался Сталин да еще убеждал в его неизбежности Г. К. Жукова.
Напомню хотя бы момент о том, что, когда Сталин 5 мая в Кремле предложил «выпить за войну» с Германией, которая будет «вскоре», военное руководство в числе первых исполнило это предложение вождя.
Допускал ли Наркомат обороны и Генеральный штаб нападение Германии на СССР в 1941 году? Факты подтверждают: да, допускал и принимал необходимые меры, о чем было сказано выше. Тимошенко и Жуков 14 июня ставили вопрос о приведении Вооруженных Сил в полную боевую готовность и объявлении мобилизации. Но делалось это нерешительно, без глубокого анализа военно-политической обстановки и оценки реального замысла действий гитлеровцев в ближайшее время. Поэтому в разговоре со Сталиным они колебались, боялись идти наперекор его мнению и отстоять свою позицию.