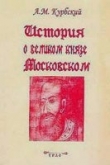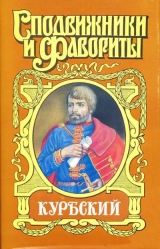
Текст книги "Андрей Курбский"
Автор книги: Николай Платонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Курбский поклонился всем и вышел за слугой, который светил ему свечой до двери его комнаты. Когда слуга ушел, он открыл окно в черный сад. Тихо шуршал мелкий дождь, в полосе света блестела голая ветка вяза. Он видел лицо Марии Козинской таким, каким оно было, когда он выходил: чем‑то втайне обрадованное.
На другой день рано, пока хозяйка спала, Курбский поднял Острожского и выехал из имения в Вильно.
Часть вторая
КАМНИ И ЛЮДИ
1
Дожди хвостами ползли с запада, поднялись реки, затопили поймы, и приходилось искать объезды или мостить мосты, а потом как‑то ночью задуло с северо–востока, и к утру задубела грязь, остекленило лужи, предзимним холодом потянуло сквозь голые осинники; к полудню из туч посыпало на разбитые колеи, на побуревший перегной чистыми твердыми крупинками. Был ноябрь, они подъезжали к Вильно. Все пригодные деревни и хутора были забиты войсками, лошади паслись на сжатом поле, дымились по опушкам костры, и глубоко, до слез, дышалось и морозным, и травяным воздухом.
Они подъезжали, и уже издали Андрей начал вглядываться в башню на холме – древнейшую цитадель литовских князей – замок Гедимина; она приближалась, темная на сером, а когда подъехали ближе и стали видны стены и ворота Нижнего замка, шпили и крыши города, вырвалось на миг солнце – и шестиугольная башня с королевским штандартом высветилась каждым изъеденным камнем кладки и глянула глазницами амбразур равнодушно и надменно. Здесь, на горе, построил ее князь Гедимин после вещего сна: он увидел Железного волка, который выл голосами ста волков. Здесь верховный жрец Лиздейка пророчил рождение великого города, и он стал действительно велик.
Они ехали уже улицами, мимо садов, стен, площадей, они миновали ратушу и поднимались к воротам Нижнего замка по дороге, мощенной булыжником, мимо каменных домов. Везде был камень. Всюду были люди в иноземных одеждах. Справа втыкались в осеннюю хмарь шпили высокого костела из красного кирпича – огромного и гордого костела святой Анны. Он смело и остро возносился в бегущие тучи, а за ним белели мощные стены и башни монастыря бернардинцев, который входил в ансамбль предмостных укреплений.
Андрей искал глазами кресты православной церкви – он знал, что она есть, – но ничего не находил. Он вообще ничего не находил своего, русского: вот эти люди в узком переулке, в шляпах с перьями и высоких ботфортах, эти дома из кирпича с фигурными петлями на ставнях и черепичными крышами, эта польско–литовская, немецкая и еще какая‑то непонятная речь, эти две красивые женщины в портшезах, которые пронесли алосуконные наглые слуги, и даже этот звон церковный, тонкий и мелодичный, – все было чуждо.
В костелах отошла месса, звон плыл, преломляясь в каменных улочках, в тупиках. Острожский снял шапку и перекрестился, и люди Курбского, переглянувшись, тоже стащили шапки: здесь они даже говорить по–русски опасались. Он помедлил и тоже снял лисий малахай. Он пристально глядел поверх голов и крыш на холм, на башню Гедимина. Вот в эту башню князь Кейстус увез Бируте, которая кусала ему руки и царапала лицо. Вот в этих подвалах во мраке полужили–полуумирали русские пленные. Здесь проходят шествия монахов перед свитой короля, идущего в костел, а в свите половина вельмож – лютеране [108]. Вот в той лавке продают оружие, а в той – ткани и одежду. Какую одежду носят сейчас при дворе короля? Он подумал об этом без интереса, холодом подуло в затылок, и он теснее запахнул подбитый мехом плащ.
– Куда мы едем?
– Сейчас направо и через улицу наш дом! – радостно сказал Константин Острожский.
«Наш дом. У меня нет дома!» – подумал Курбский, поворачивая голову. И тут он увидел справа за крышами купола небольшой деревянной церковки – православного храма. Вот куда она спряталась!
– Поезжайте, я догоню вас, – сказал он Острожскому и свернул в проулок.
Мишка Шибанов свернул за ним. Они спешились у церковной ограды, и Курбский вошел в полутьму сосновую, в детский, материнский уют, который давно забыл. Обедня отходила. Перед иконой Успения Божией Матери горели свечи, и Андрей стоял перед ней, плотно закрыв глаза. Там, на мощеной улице, шла жизнь литовская, здоровая и сильная, его обычная теперь жизнь. Он нехотя вышел из церкви к Мишке Шибанову, который держал коней, и, скрывая отходящее волнение, сел в седло. Но им долго пришлось стоять, пропуская большой отряд панцирной кавалерии, который входил в ворота Нижнего замка.
В доме Острожского было тесно, но просто – жена Константина, молодая еще и такая же, как он, полная, с ямочками и добродушная, приняла Курбского как близкого родича. В этот день он отдыхал, помывшись и переодевшись. Он узнал, что король примет его на следующей неделе в четверг, что Радзивилл Черный болен, но уже дважды присылал узнать, прибыл ли Курбский, и звал его к себе. Этого нельзя было избежать – все будущее Андрея было в этих руках: именно к гетману в первую очередь шли донесения из России. Что с семьей? Можно ли устроить побег! Хотя бы сыну, Алеше… Поздно вечером Курбский позвал бывшего слугу графа Арца – шведа Олафа, который теперь служил ему молчаливо и усердно.
– Я буду просить включить тебя в посольство в Москву, – сказал он Олафу. Длинноносое бесстрастное лицо кивнуло, глазки щурились на свечу, ничего не отражали. – Ты узнаешь, куда высланы или заточены мои, моя семья… Ты постараешься переправить их за рубеж через Псков. Я дам тебе имена верных людей. И денег, конечно.
Но как раз денег и не было: он все еще был безземельным князем и жил на долги и за счет гостеприимства.
– Когда я поеду? – спросил Олаф.
– Завтра после разговора с канцлером я скажу тебе. Иди.
«Завтра я получу в руки ответ Ивана» – эта мысль пришла и заслонила все.
Дом великого гетмана Радзивилла был рядом с только что построенной первой лютеранской церковью в Вильно. Она была похожа на простой каменный дом с высоким коньком, и Курбский качал головой, проезжая мимо: как мог король разрешить еретикам строить свои молельни? Он отбросил эту опасную мысль, въезжая во двор Радзивилла, полный вооруженной стражи. Трижды спрашивали его имя, пока он не дошел до дубовых дверей комнаты больного гетмана. Радзивилл, закутанный в меховой плащ, сидел у горящего очага. Его горбоносое лицо похудело, стальная челка совсем поседела, но светлые глаза были по–прежнему проницательны и строги. Он прикоснулся длинной ладонью к плечу Курбского, сказал: «Садись!» – и продолжал смотреть в лицо, ничего не спрашивая.
– Как твое здоровье, князь? – спросил Курбский.
– Мое здоровье и твое тоже в руках Божьих.
Курбский кивнул. Он ждал вопросов, но Радзивилл молчал. Наконец он сказал:
– Я просил короля, и он примет тебя в четверг. Грамоты готовы и утверждены; после Рождества ты можешь въехать в свои новые владения. Это бывшие земли матери Августа, королевы Боны [109].
– После Рождества?
– Да. Ведь начинается, кажется, ваш пост? В пост нельзя дарить земли и устраивать пиршества… – Радзивилл насмешливо посмотрел куда‑то мимо. – Правда, в четверг ты будешь на пиру, но это обычный пир. Август не любит постов. И не любит принимать решения: не говори с ним о делах – все сделано, грамоты скреплены его печатями.
Андрей понял, что все это сделал Радзивилл.
– Без тебя я ничего бы не получил.
– У тебя есть деньги? Тебе надо одеться для придворной жизни. Только мне король прощает темное платье. Возьми, сколько тебе надо.
– Я уже взял у Острожского, благодарю тебя еще раз. Я хотел просить другого…
– Ответ Иоанна тебе? Он здесь. – Радзивилл открыл ларец и вытащил завернутый в шелк пергамент. – Я прочел его, ответ тебе – это открытое письмо, ты сам увидишь. Это письмо для всех нас.
Андрей взял свиток и сжал его чуть–чуть, как чье‑то горло. Он хотел бы сейчас же прочитать ответ Ивана, но это было немыслимо. Он постарался думать о другом.
– Я еще хотел просить тебя, гетман… – Он никогда почти не называл Радзивилла по имени. – Я хочу послать с вашим посольством лазутчика, чтобы устроить побег моей семьи. Это швед, бывший слуга графа Арца. Он убьет любого, кого я укажу ему…
Радзивилл странно смотрел в лицо, постукивая пальцами по подлокотнику.
– Когда ты приехал в лагерь под Полоцком, я хотел сказать тебе, что, возможно, твоей семьи уже нет. Я получил известие из Москвы, что они были заточены безымянно в разные монастыри. Обычно такое заточение, в монастырские тюрьмы, кончается безымянной смертью.
Он сказал это твердо и сурово, как воин воину, и следил, как медленно серело полнокровное лицо Курбского, как сжались и разжались его губы.
– Выпей, – приказал он, и Курбский взял и выпил полный кубок вина.
Он не почувствовал ни вкуса, ни запаха, только мягкий удар в темя и жар в щеках. Он ни о чем не мог спросить.
– Твои родичи – все из рода ярославских князей, семей около сорока, – высланы, разорены, казнены. Твои друзья – знатные люди – все заточены. Это, – он подвинул со стола листок с записью, – князья Александр Горбатый с сыном, Ховрины, князь Иван Кашин, Димитрий Шевырев, Иван Куракин, Димитрий Немой. А князь Петр Горенский схвачен на нашей границе и казнен. И другие к этому времени, может быть, тоже уже мертвы.
Он называл имена, а Андрей видел лица, живые, теплые, головы, русые и каштановые, глаза – все они умоляли о чем‑то. О пощаде? О мести? О вечной жизни? Лица–головы, лавина лиц–голов, и глаз, и вздохов – они падали на него, безвинные, они не обвиняли, но ему казалось, что это он предал их, а сам бежал. Он покраснел, рванул ворот, вытер лоб, тяжело задышал.
– Спрячь грамоту царя, – сказал Радзивилл, который следил за ним, как врач, и Курбский заметил, что комкает пергамент.
Он спрятал свиток за пазуху, как связанное опасное животное, ему хотелось перекреститься, но проклятая привычка якшаться с еретиками… Глаза его были сухи, свет свечи резал их нестерпимо.
– Ты можешь выслушать меня? – спросил Радзивилл Черный.
– Да, – сказал Курбский и сжал челюсти. Он смотрел в огонь свечи щурясь, но смотрел, чтобы боль изгоняла боль.
– Меня скоро не будет, – сказал Радзивилл спокойно. – И тогда тебе будет трудно. Ты слышишь меня?
Медленно, с мукой Андрей выплывал из черного омута и осмыслял чужую речь.
– Тебя не будет? А где?..
– Меня не будет на этой земле, – объяснил Радзивилл. – Никто почти не знает об этом. Но тебе я говорю, потому что завтра уезжаю на Волынь в свой дом. Я хочу умереть в своем доме.
– Но где… Когда тебя ранили?
– Меня никто не ранил. Это – язва внутри. Она растет и мешает есть и пить. Уже давно, но теперь скоро… Слушай мои советы. – Гетман помолчал, вглядываясь во что‑то невидимое. – Первое: никогда ни с кем не спорь в этой стране о вере. Второе: читай слово Божие сам и размышляй. И третье: пройдет год – и женись: тебе нужен свой дом и наследник рода. А теперь прощай. Дай мне руку.
Курбский встал. Он ничего не понимал, он только ощущал, что на этот вечер потерял всех близких. И странно, одним из них был этот суровый еретик, Радзивилл Черный. Он стиснул узкую ладонь, поклонился до земли и вышел, унося в себе пристальный взгляд серых холодных глаз, в которых была несомненная любовь к нему, иноверцу и чужеземцу.
Холодная ночь. И очень темная. Впрочем, в ноябре все ночи очень темные. Нет ни луны, ни звезд. Нет времени и нет места – все равно, где а когда ты есть, если ты окончательно никому не нужен. Если тебя никто не любит. И у тебя нет рода – твоего продолжения на земле. Только ночь – и ты. А Вильно, или Дерпт, или Москва – не имеет значения.
Вот настал тот час, к которому он так стремился, гнал коня верста за верстой, перемалывал в голове слова – ответы и обличения. Час этот настал, а ему все безразлично.
Курбский сидел перед столом в своей комнате, на столе горела свеча и лежал разогнутый свиток – целая тетрадь убористого черного почерка, красивый полуустав, слова, слова. Что в них? Он сейчас не ощущал, не видел Ивана, как тогда, в Вольмаре, и не спорить, а просто хотел бы не думать о нем никогда. Был второй час ночи, все спало глухо, но он не мог спать, хотя, вернувшись от Радзивилла, выпил еще вина. Он разгладил письмо ладонью и стал читать. Прежде чем понять, приходилось перечитывать дважды. Он читал и говорил Ивану правду. Злую правду. После первой же напыщенной и велеречивой фразы он сказал: «Широковещательно и многошумно послание твое, Иван. И писала его не мудрость, а ярость слепая и даже какая‑то по–бабьи глупая, неуместная в устах великого царя. Но все это я и месяц назад уже предвидел».
Он читал, холодно усмехаясь, о том, что власть царя от Бога, что поэтому царю все дозволено, особенно такому, ведущему свой род даже не от Владимира Святого, а от Константина Великого [110]. Поэтому всякий, кто против такого царя, – изменник и собака. И даже самозванец. «Отступник, изменнически пожелавший стать Ярославским князем», – писал Иван. «Эх, Иван, ты совсем сошел с ума; ты же хорошо знаешь, что я – прямой потомок святого князя Федора Ростиславича Смоленского, от которого пошли ярославские князья – мои отцы и деды». Но царь Иван его не слушал. «Ты, – говорил он, стервенея и забывая высокий слог, – и советники твои – бесы и смертоносные ехидны, а если ты праведен и благочестив, то почему же бежал, испугался безвинно погибнуть?» Курбский отодвинул письмо и покачал головой: вот он, Иван, наконец приоткрылся – софист лукавый и коварный, но в злобе проговорившийся. Нет, Иван, я ради твоей софистики мучеником не хочу стать – других ищи себе! Но это все пустое: где же, Иван, ответы твои на страшные обвинения в злодеяниях, о которых теперь знает вся страна?»
Он стал читать бегло, пропуская целые страницы выписок из Библии и длинные рассуждения о спасении души. Наконец он нашел, что искал: обвинение в крови, пролитой в храмах, царь нагло отрицал, истребление лучших людей государства – отрицал, а насильственное пострижение в монахи даже оправдывал, искажая кощунственно слова Иоанна Лествичника [111]: «Видел я насильственно постриженных в монахи, которые стали праведнее, чем постригшиеся добровольно». И тогда Курбскому стало противно и скучно: Иван Грозный, великий государь, врал в глаза бесстыдно и неумело, как проворовавшийся холоп. И кому врал? Это письмо, наполовину лживое и наполовину расчетливое – пусть‑де прочтут при дворе Сигизмунда, – стало теперь как бы последней и уже омертвелой судорогой гнева, бессильного и жалкого, потому что в нем было больше оправдания, чем обвинения, и за грудой бранных слов и громов царских скрывался уязвленный, свихнувшийся человек, Иван, сын Василия, Иван, который жаловался на свое несчастное детство тому, у кого велел истребить всю семью. Это было нелепо, но искренно. Курбский внимательно перечел это место. Да, Иван уязвлен – здесь он написал правду. И вот еще здесь: «Как же ты не стадишься раба своего Васьки Шибанова? Он ведь сохранил свое благочестие, перед царем и перед всем народом стоя: у порога смерти не отрекся от крестного целования тебе, прославляя тебя всячески и вызываясь за тебя умереть».
«Значит, – думал Курбский сурово, забывая все остальное, – Василия привели и поставили перед царем. Может быть, это даже было в Грановитой палате – царь ждал, что Василий, изломанный пытками, оговорит при всех своего князя, раскроет заговор на царскую семью или еще что‑нибудь, что палачи подскажут. Но Василий не захотел! И царь это сам засвидетельствовал. Здесь тоже он сказал правду». Курбский встал со стула, спрятал лицо в руках. «Василий, Василий! Прости меня, ради Христа! Молю тебя, Василий: прости меня, прости!»
Он не мог ни плакать, ни читать заупокойные молитвы. Письмо царя лежало на столе – мусор ничтожный рядом с простой, великой смертью стременного Василия Шибанова. Что отвечать? Да и стоит ли вообще теперь отвечать?
2
Король не принял Курбского ни в четверг, ни в пятницу – он все откладывал, назначал и вновь откладывал. Недаром его прозвали «король–завтра». Выпал снег, стаял и опять выпал, деревья стояли в мохнатом инее, дымились печные трубы, небо синело морозно и высоко, дышалось свободно, чисто, и каждый шаг скрипящий был далеко слышен в затишье. Курбский почти не выходил со двора, всех сторонился, даже доброго Константина Острожского, в доме которого сторожили каждое его желание.
Шел предрождественский пост, была середина декабря. Из Москвы пришли странные слухи: царь со всей семьей, с детьми и ближайшими людьми покинул Москву и скрылся неведомо куда [112]. Говорили, что он прислал в Думу письмо с угрозой оставить престол и жалобами на крамолу и заговоры. Курбский ничему не верил; он еще раз перечитал письмо Ивана и опять убедился в одном: ни на йоту Иван не изменился, он еще тверже уверен в своей полубожественной непогрешимости, он ни перед чем не остановится, чтобы удержать власть. Безумие его стало как бы роскошнее наряжаться и степеннее выступать, оно полюбило все оправдывать законом – божеским и государственным, а если где и прорывалась в его словах правда, то нечаянно, от ярости или бессилия. Курбский заказал панихиду по убиенному Василию, а по близким не решился – не было подтверждения словам Радзивилла, хотя и надежды тоже, кажется, никакой больше не было.
Двадцать первого декабря, в день преставления митрополита Петра, святителя московского, Курбского вызвали во дворец. Его приглашали на малый королевский выход, а вечером – на ужин в узком кругу в «синюю комнату». Острожский сказал, что это знак особой милости.
В полдень Курбский с Келеметом и еще двумя русскими дворянами медленно ехал к Нижнему замку. Он ехал и размышлял не о встрече с Сигизмундом, хотя до этого семь месяцев только о ней и думал, а об одном месте в письме Ивана, где тот писал, что война против него – это война против самого Бога. И не потому, что он Царь, а потому, что во время войны Курбскому неизбежно придется убивать христиан–единоверцев и разорять православные храмы, как он уже и делал в Великолукской области. Это было правдой, но сказанной не ради правды, а из злобы и жажды ужалить побольнее. Но все же так было. И его не утешало, что сам Иван убивал всех без раздумий и осквернял кровью храмы в собственной столице. Он думал об этом до самого порога королевского дворца.
Курбский скинул плащ слугам, вошел, поднялся по ковровой лестнице в роскошно украшенную лепнинами и позолотой залу. Он стоял в толпе придворных, ожидая выхода Сигизмунда–Августа. Он знал уже, что это изнеженный и слабый человек, воспитанный королевой Боной среди женщин и женщинам отдающий все свои силы и время. Он знал, что король, исповедуя римскую веру, на самом деле почти ни во что не верит, дает власть протестантам, говорят, держит в задних комнатах астрологов и гадальщиц, а также наложниц, несмотря на свою великую любовь к королеве Варваре, против развода с которой воевал с сенатом, сеймом и крупнейшими магнатами польскими: они не хотели видеть ее на троне.
Король вошел в сопровождении гетмана Григория Ходкевича, архиепископа Гнезненского Якова Уханского [113] и епископа Виленского Валериана Проташевича [114], любимца иезуитов. Епископа Краковского Филиппа Падневского [115] не было, так как он враждовал с Яковом Уханским смертельно и, говорили, даже хотел биться с ним не раз.
Король был изящен, тонкорук и темноволос, его маленькие глаза обегали лица и возвращались к архиепископу Гнезненскому, с которым он беседовал вполголоса. И архиепископ и король сверкали драгоценными камнями, и, когда подошли ближе, Курбский почуял запах каких‑то ароматов. Король взглянул на него, и гетман Ходасевич назвал его имя. Курбский встал на одно колено, Сигизмунд сделал вид, что поднимает его, улыбнулся и сказал:
– Встань, доблестный рыцарь, тебе не пристало стоять на коленях даже перед королем!
Курбский встал и молча поклонился – ему ничего не хотелось сейчас. Но надо было говорить, и он поблагодарил короля в красивых выражениях и еще раз поклонился.
– Твою храбрость, известную всем, мы хотим соединить с храбростью наших союзников – татар Девлет–Гирея, – сказал Сигизмунд–Август. – Но сначала ты должен устроить свое гнездо в Ковеле!
Он улыбался милостиво, хотел еще что‑то добавить – улыбка его стала веселее, чувственнее, но архиепископ Яков что‑то прошептал ему, и он, кивнув, отошел к другим придворным. Острожский был доволен приемом: всю Дорогу он толковал об этом, – а Курбский размышлял о словах Сигизмунда, и все жестче становился его взгляд.
– Я никогда не соглашусь выступать с татарами против своих, православных, – сказал он, когда они спешились во дворе Острожских. – Я готов отдать всю кровь свою, но не в орде поганых против христиан. Вечером я скажу об этом королю.
Но вечером он не сказал этого, потому что не оставался с Сигизмундом с глазу на глаз ни на миг: он сидел среди приглашенных за заставленным хрусталем столом, в голубой теплой зале, на хорах играла музыка – приглушенно, страстно; улыбались лица красивых женщин – королевы и ее дам, провозглашались гордые и льстивые тосты, журчал смех, и – неустанно, настойчиво чей‑то взгляд изучал его, волновал, но он не мог понять, чей и откуда. Польские и литовские дворяне много пили, и к концу ужина речи их стали громче, бессвязней и напыщенней. Курбского удивляло, что за одним столом здесь сидят и католики, и православные, и лютеране–еретики, и даже королевский астролог – итальянец с благородной сединой и влажно–черными мрачными глазами. Перед ужином не читалась молитва и после ужина тоже.
Дамы и мужчины встали, и король представил Курбского королеве Варваре [116], вдове Гастольда, урожденной Радзивилл. Она равнодушно протянула ему душистую руку, и, по иноземному обычаю, он прикоснулся к ней губами, а выпрямляясь, заметил еще чье‑то женское и странно знакомое лицо и все забыл: дамы стали выходить из голубой гостиной одна за другой. В дверях женщина в черных кружевах обернулась; пристально глянули светло–серые глаза с крохотными зрачками–жалами.
– Не узнал? – спросил сзади веселым шепотом Острожский. – Это бывшая пани Козинская, которую мы видели у княгини Анны. На другой день после нашего отъезда она получила известие о смерти своего мужа под Черниговом. Богатая вдова, Андрей!
Острожский выпил много, он был полон добродушия и доброжелательства ко всем; он потащил Курбского обратно за стол.
– Хоть и пост, – шептал он, усаживаясь, – но только сейчас, без дам, начнется главное пиршество. Что поделаешь, король не любит постов! Садись и пей – завтра твой день, тебя введут во владение землями короля. Мне сказал эго подканцлер Войнович. Почему ты ничего не ешь?
Курбский не хотел ни есть, ни пить. И дело было не только в посте: за столом было много рыбных блюд. Он ощущал присутствие какой‑то коварной и слепой силы весь этот вечер, какую‑то опасную, бесформенную, но живую, как неизвестное животное, пакость. Эта сила–пакость заставила его кровь ускорить движение, у него стучало в темени и жаром обдавало щеки. Он прикусил губу и кивнул Острожскому.
– Выпьем за гибель наших тайных врагов, – сказал он, не понимая самого себя.
В ночь под Рождество обрушилась на Вильно метель, и завалило к утру крыши и зубцы башен, по самые окна домов намело чистые сугробы. Но днем было морозно, безветренно и далеко слышались веселые, бодрые голоса жителей, расчищающих дорогу к своим воротам.
В первый день Рождества во дворце был назначен маскарад с танцами и пир, а до пира Сигизмунд–Август вручил в тронном зале князю Ярославскому Андрею Михайловичу Курбскому жалованную грамоту на город Ковель с прилегающими землями, лесами, пашнями, мукомольнями и пошлинами на все ремесла и торговли. Знатные польско–литовские шляхтичи присутствовали при этом и поздравили Курбского кто искренне, а большинство настороженно и даже враждебно, хотя и учтиво. Ввести во владение Курбского должен был королевский староста – пан подстолий великого княжества Литовского, наместник Могилевский Андрей Ходкевич [117], сын старого Григория Ходкевича, пана Виленского, с которым Курбский осаждал Полоцк. Они должны были выехать в Ковель после рождественских праздников, а до этого Курбский собирал обоз, закупал оружие и одежду, книги и гвозди – все, что можно достать только в большом городе. С ним ехало пятьдесят русских – его слуг и воинов его отряда, пожелавших получить в аренду наделы земли и навсегда остаться с ним: в жалованной грамоте говорилось, что он, его жена и дети обязаны королю воинской службой, с дарованных земель с каждого двора или дома выставлять при посполитом рушении – всенародном ополчении – определенное число пеших и конных воинов в полном вооружении.
Рождественские морозы были не по–русски мягкими, от суеты гостевой и ночных маскарадов болели виски, но теперь, после приема у короля, Курбский стал всеми признан и не мог уклоняться от приглашений. В танцах, музыке, хмеле и пустых разговорах прошла неделя, вторая, а к отъезду он все еще был не готов, хоть и торопил Келемета и слуг.
Как‑то вечером Константин Острожский сказал ему, улыбаясь:
– Угадай, Андрей, кто ждет нас с тобой завтра в гости? Старая княгиня Анна Гольшанская. Там ты опять увидишь ее красивую племянницу – вдовушку Марию Козинскую.
– Но я должен быть дома: мне надо присмотреть за укладкой книг, – сказал Андрей неуверенно. Он вспомнил, как она оглянулась, выходя из голубой гостиной, и ему стало тревожно, стеснило грудь. Он повторил: – Я не могу.
– Один раз ты обидел их, – сказал Острожский серьезно. – Зачем делать это еще раз? Я не собираюсь сватать за тебя Марию – ты был бы ее третьим мужем, от первого у нее двое почти взрослых детей. Но красива, как Диана! – И Константин засветился лукаво всеми своими ямочками. – Тебе надо немного развеяться, Андрей. Божья воля на все, но надо же жить дальше: ты не старик…
Андрей Курбский сидел по левую руку Марии Козинской и видел ее тонкий профиль, черное кружево, аметистовое ожерелье. Опадала, пульсировала ямка на обнаженной шее, чуть заметно дышала грудь. Она сидела неподвижно, не вступала в разговор и только раз, чуть повернувшись, быстро и прямо глянула ему в глаза. Ее взгляд прошел вглубь, и Андрей сжался, на миг словно дохнуло болотистым багульником из вечернего прогала в бору, где белело что‑то, наплывало…
– Пан Ходкевич говорит, что римские монахи смелее действуют, чем наши, – сказал Константин Острожский. – Ты слышал, конечно, как монах–доминиканец остановил короля, который ехал в лютеранскую молельню? Его уговорил поехать Николай Радзивилл.
– Нет.
– Неужели? Да, да. Монах Киприан из монастыря доминиканцев вышел на середину улицы, схватил королевского коня под уздцы и сказал: «Предки вашего величества ездили на молитву не этою дорогой!» И король смутился и свернул к костелу святого Иоанна!
Курбский думал о седеньком попике из храма Покрова Богородицы, который не допустил к причастию его, князя и завоевателя, и о многих таких же, безымянных и не искушенных в риторике и философии, они там, за тысячи верст, за заснеженными лесами, на Руси, на несчастной и любимой Руси, у которой нет теперь господина–отца, нет защитника. Кто, Господи, защитит ее?
Он забыл, где он, и не ответил на вопрос.
– Что же скажет князь Андрей об этом? – спросил четкий и вкрадчивый голос.
Это спросила Мария Козинская. Он сделал усилие и ответил:
– Мы знаем немало святых мучеников нашей церкви, которые сделали гораздо больше этого монаха.
– Да, – сказал гетман Ходкевич, огромный кудряво–седой рубака с кирпичным обветренным лицом. – Но мы говорим о нашем времени.
– О нашем! – Курбский поднял голову, и ноздри его дрогнули. – В наше, как раз в наше, может быть, вот в этот час там, в Москве, пытают какого‑нибудь дьячка или попа невинного! Сколько их и кто знает их имена?
Все опустили глаза, и стало тихо, потому что его голос наполнился болью и яростью. Он чувствовал, что Мария смотрит на него сбоку пристально, странно, но сейчас он был ей неподвластен.
– Иван Федоров тоже ведь дьяк. Церкви Николы Гостунского, – сказал Ходкевич. – Он был бы давно мертв, если б не бежал вместе с товарищем своим Петром Мстиславцем [118]. Сейчас они в моем имении Заблудове.
– А что они делают у тебя? – спросил Острожский.
– Они устраивают печатный станок. Это наиболее искусные печатники из всех, кого я видел. Они будут размножать слово Божие.
– Сколько же на свете несчастных, которых некому защитить! – сказал Острожский. – Мне все вспоминается, как под Оршей поймали какого‑то русского холопа и пытали его на костре. – Он уставился на блюдо с пирогами, глаза его помутнели. – Я сам зарубил одного насмерть, а другие бежали.
– Зарубил холопа? – спросил Ходкевич.
– Не холопа, – краснея и возбуждаясь, ответил Острожский, – а шляхтича из разведки Станислава Стехановского, который велел разжечь костер.
– Но тебя могли судить за это, пан Константин, – сказал Ходкевич, сдвигая седые брови и хищно принюхиваясь. – Я шучу, все мы знаем твою слабость. Выпьем за пани Козинскую, пусть ее горе пройдет поскорее. – Он поднял кубок и наклонил кудрявую голову.
«Да, а я не мог остановить Тетерина и Келемета, да и другие там насильничали: как остановишь, когда все набеги, налеты, всё–всё по ночам, да и они не щадили нас. Господи, мы все в крови, зачем себя обманывать?»
– Князь Андрей! – близко и тихо позвал кто‑то, и он вздрогнул: дыхание коснулось его щеки. – Что тебе нравится у нас, князь Андрей?
Он повернулся и встретился с ее взглядом, – неподвижным, втягивающим. Он ощутил близкое тепло ее кожи, волос и заметил – или показалось? – как в светло–серых глазах мелькнуло торжество. Он сидел и слушал глухие редкие удары крови в ушах и почему‑то не мог ей ответить.
– Христос не оставит их! – громко сказал Острожский старой княгине, и Курбский откинулся на спинку кресла, прикрыл веки.
Он сидел неподвижно, борясь со своими чувствами, непрерывно повторяя в уме: «Господи, помилуй», – но понимал, что здесь, рядом с ней, даже это не поможет и что надо бежать отсюда.
Они уезжали все глубже и дальше в сонный снежный день по раскатанной дороге, и сани скользили, покачивали, увозили прочь от этого города роскоши, гордыни, болтовни и колдовства. Да, он знал, что бежит от колдовства. Всегда бежит: из Дерпта – в Вольмар, из Вольмара – в Вильно, из Вильно – в Ковель. Она тоже живет на Волыни, где он будет теперь жить. Где‑то под Владимиром–Волынским ее имение. Какие мягкие здесь зимы, теплые снега, голые ветлы вдоль дороги! Его покачивало в санях, сзади визжали подковы его охраны.
Да, он бежит, но куда убежишь от наваждения? Или от преступления? От женщины или от ненависти? Вот он так и не причастился и в Вильно – боялся, что и здесь его не допустят к причастию: ведь он не может простить. Неужели есть такие праведники, которые могут простить даже Ивану Кровавому? Есть ли в Ковеле православный храм? Есть, конечно, это же город порубежный еще Владимира Святого. Где‑то сейчас в своем имении умирает Радзивилл Черный. О чем думает он, недавний владыка тысяч людей? Где‑то сейчас расчесывает свои могучие лесные волосы Бируте? Нельзя думать о ней, потому что сохнет во рту, и глаза немеют, и кровь стучит молотами в теле. Нельзя, но он и не думает – он видит ее, и все. До малейшей жилочки. Надо оградиться крестом, но он не может. Или не хочет. Что с ним? Где‑то в городе Москве в смятении шепчутся оставшиеся друзья: что такое опричнина?[119] Они не могут теперь бежать – поздно. Но и он, убежавший, все бежит, и нет конца этому бегству.