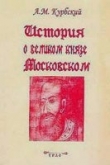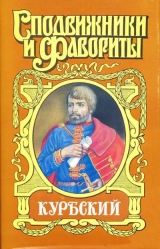
Текст книги "Андрей Курбский"
Автор книги: Николай Платонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
«…Повелеваем тебе непременно и без отлагательств из твоего уряда явиться лично и защищаться перед нами и перед сенаторами нашими в ближайший вторник после праздника Успения в Вильно. Мы зовем тебя на суд, потому что ты, упорно и неуважительно воспротивившись нашей верховной власти, не боясь наказаний, определенных законом, не обращая внимания на штраф, которому должен подвергнуться за неисправность, не исполнил постановления Варшавского генерального сейма
1579 года о военном ополчении против неприятеля нашего, великого князя Московского: не снарядил на войну и не послал из находящихся под твоей властью имений и сел подданных, называемых гайдуками, но даже запретил им отправиться на войну, несмотря на требование и напоминание нашего ротмистра. И ты должен быть наказан лишением уряда и всего имущества за свое непослушание и сопротивление, оказанное тобой к великому вреду и опасности для государства.
Стефан Баторий, король».
Это были не пустые угрозы, а нависший над самой головой удар. Курбский собирал людей, спешно вооружал их, занимал деньги, писал завещание: «…Миляновичи – имение и его земли – жене моей княгине Александре, урожденной Семашковой, все иные имения и деревни, дарованные мне королем Сигизмундом–Августом по грамотам, которые имею, завещаю потомству своему – дочери княжне Марине. Доспех ратный миланской работы с чернью и узором – сыну князя Константина Острожского младшему Константину [189], саблю дамасской стали арабскую с самоцветами в эфесе и на ножнах – слуге своему и приятелю милому Кириллу Зубцовскому, книги и списки по названиям – друзьям и единомышленникам: иеромонаху Артемию, бывшего Троицкого монастыря настоятелю, Максиму Сущевскому, человеку князей Слуцких, и князю молодому Оболенскому Михаилу, в науках искусному…» Он никого не забыл, даже Мишке Шибанову – стременному – завещал дорогой ливонский пояс наборный и сукно на кафтан. Завещание читали и заверяли в Ковеле в присутствии свидетелей и княгини Александры, которая ничего не понимала толком и только утирала набегающие слезинки. «Мария никогда не плакала, – думал Курбский, – но и не смеялась тоже почти никогда…»
Он выехал в Вильно, опережая на день конных и пеших воинов, собранных срочно и безоговорочно со всех дворов и земель ковельского имения.
В Вильно было пусто и пыльно, ветер гнал по булыжной мостовой клоки грязной соломы – все войско ушло под Полоцк во главе с самим королем и великим гетманом Замойским. Старый знакомец, бургомистр Вильно и единоверец Кузьма Мамонич, посмотрел письмо короля – вызов на суд – и сказал:
– Советую тебе вести свой отряд к Полоцку и добиваться там приема у Стефана: здесь никаких судов сейчас не будет – спешно принято решение ударить на Полоцк, чтобы перекрыть московитам путь на Ливонию и на Литву. Все силы скоплены там. Поспеши, а на поле боя ты оправдаешься скорее – король только храбрым верит!
Это был хороший совет, и Курбский быстрыми переходами повел свою рать к Десне, где огромное войско Стефана Батория уже наглухо обложило Полоцк [190]. Шел август месяц тысяча пятьсот семьдесят девятого года.
Король не принял Курбского, его пехоту поставили с восточной стороны за венгерской пехотой Гавриила Бекеша, а конницу передали в резерв. Гетман Замойский призвал Курбского в свой шатер, окруженный шанцами и рвом. Огромный, сутулый, в стальных латах, но без шлема, он сидел за столом и просматривал какие‑то донесения. Он только что приехал из ставки короля, по дороге попал под обстрел – под ним убило коня, и он упал в грязь; сталь доспеха была забрызгана глиной, рукав тоже, и Замойский, читая, иногда сдувал песок с бумаг.
Курбский долго молча стоял перед ним. Наконец гетман отодвинул бумаги, и глазки его – ледяные осколки – глянули пусто и жестко. Скопческий рот скупо пропускал слова:
– Король не хочет тебя видеть. После войны ты все равно предстанешь перед судом за опоздание. А сейчас ты должен со своими людьми доказать, за кого ты в душе, за нас или за князя Ивана.
Глазки–льдышки не насмехались, не дразнили – они просто подтверждали жестоко: или – или. И Курбский, который задохнулся от возмущения, только сглотнул, до боли прикусил губу. Но взгляда не опустил – наоборот, с угрозой уставился в бесстрастные зрачки.
– После пролома стены ты должен ворваться в город вместе с венграми и двигаться к собору святой Софии, где главные сокровища московитов, – ровно, скрипуче говорил Замойский, словно не замечая ярости Курбского. – Иди. Твоя рать в подчинении князя Гавриила Бекеша [191]. Тебе будет придан полк ротмистра Тимофея Тетерина. Немецкие пушки уже наполовину разрушили стену на вашем участке, но русские ее починили – работы тебе хватит. Молчи! – приказал он, когда Курбский хотел заговорить. – Ты скажешь, что хочешь, послештурма. Ступай!
Курбский знал, что если даст себе волю, заспорит, вспылит, то его просто возьмут под стражу, отстранят, будут судить – он достаточно слышал про Замойского, а сейчас убедился сам. Он молча пошел к коновязям, где ждал Мишка Шибанов.
В Полоцке сидели воеводами князья Василий Телятевский, Димитрий Шербатый, Петр Волынский [192]. Полоцк, несмотря на свои дубовые стены и башни, держался уже две недели под жестоким обстрелом; женщины и старики тушили пожары, рискуя жизнью, спускали со стены в реку ведра на веревках, засыпали землей проломы. На помощь Полоцку шли царские войска из крепости Сокол, их вели Борис Шеин [193], которого Курбский хорошо знал, и Федор Шереметев [194]. Против них Баторий послал Христофора Радзивилла [195] и Яна Глебовича, и русские отошли обратно в крепость. Но Полоцк все стоял. Начались дожди, в лесистых окрестностях негде было достать припасов, пайки урезали, немецкая наемная пехота начала роптать.
Двадцать пятого августа король собрал военный совет. Курбского на совет не позвали. От вернувшегося с совета Бекеша он с трудом – говорили по–немецки – узнал, что полковники были за штурм, а король против, но Замойский обещал венграм отдать город на два дня, если они до первого сентября зажгут стены и ворвутся. На том и порешили – стоять под городом только до первого сентября. «Мы город будем взять! – сказал Гавриил Бекеш. – В храме Софии много золота, много, много!» Курбский ничего не ответил.
Тринадцатого августа венгры при поддержке всей осадной артиллерии зажгли дубовые стены, тяжелые орудия разбивали ядрами прогоревшие бревна, сыпалась в пролом земля, дымом застилало мутное низкое солнце. Курбский повсюду – надо или не надо – стоял верхом на виду у неприятеля, ему даже кричали иногда: «Слезь, не хвастай!» – но он упорно испытывал судьбу, заледенев, сжав челюсти, и люди его и венгры то восхищались, то ругались. Мишка Шибанов – стременной – торчал рядом, чуть позади, хмурился, шмыгал носом, но тоже с коня не слезал.
В этот день особенно густо палили с обеих сторон, а венгерская пехота подбиралась под стены все ближе, уже начинали фашинником забрасывать ров, когда Курбский заметил в проломе человека, махающего белым полотнищем, – парламентера. Но венгры продолжали перебегать, залегая, стреляли, скапливались под проломом. Человек с белым полотнищем упал, но другой подхватил, замахал неистово – ясно было, что русские хотят переговоров.
– Что ж они, что ж, – шептал Курбский, – почему не прекращают стрелять?! Скачи к Бекешу! – крикнул он Мишке. – Скажи, о сдаче машут, прекратить стрельбу надо, скачи!
Мишка ударил плетью, поскакал. Они не знали, что Гавриил Бекеш давно заметил сигналы белым полотнищем, но велел продолжать наступать: полковники ему сказали: «Если с русскими договорятся, мы добычи не получим» – и усилили обстрел. Русские парламентеры были убиты, лавина венгерских пехотинцев ринулась в пролом, за ними карабкались стрельцы Тетерина. Курбский велел наступать тоже… Бились уже в узких улочках города.
Петр Волынский начал переговоры, но епископ – владыка Киприан – отказался сдаваться и затворился с такими же стойкими в каменном храме святой Софии, который был взят венграми приступом, а все в нем бывшие перебиты. Сгорела одна из богатейших библиотек Западной Руси: летописи, переводы с греческого, ценнейшие хроники – все сгорело. Сокровищ никаких не нашли, только церковные сосуды забрали да оклады с икон ободрали в храмах. А Курбский, глядя на разорение, на неубранные трупы и почерневшие апсиды кафедрального собора святой Софии, где на паперти складывали награбленное добро, говорил ожесточенно: «Смотри, Иван, вот тоже дела рук твоих – давно ли ты бахвалился, что все повоевал, а скоро всей Ливонии лишишься! И все от твоей гордыни и жадности, Иван. Сколько душ ты загубил в этих войнах! Зачем ты сюда к ним лезешь? Но, видно, нашла коса на камень!»
Он совершенно забыл, как пятнадцать лет назад радовался взятию ливонских городов и сам их брал.
В Полоцке шел мелкий дождь и остро воняло мокрой гарью и трупами, в уцелевших домах пировала шляхта, к воротам тянулась колонна сдавшихся на милость Батория русских – их отправляли в Гродненскую область на непаханые пустоши. Дождь стучал по кровле, по ставням, ночью он не перестал, сон не шел, пламя свечи колебалось ветром сквозь щели в раме. Курбский писал письмо великому князю Ивану Васильевичу, третье, последнее.
Не думал он вообще Ивану больше писать, но вчера и сегодня, весь день, от этой гари, грязи, бессмысленных смертей – от всего этого томило некое жжение бесплодное, вставали безответные вопросы: «Чего мне здесь нужно? Зачем все это?» Кто‑то должен был за все ответить, и поднималась исподволь застарелая тяжелая ненависть, искала выхода.
Он взял перо и будто откусил кусок яблока–дичка – свело скулы, кусок застрял в горле, и он отхаркнулся, сжал зубы, развернул старое письмо князя Ивана, то, что тот писал, гордясь, из Вольмара два года назад. Курбский перечитывал, качал насмешливо головой над перечислением бесконечных царских титлов, читал дальше и обвинения, и жалобы, ничему не веря, не удивляясь, подбирал в ответ слова, умные, язвительные, – он знал, в какое место Ивана бить, – припоминал к месту цитаты то из Ветхого и Новою заветов, то из житий святых и сочинений римского ритора Цицерона. Он хотел быть едким, но сдержанным, нелицеприятным, нравоучительным, даже великодушным, но и беспощадным. И христианских заповедей не нужно забывать – в конце надо призвать заблудшую душу к покаянию.
Чем дальше он, однако, писал, тем глубже уходил в ненавистное прошлое, из которого все ближе выступало длинное серое лицо, облысевший лоб, висячий нос, мешки под глазами, толстые чувственные губы. Лицо было высокомерно, важно и неподвижно, но зрачки бегали, как мураши, выискивали, выдавали страх, запрятанный под византийское благолепие. Чего боялись эти зрачки–мураши, чего выискивали? Измену? Заговор? Нет, мести они страшились, и было чего страшиться! Не от этого ли его одиночества он так откровенен бывает с ним, единственным, кто остался в живых из друзей его юности? Или это тоже утонченное лицемерие?
«…А то, что ты исповедуешься мне столь подробно, словно перед каким‑либо священником, так этого я недостоин даже краем уха слышать, будучи простым человеком военного чина…» – писал Курбский все размашистей и укорял царя в двуличности. Он истребил всех честных и искренних вокруг себя, чтобы предаться без узды всем своим застарелым порокам, которые стали как бы и не пороками, а просто вторым его привычным естеством. «Бог предупреждал тебя, – писал Курбский, – вспомни гнев его – моровое поветрие, неурожаи, голод, набеги Девлет–Гирея, который сжег Москву. Ты тогда сбежал на север, отсиживался как трус. А меня называешь изменником! Но все знают, что присягу тебе давали под страхом смертной казни, потому и бежал я от тебя, от твоей жестокости: кто от смерти не бежит, тот самоубийца!»
Курбский долго смотрел в темное оконце, залитое дождем. В черноте стекла колебался язычок свечи, черно и пусто было в мире… В чем еще упрекал его Иван? В разорении церквей? «Забыл он, как на его службе еще, в тысяча пятьсот шестьдесят втором году, когда я брал Витебск, сгорело двадцать четыре церкви. Что поделаешь, война – это война. А под Великими Луками мы с Богушем Корецким все сделали, чтобы наши храмы защитить, но войска было пятнадцать тысяч и среди них сколько еретиков–лютеран, разве уследишь! А все же я двух немцев за это повесил».
Он оправдывался, но на душе было смутно, и привкус во рту был какой‑то гадкий, и затылок давило.
Да, сгорели храмы, война, судьба, рок какой‑то над их родом… Знал бы покойный отец – простой человек, воин честный, князь Михаил Ярославский [196], – где он сейчас сидит… Вот теперь прервется род их, Курбских, – ведь нет у него сына, а род князей Московских – издревле преступный – продлится. «Тот ваш издавна кровопийственный род!» – написал Курбский, отложил перо и стал вспоминать, перечислять: Юрий Данилович Московский благоверного князя Михаила Тверского [197] в Орде оклеветал и убил; брат Юрия, Иван Калита [198], выманил в Орду сына Михаила, князя Александра [199], с малолетним сыном Федором, и татары их там на части разорвали; Иван Третий, дед Ивана нынешнего, заморил в тюрьме брата своего Андрея Углицкого [200], а сын Андрея просидел пятьдесят лет (!), и еще Иван Третий внука своего Димитрия тоже заточил вместе с матерью [201], а Василий Темный Серпуховского Василия заточил, из‑за чего жена и сын заточенного бежали в Литву [202], как и он, Курбский… «А теперь вот ты, Иван, последних удельных князей перевел и вообще всех лучших мужей в государстве. Говоришь, в тебе кровь Мономаховичей и самого даже Константина Великого? Да ты наполовину литвин по матери, Елене Глинской [203], да еще с примесью татарской крови от Мамая [204], на четверть грек по бабке, Софье Палеолог [205], и лишь на четверть русский. Да и то там половецких кровей наверняка намешано!»
Курбский устал, свеча наполовину оплыла, глухая ночь все шуршала бесконечным дождем, и казалось, никогда не наступит день, как для тех душ, которым уготована тьма кромешная. Для опричников–сыроядцев и их бесовского игумена. Но об этом не стало сил вспоминать – вызывать тени из преисподней… Курбский подумал, написал другое: «Я давно все это хотел сказать, но не мог отослать письма, ибо затворил ты царство Русское, свободное естество человеческое, и если кто из твоей земли поехал, того ты называешь изменником, а если его схватят на границе, то казнишь страшной смертью». Он подумал и приложил к письму Ивану в назидание те две главы из Цицерона, которые переводил в Миляновичах. Все же прекрасное тогда было время. Помнят ли его друзья, приехавшие к нему в день апостола Андрея Первозванного? Михаил Оболенский, Марк, игумен Артемий, Константин Острожский… Хотя Константин тогда не приехал – обиделся на него…
Курбский встал, потянулся, зевнул, посмотрел на разобранную постель: пора спать. И в этот миг застучали во входную дверь, затопали в прихожей, и Мишка Шибанов впустил в комнату гонца в мокром плаще и грязных сапогах: канцлер Замойский, верховный гетман, прислал приказ немедленно выступать коннице Курбского к Соколу для поддержки осады, которую вел Христофор Радзивилл.
– Ну наследил! – недовольно сказал Мишка Шибанов, когда гонец вышел. – Я на тя, княже, гляжу – не спит и не спит, а теперя и спать некогда будет. Подымать всех, што ли?
– Иди подымай. Сапоги мои просохли?
– Просохли, кто их знает… Дождь‑то проклятый так и сеет кажный день. Ты, князь, поесть чего не хошь? А то от ужина окорок остался, я принесу.
– Нет. Иди подымай сотников. Потом мне тут поможешь собраться.
Когда Курбский добрался до крепости Сокол, уже четвертый день шла осада. Дождь мешал – гасил пожары, но видно было, что крепости не устоять: после взятия Полоцка сюда были брошены на помощь Христофору Радзивиллу венгерские пехотинцы и немецкие ландскнехты, для решительного штурма ждали только подхода осадных орудий, которые подтягивались по осеннему бездорожью. Наконец они прибыли, и с утра девятого сентября началась жестокая бомбардировка городка, поднялись дымы частых пожаров, рушились искромсанные ядрами зубцы старых стен. Обстрел не ослабевал дотемна, а ночью венгры подобрались под самый ров, сделали подкоп и заложили порох под угловую башню. Утром Радзивилл послал ротмистра с трубачами требовать сдачи. Но Борис Шейн и Федор Шереметев отказались сдаться, и на другой день на рассвете после взрыва в подкопе войска пошли на штурм. Мадьяры хлынули в пролом, редуты немцев окутались пороховым дымом – от стен только брызги кирпичные летели, конница Курбского ждала в строю под мелким дождем, когда пролом расширят и можно будет ворваться в город. Но защитники, не жалея жизни, отбивались, заделывали брешь, бросали со стен камни и бревна, стреляли в упор в прорвавшихся мадьяр, и почти до вечера неясно было, кто кого одолеет. Радзивилл послал гонца и велел части конников Курбского спешиться и поддержать пехоту в проломе.
Князь Курбский скучал в сторонке на насыпном бугре рядом с разбитой пушкой, играл плеткой, щурился, когда близко гудел свинец из крепости; чуть позади тоже верхом стоял Мишка Шибанов. Дождь стал редеть, лишь иногда обсеивало порывами – ветер расходился от заката, расчищал медное небо, гнал в высоте плотные серо–белые обрывки туч, а потом на миг глянуло низкое солнце и блеснуло по мокрой глине, по броням и лошадиным крупам. Было холодно: пар светился у рта, и стыли ноги в стременах. «Скоро ли они там? – думал Курбский. – Опять скажут поляки, что мы без дела простояли весь день…» Со стены мигали ржавые вспышки выстрелов, но уже пореже.
– Мишка! – сказал Курбский, не оборачиваясь. – Езжай, скажи Павловичу, пусть спешит полусотню и ведет ее в пролом за венграми, а то мы тут до ночи простоим. Пусть проход расчищают для нас. Слышишь?
– Ладно! А где…
Курбский вздрогнул от налетевшего сквозняка, короткого, слитого с мокрым ударом во что‑то сзади, лошадь шарахнулась; натягивая поводья, осаживая, он уже знал, что случилось. Мишка Шибанов волочился на спине за своим конем – нога застряла в стремени, – потом лопнул ремень, и он остался лежать на спине, раскинув руки. Курбский подъехал, соскочил, встал на колени, приподнял его за плечи. У Мишки побелел нос, выступили веснушки, начали белеть губы, он хрипел, глаза расширялись, уходили в небо, а потом потухли, и тело сразу огрузло, потянуло к земле. Курбский отпустил ею, встал, отряхнул колени и тоже взглянул вверх, в бегущие тучи, подсвеченные закатом. «Вот и Мишка пошел к Василию, к дяде своему, Шибанову. Зачем я здесь на юру с ним торчал? Прости, Мишка, не думал я…» Люди смотрели на них, больше на князя, чем на убитого, иные качали головами. Курбский снял плащ и набросил его на тело.
– Отвезите в обоз, – сказал он. – Город возьмем, похороним по чести… Я сам…
Он посмотрел на город, стиснул челюсти, вытащив и резко поднял вверх саблю, и сразу затрубили в полках, его конные сотни стали спускаться к пролому в стене все быстрее, переходя с трусцы на тяжелую рысь. Вспышки из бойниц участились, но Курбский не обращал на них внимания – венгерская пехота уже ворвалась в город.
Никто почти не сдался, и поэтому никого не пощадили. К утру, когда совсем расчистилось небо и даже выглянуло солнце, трупы убрали к заборам и стенам домов, и они лежали штабелями, многие раздетые догола; попадались и женские. «Никогда не видел столько убитых за один раз!» – сказал немецкий полковник Вейнер, проезжая с Курбским через рыночную площадь. Они ехали в ратушу на военный совет. В углу площади кого‑то били в толпе пленных, слышалась русская ругань, крики. Конвойные поляки стояли и смотрели, не разнимали. Курбский и Вейнер, за которым следовали двое ординарцев, подъехали ближе.
– А ну разнять их! – крикнул Курбский по–польски и пустил коня в толпу.
Народ раздался. Окровавленный босой человек остался лежать на мостовой. Другой сидел, зажав разбитую голову, качался, подвывая, как животное.
– Что здесь? – грозно спросил Курбский у конвоиров. – Чей полон?
– Русские узнали в этих людях бывших опричников и сами расправились с ними, – сказал усатый кряжистый конвоир. – Это их счеты, а нам что?
Много русых нечесаных голов повернулось к Курбскому, много серых и голубых глаз уставилось ему в лицо, но он не мог на них смотреть и не хотел видеть опричников, стегнул коня и отъехал от толпы. Полковник Вейнер и два его ординарца поехали за ним.
– Эти русские совсем как дикие звери, – сказал Вейнер. – Даже в плену они убивают друг друга!
Курбский ничего не ответил. Когда он отъезжал от пленных, то услышал, как кто‑то спросил: «А это кто?» Старый стрелец из полка Бориса Шейна, босой, широкобородый и лохматый мужик, сказал: «Князь Андрей Михайлович Курбский. Я его враз признал, хоть он и раздобрел». – «Это который от царя сбег в Литву?» – «Он самый». «От этих окаянных сбегишь», – показал кто‑то на опричников. Конвоиры сбили пленных в кучу и погнали куда‑то. Раненый опричник все так же сидел, качаясь и сжимая голову. Один из конвоиров подошел сзади, коротко и сильно рубанул его по шее, нагнулся, поднял клок соломы, отер саблю и рысцой побежал догонять своих.
На другой день, двенадцатого сентября, на погосте возле развалин обгоревшей церкви местный, с трудом разысканный поп отпевал «убиенного раба Божия Михаила». Курбский стоял впереди кучки своих русских слуг – тех, кто еще остался, кто знал Мишку. Причта не было, и они сами, как умели, подпевали заупокойному тропарю. И Курбский подпевал, смотрел на бледное веснушчатое лицо, думал. Только с Мишкой говорил он по–русски – никак тот не мог по–польски хорошо выучиться, только Мишка заботился о нем, кормил и поил в походе, сушил его сапоги, таскал солому под бок, добывал молоко, сторожил сон, чистил саблю – все делал сам и с удовольствием. А ведь он после женитьбы на Александре хотел Мишку перевести в полк, но тот так обиделся, что он не перевел; и объяснить ему было стыдно: не понимал Мишка, как это можно из‑за бабы его отстранить. Только Мишка, как и он, свято чтил память Василия Шибанова, мученика за верность. Только Мишка пел в дороге долгие ямщицкие песни о белых снегах, о темных лесах. И когда Мишку завалили мокрой тяжелой глиной, стало пусто и холодно. «Видно, знатный был боярский сын, что князь так кручинится?» – спросил поп, снимая епитрахиль. «Не боярский он сын никакой, – ответил кто‑то сердито. – Стременной он – и все!»
Курбский велел разбить стан за городом: не хотел слышать пьяных песен, ничего не хотел, кроме полного и беспросветного забытья. Он был рад, что получил приказ возвратиться в Полоцк. Выпил баклагу вина, но все не спалось, хотя две ночи не спал. Даже дом – Миляновичи, Александра, младенец Марина, книги и рукописи – все это сейчас как‑то обесцветилось, поднялось в предночном тумане, как дым, растворилось в тучах над полосой заката. Быль стала небылью, сказкой странной… А руки, ноги, голова словно налились жидким камнем, стали тяжелыми, не нужными никому. «Сына у меня нет и не будет… Да и зачем ему быть здесь?» – тупо думал он, засыпая.
Вот он опять сидит в той комнате, из которой ушел ночью, чтобы идти на Сокол, и смотрит на неподтертые следы от сапог, и вспоминает, как ворчал Мишка на наследившего гонца. Ему хотелось есть, но он так и не взял нового стременного и вообще никого не взял, а если надо было, приказывал первому подвернувшемуся под руку. Но сейчас все спали. В Полоцке писем из дома все не было, может быть, подумал он равнодушно, Александра уже изменила ему – ведь тридцать лет разницы, а может, она просто не знает, о чем ему писать, да и умеет ли? Это она написала тогда в Вильно об измене Марии? Зря написала. Как зря? Не знал бы, ничего не было – сейчас Мария была бы его женщиной. Может быть, похитить ее, когда вернется? Похитить и отвезти в какую‑нибудь деревню, спрятать там и… Он остановился и провел рукой по лбу: что это с ним? Самые безумные мысли казались в эту ночь обыкновенными. Но если выпустить все эти мысли, то они переполнят комнату и задушат… Да, он согрешил, взял в жены Александру против закона церковного, а это все равно что жить с наложницей, но тогда он и с Бируте может жить; семь бед – один ответ…
Мысли крутились, как мохнатое колесо, а он то пил вино, то бессмысленно пялился на огонь свечи. Какая‑то страшная лень, безразличие ко всему овладевали им постепенно, и казалось, нет и не было ни добра, ни зла… «Я трех жен имел, а он сколько? Пять?» Мысль об Иване Васильевиче несколько его оживила. Он открыл ларец с бумагами, вытащил и перечитал свое письмо. Оно показалось ему холодным и неполным. Надо было тогда снять копию, а потом найти, с кем его переслать. «Александр Полубенский подскажет с кем…»
Он выпил еще и стал ходить по комнате; гнулся, трепетал язык свечи, скрипели половицы. «У меня две законных, а у тебя пять, шесть? – сказал он Ивану. – Да наложниц сотня. Сколько твои опричники–псы изнасиловали девиц?» Он сел, вытащил лист и взял перо, как берут нож. «Сейчас, говорят, у тебя вдова чья‑то, Василиса Мелентьева [206]. Это какая? Первые три умерли. Своей ли смертью? Анастасия Захарьина–Юрьева, Мария Черкасская, Марфа Собакина [207], почти дитя, говорят, неделю всего прожила. А Анну Колтовскую [208] и Анну Васильчикову [209] ты постриг насильно в монахини. Да я против тебя, Иван, праведник, ей–богу!»
Он стал писать быстро, перо брызгало, скрипело. Закончил о разврате и перешел к чернокнижию – шли такие слухи о великом князе Московском: врача его, составителя ядов, англичанина Бомелия [210], иначе как колдуном за глаза и не называли, рассказывали, что царь тайно держал каких‑то ведьм из Лапландии и гадал у них. «…Собираешь ты чародеев и волхвов из разных стран, вопрошаешь их о счастье, как скверный и богомерзкий Саул…» [211] – писал Курбский, боясь оглянуться: ему казалось, что некто серый, длинный стоит за спиной и следит за его пером, склонив голову, высунув кончик языка. Так кончать письмо было нельзя: он вызвал силы подземные, и надо было их изгнать и из письма, и из этой комнаты. Поэтому он приписал: «Не губи себя, а вместе с собой и дома своего! Очнись и встань! Никогда не поздно… Мудрому достаточно. Аминь, – Он подумал и закончил так: – Написано в городе государя нашего короля Стефана Полоцке после победы, бывшей под Соколом, на 4–й день. Андрей Курбский, князь Ковельский».
На другой день он отправился в крепость на прием к канцлеру и коронному гетману Яну Замойскому. Стефан Баторий уехал в Вильно, и Курбский, не зная, как решится его старое судебное дело, пошел напролом – ему надоело быть в неизвестности. Замойский принял его не сразу: он беседовал долго с иезуитом Антонием Поссевино [212], посланником Папы Григория XIII [213], который собирался ехать к великому князю Московскому, чтобы, пользуясь его военными неудачами, попытаться склонить царя к римской церкви.
Когда вошел Курбский, канцлер что‑то писал, свет из окна просвечивал рыжий пух на его лысом черепе. Быстро и ровно ложились строчки, и Курбский вспомнил, что Замойский учился в Италии в Падуанском университете и, говорят, гордился своей любовью к наукам. Глядя на него здесь, на войне, трудно было в это поверить. Канцлер кончил и, не предлагая садиться, спросил:
– Зачем ты пришел, князь Курбский?
– Я пришел, – Курбский, не моргая, смотрел в глазки–ледышки под толстыми надбровьями, – чтобы дать тебе прочесть мое письмо к великому князю Ивану Васильевичу. Это первое. И второе: я прошу тебя, как наместника короля, отправить меня туда, где ожидается наступление.
Замойский вгляделся в отекшее, заросшее лицо Курбского, в сжатые, обветренные губы, потом взял письмо и стал читать медленно, переводя с русского на польский, перечитывая некоторые строчки.
– Я могу сесть? – громко спросил Курбский, хмурясь и краснея.
Замойский оторвался от письма и усмехнулся углом бледного рта.
– Конечно, князь, прошу тебя, садись. – Он подумал и добавил: – Здесь, в воинском стане, я забываю о всех дворцовых обычаях.
И он опять погрузился в чтение письма, а Курбский ждал, разглядывая вороха грамот, бумаг и книг, которые лежали на столе, на скамье и даже на постели гетмана. Здесь же среди бумаг стояла простая глиняная миска с остывшей гречневой размазней. Наконец Замойский кончил и долго молчал, глядя в оконце на мокрый серый двор.
– Мы отправим твое письмо, хоть оно написано без должной сдержанности. Но это – твое дело, это личное письмо, я о нем ничего не знаю. Ты понял меня?
– Да.
– Князь Иван написал королю о тебе и о некоторых других, и король ответил… – Замойский замолчал, но Курбский ничего не спросил. – Король ответил как должно. – Замойский опять помолчал. – Почему ты хочешь попасть в битву с русскими, хотя ты только что достаточно повоевал?
Он пригнулся, навис, огромный, сутулый, его зрачки, казалось, пронзали холодом насквозь, испытывали, искали. Но Курбский только усмехнулся.
– Потому что мне надоело ходить под твоим подозрением, гетман, – ответил он твердо, спокойно. – Мне надоело после пятнадцати лет службы этому королевству слушать разные намеки вроде того, что ты сказал сейчас. Испытай меня, если мало того, что я сделал для Речи Посполитой. Да, я хочу, чтобы ты меня испытал.
Он говорил все это без вызова, устало, но не опуская взгляда. Замойский стал перебирать бумаги на столе: он думал.
– Хорошо, – сказал он. – Я доложу королю. А ты поезжай со своими полками в Вольмар под начало наместника Ливонии гетмана Ходкевича. И возьми Дерпт – ты уже один раз брал этот город!
Голубые ледышки щурились, не доверяли, проверяли. Но Курбскому было все равно теперь: что‑то в нем чуть надломилось, когда зарывали Мишку Шибанова. Он поклонился и молча вышел.
На студеных озерах горели охрой старые рябины, по утрам долго слоился туман по болотистым низинам, собирались в стаи дрозды, вспархивали из‑под копыт, густо рассаживались по веткам. То облетевшими перелесками, то сжатыми полями скакали кони, отфыркивались, встряхивая гривами, и встречный ветер холодил лица, на опушках ноздри вбирали горьковатую прель увядания, поскрипывали седла, побрякивала сбруя, гулко отдавался по гнилым мосткам топот конных сотен. На исходе четвертого дня их остановила застава под Вольмаром.
– Ну, князь, не ждал тебя здесь, но рад, рад! – говорил старый Григорий Ходкевич, щурясь и словно принюхиваясь длинным носом.
Он совсем не менялся – то же рубленое смуглое лицо под седыми кудрями, тот же хитровато–веселый взгляд из‑под кустистых бровей, и нос, словно чуткое рыло вепря, и спокойные уверенные движения грузного тела. Обед подходил к концу.