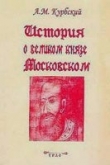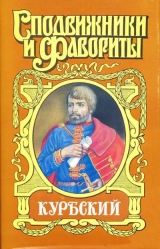
Текст книги "Андрей Курбский"
Автор книги: Николай Платонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
Люди, люди! Даже не сами дела, слова, события, а их оттенки, их скрытый смысл, казалось, постигал Андрей, вспоминая день за днем. В комнате смутно светлел квадрат окна, ночь шелестела мокрым садом, слушала его мечты. «Русь, Русь наша! – позвал Андрей беззвучно, тоскливо, – Иван мне верил тогда, он и Алексею Адашеву верил. Кто наговорил, сглазил? Как поднялась рука Алексея со свету сжить – он ни единой нитки себе не взял никогда?»
Он повернулся на бок, горели щеки, гневное бессилие гнало сон. «Алексея тоже сюда выслали, в Юрьев–Дерпт, и Хилков, наместник, над ним измывался, говорят, а потом горячка? Нет, не верю! Может, он вот на этой постели и умер? Говорили, руки наложил на себя. Не верю – он Христу был предан до конца: отравили его. Да, да! Но меня Иван не отравит, меня Иван с юности любил, и я его; когда все от него отложились, я был верен…»
Чувства стали сухи, жестки, он говорил себе все это, но мысли шагали бесслезно, они теперь обличали, взвешивали, искали опасности здесь, рядом. Почему‑то всплыло длинное подслеповатое лицо дьяка Шемета Шелепина, который приехал в Юрьев позавчера по пустому делу и к Курбскому не явился, а встал во дворе Бутурлина. Шемет Шелепин был известен тем, что один остался на свободе после разгона Челобитного приказа, который возглавлял Адашев. Андрей ощущал, что опять незаметно попал в этот огромный скучный мешок и бредет в нем неведомо зачем и куда. Куда? А куда брели все, кто попал в мешок этот, – в застенок, вот куда!
«Иван мне верил. Но Семен Бельский говорил: «Он мне тоже верил, а потом велел убить, как пса!» Потому Семен и ушел в Литву. Как пса? Был пес, его звали Рогдай. Выжлец годовалый, дурашливый, голенастый…»
Андрей откинулся на подушку и увидел карие преданные глаза пса. Прохладный влажный нос ткнулся в руку, щенок тявкнул, неуклюже подпрыгнул и лизнул Андрея в подбородок.
– На, дай ему, – сказал Иван и протянул кусочек мяса. – Мани его за нами, пошли.
Иван зачем‑то лез по внутренней лестнице дворцового терема, а они с Рогдаем за ним. Им тогда с Иваном было лет по двенадцати, и в этот пасмурный скучный день с утра было лень даже на траве валяться, не то что лезть куда‑то на верхотуру и пса за собой зачем‑то манить.
Вверху, на кровле, стало жутко от высоты, ветер шевелил волосы, засасывало сладко в каменную пропасть, на дне которой пестрел булыжник двора. Это был самый высокий терем в Кремле. Щенок глянул вниз и поджал хвост, ноги его мелко дрожали, косил испуганный глупый глаз. Иван взял его за шкирку, подтащил, перехватил под пузо и швырнул через парапет в пустоту. Мелькнули растопыренные лапы, жалобный вой удалялся, глох и оборвался мокрым ударом. Иван, перегнувшись, смотрел вниз жадно, пристально; лоб пошел пятнами, глубокие ноздри дышали, толстый рот растянулся в полоску, будто он смеялся беззвучно. Такой рот у него бывал на торговых казнях.
– Ишь еще шевелится! – сказал он с удивлением, понюхал зачем‑то ладонь, вытер ее о штаны. – Как думаешь, опоганился я? Он меня обмочил.
Андрей молчал; во рту пересохло, зубы стиснулись – не разжать.
– Велю Афанасию очистительную молитву прочесть, – задумчиво говорил Иван. – Пес – нечистый зверь. Вот конь – другое дело. Пошли?
– Зачем ты его так?
– Утром кормил – окрысился на меня, – ответил Иван. – Пошли, чего встал? Кошка на лапы падает, но отсюда и кошка…
Андрей вытер вспотевший лоб, открыл глаза, откашлялся. Ночь все никак не кончалась, душно было, пусто.
«А ведь щенок так Ивана любил», – подумал он.
– Безумец, бальной, одержимый… – сказал он с тоской. – Кто же ты, Иван? Кто ты, великий князь Московский?
Опять откуда‑то встряло длинное благообразное лицо Шемета Шелепина, тускло–непонятно смотрели его черные глазки. «Почему он во дворе у Бутурлина встал и ко мне сам не явился?»
Тусклые глазки Шемета и бегучие зрачки Ивана Грозного – и неожиданно он увидел в Иване одну скрытую темно–живучую жилочку, которая, может быть, все объясняла. «Может, я от черемухи охмелел и потому почуял их? Онии в праведников, говорят, вселяются, не то что в него, преступного!.. Но если это они, неизгнанные (а кто возьмется ихизгнать?!), то Иван невиновен? Преступен, но невиновен и – непобедим, потому что с ними не борются, от этого бегут… Говорят, Иван начал целыми родами истреблять, от стариков до младенцев, сам бы он не дошел до такого; нечеловеческого».
Это были не мысли, а темное мучение, и, чтобы избавиться, он искал на ощупь ответа. «Разве может одержимый, в которого вошло это, людьми править, нами, народом, отечеством родным?»
Нечто приблизилось вплотную, и думать дальше стало страшно. Ни внутри, ни вокруг ответа не было. Молчала лунная ночь, наблюдала равнодушно, ночь светила в квадрат окна, разрубала пол, ложе, стену; она дышала все ближе дурманом женским, душистым, какое ей дело, чужеземной, непонятной, до каких‑то русских вопросов? «…Огради мя силой честного твоего, животворящего…» – вяло, отстранение вспоминал Андрей, нащупывая и не находя креста на шее: ему и не хотелось искать‑то по–настоящему, хотелось сгинуть, спрятаться, наползала, прикрывала какая‑то ленивая томность, обволакивала, опутывала, расползались, утекали в щель мысли–слова, что‑то отвлекало, втягивало в лунный провал все неудержимее, сладострастнее… Теперь он стал бескостен, бескровен, а она, эта женщина, смотрела на него из сада узко, пристально, голая, матово–белая, в лохматых волосах запутались лепестки, голубовато светились белки глаз и полоска зубов под верхней вздернутой губой. «Бируте! Это она!» – вспомнил он. Плыли стены, камень просвечивал, как лед, чужие коварные пальцы касались беззащитного горла. «Уйди! – сказал он бессильно. – Не надо!» Но она лишь усмехнулась, и он понял, что сейчас она овладеет им насильно. Дуло в щель окна сырым ароматом, плотским, как из чрева жрицы Бируте, хранительницы огня, когда Кейстус [29], великий князь Литовский, поял ее в зарослях черемухи на священной горе Рамбинас, где капище древних идолов. А теперь она мстит.
От ужаса он напрягся, разомкнул ее руки, вспомнил имя Бога и еще раз проснулся от собственного страшного стона. «Что со мной сегодня? – спрашивал он, озираясь и утирая пот. – Или меня опоили слуги? Да и спал ли я? Что за ночь? Ночь с апреля на май, когда цветет черемуха. Как же я забыл! В такие ночи выходит из лесов обманутая Бируте. Никто еще не вернулся домой после встречи с ней». Так рассказывал Бельский, когда она мелькнула перед ними и исчезла. Они медленно ехали верхами по сырой тропке через орешник, брякала сбруя от неспешного шага, медленно тек тайный опасный разговор вполголоса.
– …Когда привезли ему в Смоленск письмо Сигизмунда [30], – говорил Бельский, – со страху донес он о том Ивану. Награды ждал…
Бельский замолчал, жестко прищурился в никуда; осторожно ступали кони по солнечным бликам, шуршала шершавая листва по колену, по стремени.
– Ну?
– Ну а царь Иван наградил его плахой и всех свойственников его извел, а в Смоленске сделал пусто…
Кони всхрапнули, шарахнулись: гибко, широко, словно лань, через тропу перемахнула долгоногая дева, мелькнула мокрая рубашка, облепившая грудь, летящие волосы, дикий взгляд, и остро вспыхнули беличьи зубы, когда Бельский крикнул, смеясь:
– Бируте!
– Кто это? – спросил изумленно Андрей.
– Брата дочка. У нас тут двор охотницкий, купалась она в пруду… Бируте – это я ее дразню. Ее имя – Анна. А ты знаешь, кто такая Бируте? – И он рассказал литовскую легенду. – Ты веришь, что древние боги выходят, если их позвать? – спросил он Андрея.
Андрей нахмурился.
– Не знаю, – сказал он холодно. – За чародейство церковный суд карает тяжко, после Иосифа Волоцкого [31] некоторых за ересь, говорят, сожгли.
Бельский покосился, поджал губы, но Андрей прямо, честно глянул ему в глаза.
– Иосифа я чту, но и то, и это мне претит – грех!
Бельский не ответил, в лад, не спеша ступали кони, в тени кустов было прохладно, но впереди на травяной поляне жарко, сухо пестрели ромашки, трещали кузнечики.
– Она замужем? – спросил Андрей и опять нахмурился.
– Анна? Нет. Сигизмунд никого ни к какой вере не неволит. Ни к римской, ни к Лютеровой, ни к нашей [32].
– А сам‑то он во что верит?
– Сам он, как король, римской веры, но, говорят, и Лютера чтит.
Андрей сплюнул, тронул коня поводом. Чаще застучали копыта, их вынесло на чистое, под солнце, бабочка пересекла тень, запахло пылью и земляникой.
– Не говори, Андрей, никому.
– Не скажу…
– Верю тебе. Брат мой тебе верит и я.
– Не скажу.
«Вот какая сегодня ночь, а я расслабил ум и волю, – сказал себе Андрей. – Здесь, в Дерпте, храм стоит на месте капища, рыцари ордена крестили народ плохо, и в эту ночь могут демоны изгнанные бродить по городу… Надо дом запирать и на воротах, ставнях писать мелом кресты, как крестьяне делают, а я валяюсь в дурных мечтаниях…»
Он крепко растер лицо, перекрестился.
«Недаром здесь церковь нашу Николы Чудотворца еретики разорили, сейчас на ее месте конюшня, грязь, навоз… И в Риге, и в Ревеле наши церкви разорили в пятьдесят третьем, все им с рук сходит, а мы, дураки, свое слово держим: когда город сдался Петру Шереметеву, по договору все горожане остались в своей вере «аугсбургской», даже деньги свои чеканят по–прежнему… Здесь в городе какой‑нибудь чумазый ремесленник ходит задравши нос – попробуй тронь его! Вот как их Иван почтил: в день сдачи наши охраняли жителей крепко, пьяных своих запирали, упаси Бог хоть нитку взять! А епископ Герман Вейланд вышел из города со своими дворянами под знаменем ордена со своей артиллерией, и две тысячи кнехтов с ним, и дали ему на содержание монастырь Фалькенау в двух милях от Дерпта со всеми землями и пошлинами. Это не то что в Казани, где всех мужиков татарских избили с их мурзами! Да что Казань – попробовал бы Псков или Новгород просить такой воли! Что ж, это нужно, я понимаю, ведь отсюда на запад дорога в мир умный, в Рим и французские города, в науки и искусства… Ведь и здесь по праздникам в корчме играет музыка, горят белые свечи, а сколько книг и списков вывез епископ из этого дома! Одних латинских две подводы… Давно ли осада была, а в городе чисто, деревья подстригают и розы высаживают, площадь у ратуши подметают, как пол в доме, и смеются и ходят свободно, а я лежу как преступник какой и не сплю, слушаю, не идет ли за мной тайная стража Иванова… Недаром не отпускает тоска с зимы, с того дня, когда приказали именем царевым сюда ехать, а ведь после Полоцка и не наградили ничем [33], как остальных. Почему? Правильно написал я старцу печорскому Васьяну Муромцеву [34] о том, как вскипают страсти злые на нашу голову от дальнего Вавилона».
Мысли опять закрутило колесом, отнимая сон. Курбский смял кулаком подушку, словно под ней таилась бессонница, и приказал себе не думать ни о чем. Он твердой рукой взял со стола чашу, отпил, поставил и еще раз приказал себе спать, как в походе, под носом у врагов, десятки раз приказывал себе и спал, потому что он был воин и с шестнадцати лет командовал людьми, водил их на смерть, отвечал за все, и завтра будет такой же день, как всегда, и он так же будет решать все один, так, как надо, и о Шемете Шелепине, и о других, и будет тверд, а если надо, то и беспощаден, потому что для него война не прекращается никогда. Тем более на границе, в ливонском городе Дерпте, который не стал русским оттого, что его называют сейчас Юрьевом. Завтра будет новый день. «Тогда и будем думать».
Он завернулся поплотнее от предрассветного холода и мгновенно глубоко уснул.
2
В третьем часу ночи огромное тело Андрея Курбского очнулось от слепого забытья и насторожилось всей кожей, хотя разум еще спал: в соседней прихожей шептали–спорили два голоса, потом кто‑то вошел неслышно, замер во тьме, пытаясь по дыханию определить, где лежит спящий. И тело Курбского сжалось, напряглась рука, потянулась к оружию, остановилась на миг от хриплого: «Беда, князь, вставай!» – и цепко обхватила рукоять кинжала под подушкой. «Беда!» «Кто? Кто?!» – прохрипело горло, и, только уловив в этом вскрике срыв, панику, очнулись разум и воля, сжали дрожь, заставили вглядеться и рывком сесть.
– Кто здесь? – ясно спросил Андрей.
Он не ощущал ничего, кроме толчков крови в ушах и готовности ко всему; страха не было – это стоял человек. А ничего человечьего он сейчас не боялся.
– Я это, – ответили из темноты, и он сразу узнал сипловатый спокойный басок Ивана Келемета [35], который должен был сейчас быть в Москве, а не здесь стоять.
– Келемет? Когда вернулся? Зачем?
– Ночью. Слуг матери твоей [36], княгини, схватили. На дорогах заставы, я гнал в объезд. Вставай, князь, твоей жизни ищут…
От Келемета воняло сыромятиной, болотной грязью, конским потом. Андрей больше ничего не спрашивал, он молча одевался, движения его были скупы, быстры, расчетливы, руки сами знали, что делать, – не первый раз по боевой тревоге работали они, вооружая его тело, а разум сам по себе думал о другом, о главном: поднять полк? идти в Полоцк к Репнину? [37] а может, еще обойдется? «Не посмеет… Нет ему ближе меня…»
– Всех, кто Алексея Адашева привечал и Сильвестра, взяли. Скорее, князь.
– Кого еще? Свет зажгите.
– Свет не вздувайте, – предупредил Келемет, – следят за домом, я еле пролез, по задам пробирался.
– За домом? За моим?
Нарастал гнев, и крепла воля: это было похоже на вылазку из крепости, на войну.
– Не только за домом: во всех воротах караул вчера сменили, я говорил со знакомыми – и у Рижских, и у Домских, у Немецких и Яковлевских – везде Бутурлин своих поставил.
– Своих? Кто посмел без меня?!
Но уже понял кто: «Шемет Шелепин привез тайный приказ, и, как всегда это было, наместником станет Бутурлин, а меня схватят…»
В полутьме угрюмой тенью маячил Иван Келемет.
– Скорей, князь, не мешкай. Александр Горбатый–Шуйский [38] велел сказать тебе прямо: «Беги или умрешь».
– Сам так и сказал?
– Сам. При Даниле Адашеве [39], брате Алексея, и сыне его Петьке. Я у них ночью в пятницу был, а наутро в субботу их схватили…
– Кого?
– Данилу, сына его и зятя и в понедельник уже казнили, а я сразу бежал.
Дышала, сжималась горящая полутьма, кровь толкалась в темени: лучших, честнейших, без суда… За что?
Келемет пошевелился, повернулся к окну: с улицы донесло скрежет подковы по камню, перестук копытный. Ночная стража? Или?.. Курбский не дыша, на ощупь затягивал пояс с тяжелой саблей, слушал – подковы цокали глуше, дальше. Стихло. Страх пропадал – пересиливала, затопляя, ярость, твердели желваки скул. «На кого ты, Иван, руку поднял!»
– Значит, Бутурлин ворота запер, а Шемет Шелепин меня ловить приехал? – заговорил он медленно, зловеще. – Что ж, моих людей тут тоже сотни две наберется: пойдем тотчас, схватим Федьку Бутурлина и Шелепина этого да и повесим на башне! – Он кусал губы, наливалось лицо, грубея голос. – А сами пойдем в Полоцк к князю Репнину, подымем все войско, пошлем к Думе, в Москву – не хотим Ивана на царство!
Он задохнулся. Келемет молчал, в полумраке казалось, что глаза его фосфорно засветились, но ответил он бесстрастно, тихо, только осел сипловато голос:
– Поздно. Разве не знаешь? Князь Михайло Репнин в Москву отозван был, и там во время вечерни его в храме зарезали. А князя Кашина тоже так, но на утренней молитве…
Это окатило, как ледяной стужей, это было уже не человечье, а то, оно, с которым не договариваются. Седой Репнин и полководец Кашин [40] добывали царю и Полоцк, и Нарву, и другие города, а их зарезали в храме, на глазах у праотцев, у святителей и чудотворцев российских… «Кощунник я, Андрей, молись за меня – Бог жжет кощунников неугасимо!»
– Неугасимо! – сказал Курбский вслух, и Келемет шевельнулся. – Буди всех, будем пробиваться из города!
– Поздно… Я все объехал снаружи, осмотрел. – Он шагнул к окну, послушал ночь. Дождь перестал, было тихо, – Может, только если через пролом… Там, где мы еще не заделали, возле Монашеской башни. Спустимся, а потом берегом, через пойму – туман нынче холодный, выше росту по росе. Я уже Мишку послал посмотреть [41], как там. Наши по башням спят, спокойно все. А?
– Через пролом… А потом?
– Потом на мызу на притоке, как его… Ну к Рижской дороге. Там наш табун на отгоне. Я и туда послал двоих… Скорее, князь, светает. А если здесь биться, все одно я живым не дамся!
Еще секунду князь стоял неподвижно, опустив голову, сжатые кулаки оттягивали опущенные руки, кривился рот. Потом он сказал сквозь зубы:
– Пошли… Живыми не дадимся!
Нащупал, до боли сжал крутое плечо Ивана Келемета, а Келемет – ему.
Окно посветлело – выплыла луна, зеленоватый квадрат четко вырезался на полу, и они вышли. Проходя мимо лестницы на второй этаж, где спали сын девятилетний и жена [42], Курбский приостановился, но Келемет дернул за рукав, и он, горько сморщившись, шагнул через порог в сад.
Он больше не думал ни о чем, кроме врагов. Как в тылу у ливонцев, в разведке, он больше ничего не чувствовал, кроме холодного расчета, жестокости к себе и другим, злой радости риска. «Ты мне ответишь за все, за всех, сыроядец! – сказал он царю Ивану в упор, из глаз в глаза. – Богу карающему, шут, предатель!»
Он шагал, огромный, мускулистый, зоркий, за Келеметом; от аромата черемухи ломило виски, он ничего сейчас не хотел, кроме свободы и мести. За ним шло еще человек десять самых надежных. Все они уже ждали его во дворе и почему‑то были полностью готовы, вооружены, собраны для дороги, хотя он никому ничего не приказывал.
Келемет и Гаврила Кайсаров [43] шли узкой улочкой впереди – они первыми, если встретится ночной дозор воеводы Бутурлина, должны были или обмануть, или начать бесшумное убийство. Потом шел князь и с ним Василий Шибанов, остальные – тесной кучей – сзади. Никто не говорил ни слова. В вышине, над уступами храма Петра и Павла, плыли лунные тучи, чернели кровли башен, и все спало каменно, беспробудно, только топот приглушенный ног отражали слепые дома ганзейской гильдии, мимо которых они шли. Вот поворот к крепостной стене, вот четырехгранник Монашеской башни и правее пролом, за которым в глубине низины клубился молочный туман. Черные кирпичи развороченной взрывом кладки, запах селитры, гранита, скрип врезавшейся веревки, частое, натруженное дыхание, шепот. И непрерывное сжатое ожидание окрика, огненного удара из амбразуры, вопля боевой тревоги. Но все было тихо: русские стрельцы презирали разбитых ливонцев [44], спали сторожа, спали караульные наряды при пушках. А луну то закрывало, то открывало, и скала древнего собора все чернела в высоте.
Но вот и берег, туман по плечи, вкус его во рту, однако чувства свободы не было. Теперь они брели поймой, чавкала вода, свистела осока по голенищам; они брели в плотном предрассветном тумане, как в огромном мешке, и сквозь рядно мешка медленно светало, а это значило, что их могут увидеть, потянуть шнур и затянуть горло мешка – задушить.
Они шли сквозь липкую белесую мглу как сквозь сон, еле двигая ногами, шли на темное пятно впереди – там была роща, осиновый клин, там была тропа на Печорскую дорогу. Осинник их укроет, только бы успеть, пока не рассвело! Где‑то рядом скрипел дергач – луговая птица, замолк, и вот уже прутья подроста защелкали по плечам. Они остановились, прислушались – тишина. Светало все сильнее, уже видны были ближайшие осины, жидкие клоки путались в сучьях, где‑то сзади далеко пропели петухи на посаде, а другие откликнулись в городе, и все оглянулись туда. Чвиркнула сонно первая птаха. Андрей услышал шорох, шаги в чаще, схватился за саблю. «Я это, Мишка!» – сказал веселый мальчишеский голос. Это был Мишка Шибанов, отрок, племянник Василия Шибанова. Мишка ездил с Келеметом в Москву. Откуда он здесь?
– Привел? – спросил Келемет и довольно усмехнулся. – Пять коней? Это я ему на всякий случай наказал вчера здесь ждать.
– Пять? А нас двенадцать, – сказал Курбский. – Нет, или все, или… Один я не побегу.
– Светает, князь, беги, – ответил Келемет недовольно. – Переловят!
– Слышал – нет! Мишка! Скачи на мызу, возьми под седлами и так сколько сможешь и – к Рижской дороге. Мы встречь пойдем перелеском. Одвуконь поскачем, нельзя на Печоры, так на Выру свернем. Понял? Ну чего встал?
Когда топот стих, Курбский сказал:
– Ближе подойдите, тесней. Еще ближе…
Они стояли по пояс в тумане и смотрели ему в лицо, а он смотрел на них. Вот они – все разные и все одинаково связанные теперь с ним насмерть, потому что пути обратно нет. Кто из них пошел с ним ради него самого, а кто – ради страха за себя: слуг опального царь хватал без разбора и пытал, вымогая наветы… Кто есть кто? Лица их за рядниной тумана едва различимы в рассветной серости, но он знает каждое лицо наизусть. Вот верные, с юности служившие в походах: Иван Келемет, квадратный, бочкогрудый, большеголовый. Всегда молчалив, тверд, остроглаз. Редкие волосы прилипли ко лбу – он снял шлем, вытирает шею платком. Вот его брат двоюродный Михаил Келемет [45], послушный, верный тоже, но тугодум, слуга – и все. Оба из старого, но нищего дворянского рода. За ними стоит и ждет спокойно седоватый мосластый Иван Мошинский [46], который в отроках еще отцу, Михаилу Курбскому, служил, а потом сыну и под Казанью себя показал; палец ему отрубили на левой руке, мизинец, с тех пор прозвали его Беспалый. Этот пошел без раздумий, ради верности. А вот этот – Иосиф Тороканов – ради себя. Тоже долговязый, но узкоплечий, рыжеватый, с белыми ресницами и пасмурными глазками. Но и ему назад ходу нет. Как и этому – толстощекому Меркурию Невклюдову [47], ключнику, сладкоежке, хитрецу. Слева стоял за кустом ивы Андрей Барановский, хват и плясун, меткий стрелец из лука. Он со скукой оглядывался, переминался нетерпеливо – не любил рассчитывать и ждать. А Гаврила Кайсаров, один из опытнейших сотников Курбского, сидел на пеньке, повернувшись к городу, прислушиваясь. Вот на этого можно положиться. Курбский вспомнил, что Гаврила недавно женился, и отогнал эту мысль. Еще раз он обежал всех их взглядом, уже не думая, а лишь чутьем сердечным проникая в замкнутые лица, в вопрошающие глаза, и сказал тихо:
– Ну, люди, все ли готовы за мной идти?
Ответили не сразу, смотрели, чего‑то еще от него ждали.
– Все, – сказал наконец Иван Келемет.
– Куда деваться‑то! – простодушно сказал Андрей Барановский и улыбнулся.
«Не предаст! – подумал Курбский. – Поя Феллином показал себя!»
– Ну и добро. – Он кивнул им всем. – Поздно нам передумывать: схватят – никого не помилуют.
Они опустили глаза – всё понимали.
– Живыми не давайтесь, не советую… Ну пошли!
Они медленно тронулись сквозь осинник на юг, к Рижской дороге, обходя топкие места и травяные непросохшие лужи. Впереди дозором шли Беспалый – Мошинский и, Гаврила Кайсаров, за ними верхами – князь, Иван Келемет и Василий Шибанов, потом все остальные, след в след, молча.
Когда отошли с полверсты, Курбский спросил Келемета:
– Кого еще взяли?
– Под Старицей перехватили Ховриных, кажется, а вот Тимофей Тетерин [48] из Печор, сотник, насильно постриженный, утек и на царя грозится открыто, монахи сильно теперь боятся… Князя Горбатого, думаю, тоже не помилуют.
Курбский мрачно жевал горькую веточку, ссутулясь в седле. «Александр Горбатый! Отважный и скромный, хоть и великий воитель. Не он ли тогда под Казанью Епанчу–хана разбил, пятнадцать верст гнал, все устелил в лесу трупами! И это его полк тогда отбил моих стрельцов от Едигера, и это он да Петр Щенятев сказали царю, что я пропал, искали меня на поле, на том лугу, где конем меня придавило, на том лугу, на том свете…»
Дохнуло травяной свежестью из невозможной дали, где из сонных туч пробился лучик нездешний, мягко утеплил веки… Курбский поднял голову: впереди в молодом сосновом подросте стоял, пригнувшись настороженно, Гаврила Кайсаров. Он снял шапку, прислушиваясь, ветер трепал его тонкие русые волосы, которые были светлее обветренного дочерна лица. Кайсаров кивнул, и тут князь тоже услышал: впереди, шагах в сорока, тоненько пискнул рябчик: пи–ить–пи–и-и! Это был знак: свои! Сквозь просвет пробивались к ним, шурша ветками, верхоконные, они увидели улыбающуюся веснушчатую рожу Мишки Шибанова, красивого русоусого и синеглазого Кирилла Зубцовского [49] и еще много знакомых лиц: Ваську Кушникова, Невзорова Кирюху, Невзорова Якима [50], Постника Ростовского, брата его Ивана [51], который под Невелем князя на спине тащил, когда ранило в ногу, а вот и Захар, и Василий Лукьянов, которого кони любят, и Симон Марков, и Петр Сербулат из черкесов, черно–серебряный – рано поседел. Вое они смотрели весело.
– Откуда вы все? – спросил князь.
Кирилл Зубцовский усмехнулся, кивнул на Келемета:
– Его спроси, князь.
– Вчера я в городе кой–кому намекнул на всякий случай, – сказал Келемет, отводя взгляд. – Ну, думаю, если твоя милость уйдет в Литву, надо же и всех своих предупредить…
«Он был уверен, что я уйду ночью из города!» – подумал Курбский с гневом, но и с благодарностью: Келемет спас этих людей, он один о них подумал. Теперь их стало двадцать, и все при оружии, у каждого заводной конь – они забрали полтабуна с пастбища вместе со сторожами – Кушниковым и Захаром Москвитянином.
Теперь все были верхами, и вот все дальше Дерпт, все глуше бездорожье, но свободы все не было. И ее не было и час, и другой, и третий, и весь день, когда они скакали то лесными зимниками, то полянами, огибая болота, увязали по бабки, и опять мелколесье, поле озимое, полые ручьи, и опять опушка, и они озираются на дальний хутор с колодезным журавлем, а свободы все нет, хотя кругом безлюдье, тишина.
К вечеру на перекрестке двух дорог Шибанов нагнулся с седла, показал на следы с шипами подков: «Немцы!» Все встали, оглядываясь на сосняк, редеющий впереди.
– Недавно проехали, – сказал Келемет, – кругаля мы дали, на Вольмар [52] отсюда не проехать… – Он повертел головой. – Постой! Чем‑то вроде знакомо место. А это что?
В стороне под прошлогодней травой виднелись глубокие колеи от пушечных полозьев, полусгнившая платформа, сломанное колесо. Курбский почувствовал странное узнавание, как во сне, в котором бывал однажды. Они тронули осторожно. С опушки открылось поле, заросшее бурьяном, речка в ивняке, а за ней на голом холме замок с квадратной башней. В глухой стене чернели ворота, мост был поднят.
– Гельмет! – в один голос сказали князь и Шибанов. Недавно еще Курбский осаждал эту крепость, вел тайные переговоры с графом Арцем [53], наместником герцога Юхана. Но заговор был раскрыт, осаду пришлось снять, Курбского послали под Феллин. Кто сейчас в крепости: немцы? ливонцы? поляки?
Мирно золотилось вечернее поле, поблескивала речонка меж ивняков, а взгляд растерянно, удивленно бежал по знакомым холмам, овражкам, опушкам, где стояли тогда, где, всплывая в памяти, горело что‑то, рвалось, вон из того оврага из предрассветного тумана возникли огромные тени – вылазка немцев, всполох, бегство спросонья, скрежет железа, выкрики, топот… Еле отбили тогда батарею, вон у той ракиты билась, подыхая, кобыла Димитрия Курлятева [54], а сам он лежал грудой холстины: так и убили, как выскочил, – полуодетого. А сейчас тишина, дрозды свистят на закате.
– В объезд придется, – мрачно сказал Келемет.
– Нет! – Курбский пощупал сверток за пазухой. – Великий магистр Кетлер [55] отдался под руку Сигизмунду: ничего теперь они нам не сделают, примут, накормят, а завтра с честью проводят на Вольмар!
И он тронул из леса к замку, а остальные с опаской – за ним. Он улыбался сдержанно, ноздри втягивали запах напоенного водой поля, навозной прели, цветущей вербы, теплого вечернего сосняка. Запах свободы. Наконец он позволил себе поверить. И сразу открылись все поры тела, с болью забилось что‑то живое.
– Едем! – крикнул он радостно, и лица людей тоже оживились.
Они стояли сгрудившись перед окованными воротами. Сверху из бойниц их рассматривали немцы, дымились фитили аркебуз. Иван Келемет крикнул, коверкая немецкие слова:
– Князь Курбский с охранной грамотой короля Сигизмунда–Августа! Отворите гостю короля!
И он сам, и все, даже князь, чувствовали себя сейчас голыми.
Со скрипом цепных блоков медленно опустился мост, поднялись, как львиный зев, зубья воротной решетки.
Спешившись, стояли они в каменном мешке крепостного двора, Курбский впереди с королевской грамотой в руке – пергаментный свиток с тяжелыми печатями. Он сдерживал гордую улыбку: никто не пострадает, кто пошел за ним, никто не ожидал, что у него есть охранная грамота. Сейчас их примут с честью, накормят, напоят, а завтра дадут проводника в Вольмар к королевскому наместнику. Всей спиной он ощущал удивление и радость своих людей.
Они стояли и ждали. Здесь, во дворе, было сыро и полутемно, но верх башни, отрезанный закатным светом, розовел изъеденной веками кладкой, слабый ветер шевелил орденский стяг, а еще выше по апрельскому небу плыли с запада редкие круглые облачка.
Слуга в суконном кафтане крикнул сверху с высокого крыльца:
– Кто здесь, который называет себя князем Курбским? Пусть пройдет сюда, в башню!
Курбский поднялся по ступеням и вошел в каменную сырость башни. Он не торопился и не сердился: он знал, как любят ливонцы соблюдать все свои церемонии: чем слабее люди, тем крепче держатся они за старинные обычаи. В особенности Ливонский орден [56] – ведь время его силы давно миновало.
Курбского ввели в квадратную каменную залу и поставили перед голобородым стариком в вязаной шапочке и длинном плаще. На плаще был нашит крест, не русский, а ливонский, восьмиугольный; каждый конец его был остро взрезан, точно жалящий хвост, и вообще это был не крест, а его искажение. Курбский с трудом оторвал взгляд от этого креста и взглянул на старика. Тот молча протянул руку, и он так же молча вложил в нее грамоту. Тусклые водянистые глазки старика смотрели мимо, он не развернул грамоту, сказал, еле открывая запавший рот:
– Сдай все золото, которое с тобой, и оружие. – Он пожевал безгубым ртом. – Или я прикажу обыскать тебя.
Курбский вспыхнул, но взял себя в руки; да, и это тоже их немецкая повадка – нагрубить, запугать. Но они еще не знают, кто он!
– Прочти грамоту! – сказал он раздельно, сурово. – И ты узнаешь, кто я, и поймешь, что я и мои люди находимся под защитой королевского закона.
– Здесь один закон – ордена, – сказал старик бесстрастно, – И я здесь судья. А золото, которое у тебя, ты отнял у ордена.
Андрей понимал его – за десять лет войны на западной границе он научился немецкому и польскому, он понимал не только его речь – его намерения. Чтобы проверить себя, он взглянул на мрачных неподвижных дворян, которые стояли за спиной старика у потухшего камина. Они смотрели в лицо с терпеливым ожиданием, исподлобья, тупо и жестоко: он понял, что они схватят его, если он сделает хоть шаг. А может быть, и убьют. Но он не понимал нечто личное в этой готовности к убийству, личную ненависть именно к нему.