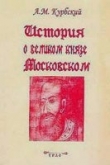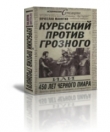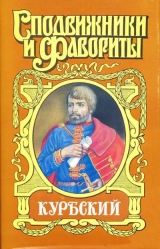
Текст книги "Андрей Курбский"
Автор книги: Николай Платонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
Иван Васильевич стоял как в столбняке, зрачки его расширялись, рот жалко кривился. Но Ангел был неумолим, и Иван хорошо понимал его – он и сам был неумолим. «А за то ночное дело… Какое оно, какое?.. Я не ответил Ангелу на это, но отвечу, – сказал он себе, пытаясь? искренностью отдалить возмездие. – То дело – бесовское!» – выкрикнул он, глянул в пасмурные глаза Ангела и защитно вскинул руки: хулящим Духа Святого нет прощения, и оттого лик Ангела словно озарился отблеском небывалого зарева, тень его острых крыл уходила в тени туч, и Иван, отбросив все царское, как ветошь, рухнул мешком костей на ледяной пол: он покорился. Он стал умолять. Это были слова не церковного канона, а его собственные, сухие, но отчаянные, мольба об отсрочке: на полное прощение Ангел Смерти права не имел.
Иван шептал, задыхаясь, чувствуя, как подымается, начинается в нем нечто, как последняя мольба: «…Возвести мне конец мой, да покаюся дел своих злых, да отрину от себя бремя греховное. Далече мне с тобой путешествовати! Страшный и грозный Ангел, не устраши меня, маломощного!» Бессознательный речитатив прервался, и он с тоской ощутил свое дрожащее толстое тело, горечь в гортани, удары жилки на шее – скоро ничего этого не будет, а будет… Что?! «…Святой Ангел, грозный воевода, помилуй меня, грешного раба твоего Ивана!.. Да не ужаснуся твоего зрака…» Он не мог взглянуть на Ангела, он пытался вспомнить тех, кто смог бы за него искренно просить: сыновья? жена? митрополит? «…Люди Божии, благочестивые, и все племена земные, когда увидите смертное мое тело, поверженное на землю и объятое зловонием, помолитесь ко Ангелу смертоносному о мне, да ведет душу мою в тихое пристанище, да весело и тихо напоит меня смертной чашею…»
Толстая свеча в высоком литом подсвечнике оплыла, укоротилась, когда царь поднялся с пола. Он сделал два неверных шага и ничком упал на ложе: вся сила и гордость вышли из него сейчас вон, и он знал, что в этом отсрочка приговора: ведь он только что обещал Ангелу отречься от престола – от самого себя.
Это было обещание невозможное, но он его дал, потому что надо было получить отсрочку. Он спасет себя и ближних своих: он примет постриг, и они с ним. Но принявший постриг не может править царством земным. «А почему? – спросил голос. – Почему не может? Для Бога все возможно. Днем – править, служить людям, Руси. А ночью – молиться, служить Богу. Никто до этого не домыслил, но мне это Бог послал в разум как откровение. Днем мы из‑за государственных дел вынужденно оскверняемся кровью и гневом. Ночью мы очищаемся, чтобы с утра яснее видеть правду и судить нелицеприятно. И будет новый орден монашествующий! Не такой, как у рыцарей тевтонских [82], или Тамплиеров [83], или Иоаннитов [84], а такой истинный, какого ни у кого не было…»
Эти мысли прошли сквозь него как вихрь, они совпадали с его обетом отречься и не совпадали, и он опять испугался, хотя чуял, что Ангел остановил свой удар. Еще тогда остановил, когда он говорил ему свою молитву. Она излилась из него как песнь предсмертная. Разве это не знак свыше?
Он лежал, уткнувшись в ладони, и все еще дрожал, как большое, насмерть напуганное животное, но постепенно дрожь стихала. Ангел услышал его вопль–молитву, и это – его дар Ангелу, и дар был принят. Он глубоко вздохнул, лежал опустошенный до дна, но уцелевший. Это было краткое промежуточное состояние меж двух состояний, с детских лет главных: жажды власти и страха смерти. Он лежал, уже отходя от страха, но не показывая виду, – Ангел все смотрел в спину; незаметно Иван стал спускать ноги на пол, боком, ни разу не глянув на Ангела, морщась болезненно, даже охнув, он подтащился к стене, нащупал, нажал в лепнине скрытую пружину и нырнул в черный лаз, который вел вверх, в его царскую опочивальню. Там никого не было, в оконце брезжил весенний рассвет, свежей листвой дохнуло из оконца, росой, землей. Иван Васильевич вздохнул всей грудью, накинул меховую безрукавку, крикнул слугу:
– Годунов [85] здесь? Позови. И принеси сбитня горячего. Быстро!
Он сел, задумался: «Нет, Ангела страшного обмануть нельзя – я исполню обещанное, если такова воля Божия. Но людей для пользы власти нашей обманывать не грех, а не то они раньше времени истребят и меня, и друг друга». Поэтому он сказал вошедшему Борису Годунову – постельничему и начальнику его, царя, личного сыска:
– Собрались, кому велел?
– Да, государь. Ждут.
– Пусть идут спать – из‑за Андрейки–беглеца нечего шум разводить. Стражу удвоили? Кем?
– Удвоили. Во дворе Басманова сотня. А здесь, в сенях, я своих поставил да дворян Юрьева и Плещеева.
– Хорошо, Борис. – Иван Васильевич отпил два больших глотка горячего сбитня, подумал. Годунов пытливо посмотрел на его измученное, но спокойное лицо и потупился. – Главное, Борис, поставь тайный глаз за князьями Александром Горбатым, Иваном Сухим [86], Димитрием Шевыревым [87], Петром Горенским… [88] Да и за суздальскими надо бы…
Годунов начал понимать мысль царя.
– А ближних и слуг Андрея Курбского, скажи Малюте [89], ночью возьмите. – Иван помолчал. – Семью тоже… Перехитрил он нас, собака! – Но в голосе не было злобы. – Пошли в Юрьев Морозова со стрельцами – смените гарнизон. Федьку Бутурлина привезите в Москву.
Иван Васильевич говорил все это тихим, но твердым голосом, он старался ничем не выдать того мерзкого ужаса неминуемой и животной смерти, который вошел в него и так и остался, еще давит стылым комом. «Я велю написать канон Ангелу грозному, безымянному… Он принял мой дар…»
– Ступай, Борис, а мне пошли отца Афанасия.
Годунов поклонился и вышел. Иван лег, накрылся мехом, поджал коленки, отогреваясь. «Князья, княжата… – подумал он устало. – Пусть грызут друг друга – уйду…» В этом решении было и облегчение, и пустота бессмыслицы какой‑то: затем же тогда все, что он сделал для Руси, и преступного тоже? Но думать сейчас он не мог – его точно избили и бросили на дороге полуживого. Лицо в лампадном свете казалось больным, желтым, во впадинах копились лиловатые тени. Вошедший иеромонах Афанасий, духовник царя, постоял, прислушиваясь к хриплому дыханию. Иван простонал то сне, повернулся на бок. Афанасий покачал головой, перекрестил его и, неуклюже, широко шагая, на цыпочках вышел из опочивальни.
Ночь майская кончалась, она была прохладной и душистой: черемуха зацвела. Иван спал, но во многих домах Москвы не спали: от Басманова пошел слух, что царя хотели извести зельем и что скоро будет розыск и справедливый суд, потому что если Курбский, высоко вознесенный, изменил, то чего ждать от тех, кто в опале или обижен?
Облака рассветные тонули в серой реке, кончали щелкать соловьи в рощах и садах, а люди шептались, качали головами, иные молились, а еще некоторые, узнав о бегстве Курбского, прощались с женами и детьми. Один Алексей Басманов, которого ненавидели все его прежние друзья – бояре, был рад и почти не скрывал этого.
5
Андрей Курбский знал, что самые близкие его – заложники. Сын, мать, жена. И страшнее – могут их заморить. Старуху, ребенка. И женщину – простодушную, глуповатую, ревнивую и по–детски обидчивую; вечно что‑то болело у нее, и видел ее редко, а не скучал, но сейчас именно это простодушие и полная невиновность жены Ирины, ее круглое румяное лицо и смешные вопросы, ее утренний чай в липовом саду, когда осы кружатся над вареньем, ее смех без причины – все это вызывало вновь тяжелую ненависть к Ивану Васильевичу Московскому. Это было чувство постоянное, чугунное, и Курбский не хотел от него избавляться; теперь, когда эти три лица стояли перед ним в застывших как лед слезах – сын, мать, жена, – он хотел одного – скорее выступить в поход, чтобы не думать, а мстить.
Но поляки не ладили с литовцами, немцы просили денег, шведы выжидали в Ревеле, а магистр ордена торговался за каждый город, еще ничего не сделав, и поэтому выступление все откладывалось. Только на границе легкие конные отряды охотились за языками, сшибались с разъездами Шереметева или просто грабили того, кто подвернется. Ничейная полоса была разорена и пуста; в эту весну плодились волчьи выводки, зарастали бурьянами и ромашками пахотные клины, на пепелищах чернели глиняные очаги, и яблоневый цвет облетал на невзрытую, брошенную землю.
Один из отрядов привез бежавшего из Смоленска стрелецкого старшину, и тот рассказал, что в Юрьеве сменили гарнизон, что Федора Бутурлина заковали и увезли, что, говорят, в Москве, как перед мором, тихо и страшно – все ждут, что теперь будет. От этих рассказов перед Андреем возникла вновь мать, матушка, княгиня Тучкова, ее мягкое умное лицо, серые задумчивые глаза, тонкие седые волосы. Ее знали как одну из самых набожных и начитанных женщин не только в Ярославле. Андрей помнил, как брат ее, Василий Тучков–Морозов [90], написавший по просьбе митрополита Макария «Житие Михаила Клопского» [91], передал сестре по завещанию часть своей знаменитой библиотеки, и как в их имение, в село Курба, привезли летом укутанные в рядно тюки со свитками и толстыми кожаными книгами, и как мать говорила, что сам Максим Грек в богословском писании обращался к ее просвещенному брату. Мать научила Андрея читать и испытывать прочитанное мыслью и опытом, а в Троицком он видел ссыльного Максима Грека, когда тот отговаривал Ивана ехать к Васьяну Топоркову; Максим предрек наказание за ослушание – смерть сына, и сын этот, Димитрий, утоп на обратном пути. Не тогда ли помутился в Иване облик душевный, царский, которому Андрей с радостью служил? Кто обличит его теперь, кто спасет Русь?
Курбский встал и начал ходить по комнате. Весь дом Радзивилла Черного, где он жил, спал крепко. Один Шибанов не спал – слушал, лежа на кошме за дверью, шаги князя и. качал лохматой головой, что‑то шептал себе под нос, иногда крестился. Он слышал, как князь сел к столу и зашуршал бумагами. Когда забелело в окнах, Шибанов проснулся и сунул голову в дверь – Курбский сидел и что‑то яростно писал, а постель стояла несмятая.
В ту ночь Василий Шибанов спал сначала спокойно, даже радостно, потому что видел и ощущал, как они с женой Нюшей и племянником Мишкой ставят стог за Фиминой бориной на берегу Вольги возле бочага. Речушка была лесная, темная, но здесь она выходила из ельников через редкий березняк опушки на широкую сенокосную поляну – кулижку, на их покос. На поляне неярко грело солнце, вянул земляничный лист на обкошенных кочках, а, если глянуть вверх по речке, там, вдали, в еловом прогале русла дымилась небесная тишина.
Нюша сгребала, Василий подымал на стог пудовые навильники крепко, горько пахнувшего сена, а Мишка на стогу уминал его ногами. Когда сметали, Нюша очесала стог граблями, подгребла раструшенные остатки, а Василий, отставив вилы, отер пот и вздохнул во всю грудь. Он стоял, отдыхая, смотрел на Мишку, который все не слезал со стога, слушал, как побрякивает недоуздком распряженная кобыла, и ни о чем не думал. Ему было так покойно и хорошо, как давным–давно не было. Еще лето не кончилось, но в темном бочаге плавали два березовых листка, чисто–желтых, осенних, голубел клок небесный у затопленной коряги, и так было чего‑то жалко, словно слезы подкатили, а Мишка на стогу ничего этого не замечал. «Слезай!» – хотел сказать Василий, но не смог, и ему стало почему‑то страшно. Мишка стоял высоко вверху, закинув лицо к небу, ветерок шевелил рыжеватые волосы, распоясанную рубаху. «Слазь!» – крикнул Василий, но звука не получилось, а Мишка стал вместе с поляной отдаляться, отдаляться в какую‑то полупрозрачную невесомость, чужую, холодноватую, которой на обычной земле не бывает ни летом, ни осенью. Василий понял, что Мишка его не слышит и что только заговором его можно остановить от этого необратимого отдаления, но он забыл заговор и испугался еще больше – одна мысль о заговорных словах удалила Мишку со стогом еще дальше, краски поблекли, и остался один черно–синий силуэт парнишки, который смотрел вверх, безвольно опустив руки, словно чего‑то ждал…
Василий замычал, тяжело повернулся и разлепил веки. Окна мутнели от рассвета, от пола, на котором он спал, пахло псиной, ливонской какой‑то плесенью. «К чему бы такой сон?» – подумал Василий. Ответа не было, только тоска все сосала под вздохом, тоска по этому покосу за
Фиминой бориной на Вольге, тоска по Нюше. Давно не было в походах эдакой злой тоски. «Ливония! – четко сказал Василий сам себе. – Не судьба, да, не судьба мне теперь…»
Вот оно – сбылось невозможное – люди Курбского схватили на дороге самого царя, который ехал с малой охраной к осажденному Полоцку, и привезли его в стан, связанного и оборванного. «Вот он, всемогущий владыка наших жизней! Теперь он должен будет ответить на все мои вопросы! Развяжите его!»
У Андрея горело все лицо, он кусал губы, сжимал до боли кулаки, чтобы не ударить того, кто стоял во мгле рассветной перед ним так близко, что видны были в сером черные жуткие зрачки. Они уперлись и ждали, и, погружаясь в них, Андрей говорил тяжело, с мучением, но и с радостью: «Я поставлю тебя перед всем народом, перед иереями, князьями и воинами и буду спрашивать, как простого пленного, а ты будешь отвечать! Так, как ты стоял на Стоглавом соборе, но тогда ты спрашивал, а мы отвечали. Теперь мы сравнялись силой, Иван! Становись и отвечай мне по ряду: ты не царь, а преступник. Почему не царь, ты спрашиваешь? Отвечу тебе, Иван. Потому, что Бог поставил тебя править самым светлым царством – Русью православной, а оказалось, что совесть твоя прокаженная, что такой нет и у безбожников. Ты сам снял с себя сан свой преступлениями и кощунствами. Ты – еретик!»
Воронки зрачков на ноздревато–сером лице Ивана втягивали каждое слово, но лицо было неподвижно и бесцветно, как пемза, только края ноздрей розовели да полоска нижней полуотвисшей губы.
«Ну говори, защищайся! – сказал Курбский. – Мы не ты, у нас суд правый. Что ж ты молчишь? Тебе нечего сказать, Иван! Тогда слушай: зачем истребил ты без суда тех, кто возвеличил своими победами нашу родину и тебя с нею? Избранных людей в избранной стране! На церковном пороге пролил кровь невинную, а значит, кровь мучеников! Зачем? Молчишь! Да и что тебе ответить? Но знаешь ли ты, что придется тебе ответить? Ведь ты их замучил в своих застенках такими мучениями, о которых нигде не слыхано было до тебя! И не только их, но и детей их, и близких ты истребил, Иван. Ты – убийца!»
Курбский шагнул вперед, в струю рассвета, точно хотел пронзить того, кто стоял перед ним туманным столбом, из которого по–прежнему смотрели два черных страшных зрачка.
«Или ты думаешь, что безгрешен? – спросил Курбский эти по–птичьи роговые глаза. – Ты впал в ересь, и судия неподкупный, в которого я верю, спросит с тебя за все, хотя ты и молчишь сейчас. И за меня тоже».
Курбский помолчал, собираясь с мыслями. Обида подступила, человечья, горькая, он сглотнул.
«Или я не любил тебя, Иван? – спросил шепотом. – Вспомни Москву, Коломенское, Казань. Я тебя любил с юности, Иван. А ты!.. Что я тебе сделал? Не знаю за собой ничего. Наоборот, многие годы для тебя воевал на рубежах вдали от семьи, от молодой жены, сын родился без меня, отец без меня умер. Сколько ран получил, защищая тебя, – не перечесть. Под одной Казанью, когда подняли, – двенадцать ран, а две – тяжелые, весь в крови, кровь эта обличит тебя перед Богом, Иван, – не скроешься тогда никуда! Я, может, один тебя любил, а ты изгнал меня и все отнял. Помнишь село Воробьеве? Помнишь, что сказал мне в Москве, посылая сюда? Помнишь в детстве в спальне твоего отца, когда Шуйские взяли ножи? Помнишь, как трясся тогда, за мой рукав цеплялся? И я тебя жалел, я тебе клялся в верности и исполнил, как немногие, несмотря на твое коварство. Ты – хищник, Иван. Зачем ты Алексея Адашева, человека светлого, бессребреника, изгнал сюда и велел отравить, наверное? А святого Сильвестра? Ты разрушил сам нашу Избранную раду, все доброе и крепкое, что воскресило бы славу Руси, ты, как самоубийца, не будешь прощен!»
Курбский наклонил голову, голос его звучал измученно, глухо:
«Я буду обличать тебя на Страшном Суде и здесь тоже, я призываю на помощь против тебя Божию Матерь, всех святых и покровителя рода моего праведного князя Федора Ростиславича Смоленского» [92].
Курбский перекрестился, поклонился на восток, с которого все шире и шире вставало легчайшее сияние восхода; только в зените бледнели еще мелкие звезды, листья в саду стали видимы, четки, они отяжелели от росы; в розоватом тумане истаивали, пропадали два внимательных черных зрачка, и вслед им Курбский послал последнее и самое для них непереносимое:
«Знаю я из Священного Писания, что послан уже на нас дьяволом зачатый в прелюбодействе губитель – Антихрист. Не от него ли советник твой, тоже зачатый в прелюбодеянии? Не он ли шепчет в уши твои клевету и проливает кровь невинных? По делам он – Антихрист, а ты прижал его к своему сердцу… А ты сам кто? Подумай, не вошел ли в тебя он, имени которого не хочу повторять… Законом же и в храм таких не дотекают, Иван. Страшно мне, и тоска моя не знает исхода, и призываю я тебя на суд!»
Зрачки – две черные дыры в душу чужую – растаяли в рассвете, Андрей сел, уронил голову. «Но пусть и все государи, народы, потомки даже знают его вину!» – подумал он и выпрямился.
Когда ранним утром Васька Шибанов просунул голову в спальню, Курбский дописывал: «Писано в городе Вольмаре, владении государя моего короля Сигизмунда–Августа…»
Василию Шибанову было под сорок, и вид у него был мужицкий и суровый, но на ногу он был легок и в седле не знал усталости. Был он у Курбского стременным с детства. Когда он просунул голову в спальню князя, было уже светло и мысль Курбского от письма, только что написанного, перешла к мысли о том, кто доставит такое письмо Ивану Грозному. Никто.
– Василий, – сказал Курбский, – пойди сюда.
Он смотрел в простые и твердые глаза стременного, на его жилистую шею под раскрытой рубахой, на его всклокоченную со сна голову и не мог сказать того, что хотел: здесь, в Ливонии, не было с ним человека роднее. Но надо было себя пересилить, как и раньше, на войне, пересиливал, и он сказал:
– Василий! Эту грамоту отвезешь в Москву царю Ивану. Не испугаешься?
Курбскому стало стыдно: не надо было так спрашивать.
– Отвезу, – сказал Шибанов и сжал толстые губы. Глаза его посуровели.
– Надо, чтобы письмо это в руки царя попало. Переоденься мужиком, переедешь рубеж – езжай лесами, тропами, а в Москве тайно его подкинь царю в палаты, в Кремль, либо в другое место, где он будет, или еще что придумай… – Курбский говорил это, запинаясь, хмурясь. – Понял? А на обратном пути заезжай в Псково–Печорский монастырь, попроси у игумена денег взаймы для меня – триста – четыреста рублей, скажи, как получу после похода поместье, так и отдам с лихвой. Да пусть не боятся войны – я их монастырь Литве разорять не дам. Ну?
Шибанов молча кивнул.
– Иди соберись, в ночь выедешь, до рубежа тебя конные проводят, покажут, где переходить. Ну?
Шибанов переступил, вытер рот, поправил ворот рубахи.
– А можно мне, – спросил, смущаясь, – в Коломенское заехать? Там сестра моя, сирота, в услужении живет, дак я ей кой–чего оставлю…
– Смотри, не опознали бы тебя там! – сказал Курбский. – Сам знаешь, что тогда… – И он потупился.
– Князь! – ответил Шибанов хрипло. – Ты не думай чего… того самого… письмо твое довезу, доставлю, ты не думай так‑то…
Курбский быстро на него глянул:
– Царю письмо‑то, Васька. Самому. Понял?
– Понял, – понижая голос, сказал Шибанов и поклонился в пояс, пальцами тронул пол.
У Курбского перехватило горло, он шагнул, обнял жесткие неподатливые плечи, ткнулся губами в теплую голову, оттолкнул, сказал:
– Может, другого кого?
Но Шибанов повел плечом, боком вышел, крепко пристукнул дверью.
На дворе уже лежало солнце, голуби–сизари ворковали на желобе, за оградой заржал жеребец Радзивилла Черного, и наступил день.
6
День шел за днем – июнь, июль, август, – жаркий и пыльный, и грозы шли с юго–западным ветром, ночью озаряло черное окно, рокотало грозно в меднобрюхих тучах, выхватывало белым огнем смятенные ветви деревьев, но дождь не выпадал, и сухо, душно проходила ночь, чтобы уступить еще одному дню.
Сильное тело Андрея томилось в такие ночи и ждало дня, чтобы впитать росу, солнце, травяной выстоявшийся дух заливного луга. Он отъезжал часто из города то с соколами на реку, то вместе с разъездом к рубежу – тело просило боя, выхода сил и обиды, но от стычек его оберегали по приказу Радзивилла Черного, который не раз упрекал его в легкомыслии и нетерпении. Но сколько же терпеть? Дошел слух, что в Смоленске собирается войско для вторжения в Ливонию, чтобы выйти к морю, запереть немцев в Риге. Это могло статься: Полоцк, Орша и Юрьев – пограничный рубеж – были в руках царя Ивана, а страстную мечту его выйти к морским путям в Англию, Голландию, Францию Курбский давно знал. Приехал тайный лазутчик, Радзивилл заперся с ним, и Курбского не позвали. Он кусал губы, притворялся равнодушным, а потом взял пару слуг и ускакал в дальнее урочище, где была рыбацкая избушка, вернулся только поздно ночью. Мишка Шибанов, который теперь был его личным слугой вместо дяди, Василия, спал так крепко, что проснулся только тогда, когда Андрей нечаянно наступил ему на ногу – он спал на кошме у порога; сел, таращась на свечу, нащупывая зачем‑то нож под одеждой. Известно, молодой сон самый дурацкий.
Андрей усмехнулся:
– Подай умыться – слей в таз, а потом принеси романеи и поесть чего‑нибудь. Ну чего выпучился?
– Князь, а тя искали, искали! – сказал Мишка, заправляя рубаху в порты. – Шибко искали!
– Ну? Так искали, что спать не давали?
– Спать? Не, я поспал… Чего спать‑то? Искал сам гетман.
– Радзивилл?
– Он. А еще и другой приехал, ляшский, и с ним двенадцать тысяч шляхты. Вдоль все в серебре да перьях!
Мишка любил поговорить, Курбский, улыбаясь, его слушал.
– Гетман, говорят, самый главный у ляхов, как его… гетман Станислав Брехановский. Да!
– Стехановский [93], – поправил Курбский. Ему становилось все веселее. – Ну дай умыться. Поем и пойду, если не спят.
Он с аппетитом откусывал сыр с хлебом, запивая вином, когда вошел слуга от Радзивилла, поклонился низко, молча встал у притолоки.
– Говори! – прожевывая, сказал Курбский.
– Пан гетман просит, князь, прийти на совет, хоть ты и с дороги.
– Скажи, приду.
У Николая Радзивилла Черного – главнокомандующего и великого гетмана Литовского – сидели командиры полков, подканцлер Войнович и незнакомый Андрею белокурый загорелый шляхтич в мехах, парче и цепочках; разноцветно играли камни на эфесе его сабли, пытливо разглядывали Андрея васильковые жестковатые глаза. Эго был гетман королевского войска Станислав Стехановский, который привез последние распоряжения Сигизмунда–Августа и новости с Запада. Радзивилл Черный был в своей неизменной засаленной кожаной куртке, он кивнул Курбскому, сказал:
– Садись, князь. Из Смоленска доносят, что Петр Иванович Шуйский [94] готовит отряд идти на Ригу через Полоцк, где к нему присоединятся еще войска. С ним пять тысяч и легкие пушки на конной тяге, полк стрельцов с Захаром Плещеевым и конница с воеводами Иваном Охлябиным и князьями Палецкими [95]. Что в Ригу, мы не верим. Но нельзя им дать зайти в Ливонию глубоко – здесь мы не укрепились, как надо. – Радзивилл замолчал, его серые глаза пристально смотрели в окно, стальная челка отрезала смуглость нахмуренного лба. Все тоже молчали. – Можешь ты, – Радзивилл глянул в глаза Андрею, – опередить их и задержать? Мы дадим тебе пять тысяч шляхетской конницы, моей и Острожского, и на телегах две тысячи немцев – кнехтов и арбалетчиков. – Он помолчал. – Мы знаем, что ты давно рвешься в битву, но не это главное: главное, что ты хорошо знаешь эти места. Подумай, не торопись.
Андрей сдержал вспыхнувшее торжество.
– Я знаю эти места хорошо, – сказал он Радзивиллу. Он старался не смотреть на поляка Станислава Стехановского – он чувствовал щекой его недоверчивый взгляд, – Я воевал в тех местах. Но надо выступать немедленно: если они пройдут Богушевск, они могут выйти в тыл Витебску и тогда…
– Да, – сказал Радзивилл, – и Витебску, и Великим Лукам. Надо спешить. Давайте, панове, краткий ответ: к вечеру вы готовы будете выступить? – И он посмотрел на гетмана Стехановского и на литовских и польских ротмистров – командиров полков и хоругвей.
Военный совет начался всерьез. Он кончился под утро. Но Курбскому уже некогда было ложиться спать.
И вот все кончено – снято напряжение двух недель, которое не отпускало ни разу с того военного совета в Вольмаре и наконец провалилось под землю на этой лесной грязной дороге через смешанный елово–березовый лес. Все кончено – Петр Шуйский разбит наголову, его пятитысячная армия в панике рассеялась в лесах и болотах вдоль реки Уллы от Орши до самого Богушевска. Это случилось сегодня ночью, а сейчас раннее утро, и они едут с Иваном Келеметом, с которым соединились час назад: Келемет был с Засадным полком, с волынцами самого Радзивилла Черного, Келемет был в схватке, от него пахнет горячим мужским потом и болотом, его лошадь вся в грязи. Они едут по тылам главного полка, Сторожевого, в который входят вся шляхетская, ляшская конница и тысяча немцев. Немцы сейчас на дороге Орша – Полоцк, там же стрельцы. Это заслон надежный, и можно расслабиться, подчиняясь шагу коня, бездумью победы, и ехать не спеша, вдыхая болотистые испарения чернолесья, запах хвои, брусники, мокрых грибов на поваленных колодах. На дорогу вытаскивают из тумана трупы и раненых, слышны голоса, треск сучьев, чавкающие шаги, всхрапывание коней, чей‑то смех и очень далеко призывный звук трубы – где‑то продолжают отзывать пропавшие в погоне отряды. «Это чья хоругвь?» – кричит кто‑то, и кто‑то отвечает, кое–где уже горят костры – там перевязывают раны, варят кашу или просто ждут, когда все соберутся и поступит новый приказ. Но во всем этом лесном временном бивуаке, растянувшемся на две версты, чувствуется то облегченное, добродушное расслабление, которое охватывает людей, вышедших из боя. Курбскому знакомо это, он отдыхает.
У одного костра слышится русская речь, толпа в литовских доспехах окружила кого‑то, люди что‑то разглядывают, кто‑то свистит насмешливо, и все разражаются смехом, а потом смолкают – слушают чей‑то напуганный высокий голос, который не то умоляет, не то рассказывает нечто всем интересное. Это – русские пленные. Курбский и Келемет едут мимо. «Воевод Захара Плещеева и Ивана Охлябина на реке пленили. Князя Острожского люди. Видел их?» – спрашивает Келемет равнодушным голосом. «Видел», – отвечает Курбский таким же голосом. Но он не видел воевод вблизи – он издали следил, как их вели в лагерь Острожского, спешенных, простоволосых, грязных.
Они едут дальше, молча, на свет большого костра, который в утреннем тумане кажется матовым круглым фонарем, подъезжают ближе, но к костру нельзя проехать на коне – он на поляне за ельником, – и они спешиваются, бросают поводья коноводам и идут по мокрой кочковатой ложбине, отводя от лица ветки: им хочется размяться и погреться у огня. Но у костра никто не сидит – все стоят и смотрят вниз, много людей в разной одежде, и литвины, и ляхи, и немцы. А на земле лежат мертвые тела, одно, огромное, ближе к огню, и все его рассматривают. Это тучный пожилой человек. Его тело давно окоченело, желтовато–белое лицо, черные с проседью волосы и такая же борода запачканы землей, под приоткрытыми тусклыми глазами – фиолетовые отеки. И поблескивают зубы, точно в усмешке, а на щеке – засохшая кровавая царапина. Это главный воевода Петр Иванович Шуйский, убитый на реке Улле, а рядом двое князей Палецких; у одного проломлен череп и лицо залито кровью, как будто на него надели красную шелковую маску. Но Курбский узнал и его. Он знал всех троих, особенно Петра Шуйского, с которым вместе ходил на черемисов и на ливонцев, хотя и не дружил, но доверял – война всех побратала. Вот он лежит, не видя ничего и не слыша ни треска костра, ни речи человеческой, а как любил выпить и посмеяться после похода!
Какой‑то шляхтич в богатом кафтане и рысьей шапке протолкался, поглядел и пнул Шуйского сапогом в лицо: «Отвоевался, схизматик!» Тупо дернулась тяжелая голова, и Курбского окатило холодом, рука рванулась к эфесу… Он повернулся и пошел прочь, и Иван Келемет – за ним, они шагали молча, чавкала болотина под ногами; совсем рассвело, побелело, Курбский все видел каменное лицо Шуйского, его усмешку, березовый листочек, запутавшийся в седоватой бороде. «Чем ты руку‑то попортил?» – спрашивает он Келемета. «Руку? – Келемет поднимает правую руку, разглядывает: у ногтей запеклась кровь, и рукав тоже вымок, окровавлен. – Это не моя, – говорит он и косится исподлобья на Курбского. – Это я одного срубил, когда к реке выскочили…» Они опять идут молча, отстраняя еловые лапы, перешагивая через колодины. «Не сюда, князь, правее надо», – говорит Келемет, и они идут правее по пожухлым папоротникам и наконец выходят на лесную дорогу, где их ждут кони и люди. По дороге густо идет конница Станислава Стехановского, она возвращается после погони, которая длилась до полной темноты: конники много и громко говорят, некоторые шутят, иные, отдав все силы, дремлют, качаясь в седле, или, серолицые, бледные, едут, стиснув зубы от боли, белеют свежие повязки.
Это все знакомо Курбскому и привычно. Они смешиваются с конницей и едут на запад; лесной пар уже золотится солнцем. Первые дни теплого сентября, в елях посверкивают шишки. Курбский никак не может забыть окоченевшее лицо Петра Шуйского, его неуместную мстительную усмешку и зазубренный березовый листочек в черных с проседью волосах.