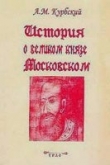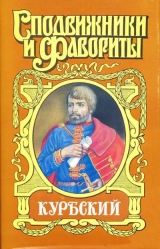
Текст книги "Андрей Курбский"
Автор книги: Николай Платонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Курбский опустил голову. Он сидел неподвижно, не зажигая света. Сгущались сумерки, тишина углублялась, заполняла дом, голову, тело, мысли тонули в ней, кружась, опускаясь в бездонность, чтобы навсегда в нее кануть. Он сидел, затаив дыхание, чтобы не спугнуть это сумеречное забытье, в которое, засыпая, отходила предзимняя земля; тонкий снег сеялся на лиственный перегной, меркли низкие облака за прочернью веток, семена дремали в теплоте чернозема, и он хотел бы забыться вместе с ними, не умирая, чтобы весной возродиться в новой душе и новом теле. Но это – не для него. Это – для чистых. Таких, как мученики–иноки Корнилий или Филипп Колычев. А он – сам по себе. Он – один. Стал один. Совсем.
Он продолжал сидеть, сложив руки на коленях, в темноте еле брезжило окно, точно вход в тишину. «Пусть тише бьется сердце: я устал, я хочу отойти от них, от всех, от себя самого, о Господи!»
Ему казалось, что он едет по зимней степи на восток, – стремя о стремя со Степкой Кулижским, по бурым травам, присыпанным сухим снежком, под куполом сонных серо–белых туч. На урезе далей дальних светит льдистая полоска, там таится надежда, ждет терпеливо их, беглецов, и он боялся вздохнуть, чтобы не спугнуть ее, доехать…
Так началась еще одна зима в жизни Андрея Курбского, который безвыездно сидел в своем имении и незаметно отстранялся от прежних забав, знакомств, разъездов, все чаще искал уединения и молчания. Оно становилось нужным, хотя и не было в нем ответов, но он учился не спрашивать. Так прошла и эта зима, мелькнула ранняя весна, которую он теперь почему‑то невзлюбил, и потянулось все медленнее, как зацветшая вода в протоке, жаркое зеленое лето.
Курбскому казалось, что дремотное бытие навсегда установилось в его имении, что он так и спрячется здесь ото всех и, может быть, все его забудут, если не шуметь. И друзья и враги. Потому что он не хочет и не может задавать страшные вопросы, на которые никто не ответит, и вообще не хочет думать глубже того слоя, под которым начинаются эти самые вопросы. Да, если затаиться, то и Бог забудет. Но Бог его не забыл.
– Эх, Петр! Я тебя люблю, сам знаешь, и вызвал тебя не для пустой беседы, почуял в письмах твоих беду какую‑то, а ты… Ты толкуешь обиняками о каких‑то угрозах неведомо от кош. А?
Вечерело, но жаркий воздух, неподвижный, душный, стоял и в комнате, и за окном среди истомленных трав. Было девятое августа, шестая неделя засухи.
– Я приехал, князь, тотчас, как ты позвал, – сказал Петр Вороновецкий, вскинул и опустил взгляд, и бледные щеки его начали медленно розоветь.
За полтора десятка лег Петр вроде и не постарел совсем, может быть, казалось так оттого, что в лице его было нечто женственное: узкий нос, вздрагивающие чутко ноздри, длинные ресницы. Это лицо не умело скрывать волнение, как, например, сейчас, когда он понял, что Курбский знает больше, чем сказал, но не спрашивает грубо и прямо, чтобы не обидеть.
– Да, ты приехал, а я позвал, чтобы дать тебе совет, помочь, но как я могу помочь, если ты утаиваешь главное?
Петр промолчал, опустив глаза.
– Скажи, а она… она истинно жена тебе?
– Жена, – тихо ответил Вороновецкий, и теперь все лицо его порозовело, а ресницы дрогнули.
Курбскому стало жаль его еще больше. Но нарывы надо вскрывать.
– А я слышал, что она, Настасья, жена Емельяна Патракилевича из Запоточья Кременецкого, у которого ты прошлый год на квартире стоял, когда на ярмарку за конями ездил.
Нахмурившись, он ждал ответа. Петр Вороновецкий первым из свободных дворян пришел к нему, когда он был еще без имения и без денег, отдался со своими людьми. Кроме пожалованных королем сел и деревень, Курбский подарил ему Трублю в Ковельской волости и местечко Порыдуб, где он и жил постоянно. Они переписывались – Петр любил философию древних и знал латынь. Они о многом имели одинаковое мнение. Петр часто бывал в Миляновичах. Но с прошлого года появлялся все реже, а письма его стали странны, тревожны. Тогда Курбский вызвал его к себе.
– Она моя жена, – повторил Петр и поднял взгляд.
Теперь он больше не опускал его, краска медленно сходила с лица, черты заострились, посуровели.
– Но я слышал, вы не венчаны церковью нашей?
– Да, муж ее взял отступного, но развода не дает. Во Владимире нас записали в ратуше. – Он стал чаще дышать, покусал губу. – Это мой сын от нее, она сама ушла от мужа. Я люблю ее, князь…
– Но это же не брак. Ты же знаешь, что сказал Господь: пожелавший жену уже в прелюбодеянии грешен. Как же ты мог, Петр, без благословения церковного… – Курбский осекся и перевел взгляд мимо, в окно, жар стал сжигать его щеки, щипало кончики ушей.
Петр сразу все понял, тоже отвел взгляд, и молчали они оба долго, но теперь Курбский не смел заговорить – его ломал стыд, и он начинал заглушать его гневом, а Вороновецкий смотрел в стену. Чтобы нарушить молчание, Петр сказал:
– Я приехал, князь, за защитой…
– От мужа ее? Отдай ее ему немедля!
– Не от мужа. Емельян Патракилевич получил тысячу злотых и табун и написал, что жены своей видеть не хочет и выплатил ей ее вено… Не от него. Меня пытались убить, а я не могу защититься…
– Кто? Почему не можешь?
– Потому, что человек этот – твой слуга, близкий тебе, как бы родной. Да и мне год назад тоже…
– Кто это?
– Иван Постник–Туровицкий.
Курбский дернулся встать и опустился обратно в кресло: ноги его ослабели, стучало в темени.
– За что?
– За нее же, – ответил Вороновецкий. – Вместе мы тогда жили на квартире в Запоточье, Туровицкий Иван хотел, чтобы она с ним уехала, а она бежала со мной…
Курбский с трудом встал, подошел к окну, отвернулся, чтобы Петр не видел его лица, сказал глухо:
– Постник–Туровицкий сейчас здесь, в Миляновичах. Ты знал это?
– Нет. Позови его, пусть скажет, что ему надо от меня. Пусть Настасья сама выберет… Нет! Она не уйдет от меня, у нас сын, я завещал ей все! Но позови, пусть: что Бог даст – не могу я… Его еще по Юрьеву помню, под Полоцком вместе были…
Курбский слушал и думал об этом, но и о другом одновременно, словно он был за некоей мутно–прозрачной стенкой, в иной стране, где нет никаких темных мучений, бессмысленных, неотвратимых, где все когда‑нибудь будут и это поймут. А потом он возвращался в духоту своей комнаты, слушал смятение и тоску в голосе Петра и не знал, что делать, – слова, именно его, Курбского, слова, ничего в таком деле не значили.
– Нет, – сказал он устало, – не буду пьяного да безумного звать на беседу. Темнеет. Соберись и уезжай в Туличово не мешкая. А Постника я задержу и возьму с него клятву, а надо будет – и запру его, пока не поостынет. Иди, Петр! Храни тебя Бог!
Он хотел добавить: «Порви с Настасьей хоть до венца», – но не посмел.
Когда Петр вышел, он велел позвать урядника имения Ивана Мошинского, а сам все стоял у окна и слушал вечер, жаркий, неподвижный. Темнело, жужжала муха в углу, тонко, противно, – видно, запуталась в паутине, процокали копыта по двору, за углом, скрипнули ворота; отсюда, из оружейной, где они сидели, не было видно, но по стуку копыт Курбский понял, что Петр выехал из имения и сейчас едет по тополевой аллее. «Уехал, слава те Господи!» Он поднял руку, чтобы перекреститься, и в этот миг ударил раскатисто выстрел. Тишина. Ожидание. А затем топот, крики, кто‑то пробежал мимо окна по саду. Он стоял и ждал. Шаги. Двери открылись. Иван Мошинский, без шапки, нахмуренный, горько поморщился, сказал:
– Только что на выезде из имения застрелен друг твой Петр Вороновецкий. Убийцу я схватил.
– Кто это? – спросил Курбский, зная ответ.
– Постник–Туровицкий.
Иван Постник–Туровицкий в ту же ночь, когда поспешно зарыли тело несчастного Вороновецкого, был приведен к князю в библиотеку–опочивальню. Его привел Мошинский, поставил и отошел к двери.
Свеча снизу высвечивала ожесточившееся лицо Туровицкого, в ямах глазных впадин тускло мерцали белки, губы были искусаны.
– Что же ты сделал, Иван? А? – тихо спросил Курбский. – Понимаешь, что сделал?
Туровицкий молчал, смотрел мимо.
– Это ж друг наш был… Нас же мало, всеми мы нелюбимы, и родины у нас нет, кроме друзей по вере. Что ж ты молчишь? Покайся, пота не поздно!
Туровицкий глянул равнодушно:
– Прикажи убить, князь: не в чем мне каяться.
Курбский долго смотрел снизу вверх в это ставшее вдруг незнакомым лицо, старался постичь его суть, стихию, муку и начал постигать, но остановился от страха, отвращения и жалости – Туровицкий был как бы мертв, хотя и говорил и смотрел.
– Смерти мне твоей не надо, а душу ты загубишь, если не покаешься. Сейчас ты безумен от похоти своей, все вы будто… Ну ладно! – Он обратился к Мошинскому: – Отведи его и стереги и пусти слух, что бежал он в Литву, если от королевского суда запрос будет. Ступайте, устал я от ваших злодейств!
Последнее вырвалось нечаянно, и ему стало неловко, что не сдержался. Кончалась глухая ночь, громыхало где‑то по краю ночному, мерцали дальние зарницы: с востока шла гроза. Нечем было дышать, в черноте жаркой давило чугунно, словно закрыли крышку огромного сундука и завалили ее сверху землей – преступлениями рода человеческого. «И моими тоже…» – вяло подумал Курбский. Он лежал на спине и не мог заснуть от навалившейся на грудь тяжести. «Когда лукавый все испробует, он дает жало в плоть…»
Через неделю, в субботу, урядник Миляновичей Иван Мошинский, как всегда спокойный, серьезный, вошел утром, постучавшись, в спальню и скупо доложил:
– Иосиф Тороканов бежал из Ковеля и имущество Вороновецкого, которое до суда ты, князь, велел ему охранять – золото и деньги, – с собой взял.
– Сволочь! – крикнул Курбский и сел в постели. – Вели объявить на него розыск как на беглого холопа!
– Уже послал во Владимирский повет и в Луцкий.
– Зачем бежал, сволочь! Ведь и так все имел!
Был ранний час прохладного утра, солнце сквозь туман просвечивало листву тополя, в сырой чаще высвистывала иволга горловой флейтой, а здесь опять словно тьма пыльная засорила свет в окнах.
А через две недели Иосифа Пятого Тороканова привезли в оковах в ковельский замок как беглого вора. Курбский созвал всех оставшихся друзей и слуг судить их бывшего товарища по побегу, а ныне «клеветника, изменника, иуду».
Такими словами Курбский начал суд.
Это был суд не по литовским или польским законам, это был домашний суд, как бы суд родичей. Свои судили своего. Они сидели в большом зале имения Миляновичи, горели четырехсвечники жарко, слепяще, ставни были закрыты, в духоте глухо падали слова обвинения, а потом наступило молчание. Здесь были все, кто остался: Кирилл Зубцовский, брат убитого Ивана Келемета – Михаил Келемет, Постник–Глинский, брат Постника–Туровицкого, убийцы Петра Вороновецкого, Петр Сербулат. Многих не стало, но Курбский сейчас вызвал их всех в памяти. Там, в осиннике, по пояс в болотном тумане, стояли они и смотрели ему в лицо. Светало, в городе за поймой пропели петухи. Вот они – молчаливый Беспалый – Мошинский, такой же верный тогда, как и сейчас, Иван Келемет, большеголовый, сутулый, Гаврила Кайсаров, с отрочества памятный, – прислушивается к шуму городскому недальнему, сидит неудобно на пеньке, а рядом испуганно моргает белыми ресницами Иосиф Тороканов – он и тогда казался ненадежным, так же как и бежавший вор–урядник Меркурий Невклюдов… Но все равно – они ушли за ним, к нему, столько лет служили… Петр, Петр! Он видел лицо Петра и там, в шатре под Вольмаром, – молодое, просящее, искреннее, и здесь, в полусвете фонаря, – бело–желтое, с мертвыми впадинами на висках, ссохшимися губами. Его положили на плаще в углу погоста за церковью, скрежетали–торопились лопаты: Мошинский и сам Иосиф Тороканов копали могилу. Воровски убили, воровски зарыли… Свои – своих… Зачем?
– Зачем ты обворовал меня, Иосиф? – спросил он тяжело, устало. – Разве не помогал я тебе столько лет? Разве притеснял?
Иосиф хлопал белыми ресницами, кривил слабый рот; он стоял потупясь, скособочив долговязую спину, и все глядели ему в лицо с гадливостью, которая убивала хуже ненависти.
– Можно я скажу, князь? – Кирилл Зубцовский, погрузневший, поседевший, но еще статный, могучий, встал со скамьи. – Вор он и перебежчик. А таким по законам и нашим и здешним – смерть.
Видно было, как мертвенно желтеет Тороканов, как ниже клонится его рыжая голова.
«Перебежчик»! Курбский тоже опустил взгляд, насупился. «Перебежчику – смерть!» Он поднял голову и посмотрел Зубцовскому в глаза.
– Своей княжеской волей я изгоняю Иосифа Пятого Тороканова из своей волости в течение суток и лишаю всего имущества. Для нас он пусть будет вне закона, если останется здесь!
Это было помилование, но никто не возразил. Может быть, каждый понял, почему потемнел князь. А Курбский все смотрел на них, как сквозь туман, как тогда, в осиннике под Дерптом.
4
Было второе сентября тысяча пятьсот восемьдесят первого года, серо–солнечный прохладный денек. Кочковатая низина еще зеленела осокой, но за низиной на темноте сплошного ельника особо ярко желтели редкие березки. Иногда с севера овевало лицо ветром, зябким, широким, с привкусом мокрой глины, хвои, соломенного дымка – совсем как дома, на Ярославщине. Ветер из детства. Но с ветром доносило и дальние громовые перекаты – голос осажденного Пскова [220]. И Курбский приподнялся в возке, сел, вытягивая шею. Он смотрел вперед, на грязную дорогу через несжатое поле, изрытое глубокими колеями, выбитое копытами, и ждал. Дорога вошла в ельник, перевалила через бугор, дали расступились, во всю ширь открылась речная пойма, а на другом берегу он, Псков. Курбский задержал дыхание.
В тучах проступило жидкое солнце, и сразу блеснул шлем Троицкого собора, окруженного могучими башнями, словно нос боевой ладьи, уплывающей со скального мыса в осеннее вечное небо, – псковский кремль. Оттуда, сверху, мелькнул огненный взблеск, повис шар дыма, и пошло мигать все ближе и ближе вдаль по уступам стен – ядра летели сюда, на этот берег, вслед за уходящим от огня кавалерийским отрядом. Видно было, как ядро выбило из рядов лошадь с седоком, как, не выдержав, отрад пошел наметом, свернул с берега за рощу. Город смолк.
Он высился, огромный, угрюмый, в венце приземистых башен и девятиверстных шестисаженных стен, подслеповато, но зорко смотрели бойницы, в осенней дымке поблескивали кресты десятков церквей, пестрые от вмурованных валунов стены отражались в спокойной реке, которая, сливаясь с другой рекой, надежно ограждала город от подкопов.
Курбский в четвертый раз подъезжал к Пскову. Только первые три раза – открыто и радостно к главным воротам кремля, а сейчас подкрадывался с тыла, со стороны Мирожского монастыря, в котором была ставка Стефана Батория. Медленно двигался возок князя по тылам огромного лагеря – почти пятьдесят тысяч привел король для осады. Возок, ныряя, перекашиваясь, тащился по грязи позади куреней венгерской пехоты, коновязей, погребов, выгребных ям и обугленных срубов. Курбский, держась за грядку возка, все всматривался, щурясь, за реку, в серо–черный с белизной церковных апсид город. Да, недаром немцы обходили его стороной, недаром, как рассказывали, Радзивилл Черный сказал Сигизмунду: «Все берите, ваше величество, но не берите Пскова». «Тридцать пять башен да предмостные укрепления, контрфорсы с фланговым огнем, реки, перегороженные решетками, ров – нет, не взять им Пскова!» – подумал Курбский и смутился, покосился на кучера Емельяна, словно старый кучер мог читать мысли. Но Емельян мыслей читать не умел, да и не стал бы этим заниматься, а вот что он сам думал, было ясно написано на его красной роже: «Попробуйте суньтесь, чертовы ляхи!»
Они выехали из‑за кустов к Мирожскому монастырю и увидели на том берегу высоченную угловую Покровскую башню, а за ней выступ огромной, как собор, Свинорской. «Нет, не взять!» – опять подумал Курбский, зорко, внимательно испытывая зрачками каждый камень кладки. Он все щурился, вдыхая знакомые запахи взрытой земли, селитры, лошадиного пота и гороховой похлебки. Скрипели оси, чавкала грязь, на луговине у монастырского амбара летела глина из‑под лопат – что‑то копали. Четырежды взблеснуло по венцу Покровской башни в ту сторону, и четырехкратный взвой ядер оборвался тупыми ударами. Копать перестали. «Погреба для пороха либо траншею роют, – подумал Курбский. – А у псковичей, знать, припасов хватает, раз для такой малости не жалеют!»
Он откинулся назад на сено, чтобы никто не видел его лица. Теперь над ним было только небо, слабый ветер сдвигал серо–белые тучи, пятно солнца то скрывалось, то проступало и мягко светило в прижмуренные глаза. Эти тучи, это осеннее небо не знали ни Курбского, ни Замойского, ничего, что делали тысячи ожесточенных и огрубевших людей в городе и вокруг города. «Зачем все это мы делаем?» – подумал Курбский и рассердился на себя.
Курбский был болен. Он вообще не приехал бы, если бы не грозное и с издевкой письмо гетмана Замойского. И если бы не то обстоятельство, что Стефан Баторий, как было известно, сделал на взятие Пскова последнюю ставку в этой многолетней Ливонской войне: он хотел одним ударом отвоевать все, потому что Псков был ключом к Ливонии, ничем не заменимым для Руси щитом. И еще Курбский приехал просто потому, что ничего, кроме воинского дела, не знал: во время войны место его с юности всегда было в воинском стане. Он и так опоздал к началу правильной осады почти на месяц – не умышленно, а из‑за хвори, он не мог сидеть в седле, и его везли в повозке. Но за месяц огромное войско Батория так ничего и не смогло сделать, хотя ядро его составляли опытные наемники – венгры и немцы, которые прокопали траншеи до самого рва с юга, – и со всех ближних ливонских крепостей была привезена артиллерия, в том числе и тяжелые осадные пушки. В августе, появившись под стенами Пскова, Баторий взглядом опытного полководца сразу определил, что город быстро не взять. Но и отступать было поздно. Надежда на то, что псковичи, обиженные Иваном Московским, откроют ворота, рухнула сразу: осажденные на переговоры не шли и защищались с упорством, которое говорило Баторию о том, что они приняли решение умереть. Он знал, как это бывает. В осаде сидели смелые и честные воеводы – Иван Петрович Шуйский [221] и Василий Скопин [222]. Сколько родни у Шуйского Иван Грозный послал на смерть безвинно, пятьсот семей псковских в тысяча пятьсот семьдесят девятом году выслал под Тверь, а из них более двухсот с женами и детьми порубили там опричники… Но город стоял, и не было перебежчиков, и каждое раннее утро звонили в десятках церквей за стенами – призывали к молитве всех, как обычно.
Об этом думал король Баторий, об этом думал угрюмо и Курбский, подъезжая к роще, где были землянки его полка, который привел сюда в августе вместо него Кирилл Зубцовский. «Иван не только лучших мужей псковских побил, но и посадских, простых людей, а главное – духовенство почему‑то истреблял здесь кровожадно: печорскому игумену отрубил голову, здесь все храмы ободрал, снял даже колокола и, если б не Никола–юродивый, который его напугал, когда пал конь царский, быть бы и Пскову пусту, как и Новгороду, – думал Курбский, глядя за реку, на бурые громады башен и выщербленные ядрами стены. – Так почему же псковичи так упорны? Что это – глупость? Или святость? Или что?» Он догадывался смутно, что дело не в присяге Ивану Московскому. Но в чем? Они ехали сейчас мимо валуна, около которого сложены были свежие трупы, и Курбский задержал дыхание от их запаха, а глянув на чью‑то голую, развороченную до ребер грудь, отвернулся. Где образ Божий в этих людях, которые так терзают друг друга? И за что? Зачем? Чтобы торговать беспошлинно с английскими купцами? Или чтобы написать в летописях гордые слова о штурме и добыче, а впереди поставить свое имя? И что скажет Христу вот этот, у которого двое сирот–младенцев и жена на сносях, а грудь разворочена железом…
Никогда прежде такие мысли не вступали в голову, от них хотелось укрыться, уйти куда‑нибудь в лесную глушь – стыдно воеводе так думать, нелепо!
Стефан Баторий сидел в трапезной Мирожского монастыря, превращенной в пиршественную залу, с папским легатом Антонием Поссевино, который был послан посредником меж ним и князем московитов Иоанном. Здесь же был хронист и духовник короля – ксендз Пиотровский [223]. Они только что кончили говорить о мерах, предупреждающих столкновения между солдатами – католиками и протестантами, когда вошел гетман Ян Замойский. Он приехал с того берега, где осматривал батареи, поставленные против участка стены от Покровской до Свинорской башни: там намечалось сделать пролом для решительного штурма. Но заговорил он о другом:
– Донес Христофор Радзивилл, что князь Иван в Старице и что людей с ним немного: Христофор и Гарабурда зажгли деревню в десяти верстах и взяли там в плен конный разъезд Ивана.
– Что ты велел передать им?
– Чтобы они не потеряли голову, я послал к ним Стехановского с сотней гайдуков и с приказом не идти дальше.
– Почему?
– Христофор хочет захватить в плен князя Ивана. – Баторий быстро глянул на тяжелое лицо канцлера, но глазки–ледышки не встретили его взгляда, уклонились. – А я думаю, что князь Иван не рискнет сидеть так близко от наших авангардов, если у него нет достаточно войска. Он может разбить их и тогда послать помощь сюда, Пскову.
Баторий подумал.
– Ты прав, – сказал он. – Пусть лишь отвлекают, пусть идут на Ржев и следят за Старицей. Мы не можем рисковать.
– Кстати, – сказал Замойский. – Приехал наконец‑то старый друг Ивана князь Курбский. Он не спешит!
– Ходкевич писал мне как‑то, что Курбский болен.
– Но тем не менее он все же смог приехать. Куда его поставить?
– А где стоит его полк?
– Против Покровской башни, где венгры Гавриила Бекеша, но в резерве.
Баторий еще раз взглянул на Замойского – они хорошо понимали друг друга.
– Он приехал оправдаться за Дерпт и не уклонится: поставь его полк сразу же за венграми накануне штурма.
Замойский кивнул: король понял его правильно.
– Делай, как должно делать. – Стефан встал, и все встали. – Я пойду отдохну и вам советую, особенно тебе, Ян.
Они поклонились молча. Папский легат Антоний Поссевино спросил Замойского:
– Это тот князь Курбский, которого так охранял покойный Радзивилл Николай Черный?
– Да.
– Странная дружба… – задумчиво сказал легат.
– Курбский женился на родне Радзивилла – Марии, княжне Гольшанской, – сказал ксендз Пиотровский. – Говорят, его спас от ливонского плена один монах по имени Никола Феллини.
Папский легат посмотрел на Пиотровского, о чем‑то размышляя. А канцлер, угнув массивную голову, словно спал сидя, сцепив пальцы рук на скатерти.
– Всякий, кто служит вольно или невольно нашей матери–церкви… – сказал Антоний Поссевино и оборвал. Теперь он смотрел на Замойского, но тот словно окаменел, даже дыхания не было слышно. – Доброй ночи вам, пан канцлер, – легат поклонился.
Маленькие глазки трезво и ясно глянули из‑под надбровий, канцлер приподнял грузное тело, наклонил голову. Когда он остался один, его угрюмое Лицо расслабилось и плечи тоже. Он откинулся на спинку резного кресла и закрыл глаза: теперь он по–настоящему впадал в усталую дремоту, которую сейчас мог себе позволить хоть на краткое время.
Курбский, вылез из повозки за воротами монастыря: он не хотел, чтобы его видели больным, но не мог приехать верхом, как все. У крыльца дома, где расположился гетман и канцлер Ян Замойский, стояли гайдуки в панцирях, оруженосцы держали оседланных коней, в стороне на груде бревен сидели два монаха. Курбский шел через двор, уставив глаза в одну точку на ступеньке крыльца, изо всех сил стараясь идти прямо, но чувствуя, что его невольно сносит куда‑то немного вбок. Он остановился, не доходя до крыльца, отер лоб и оглянулся: лучше бы он взял под руку Кирилла Зубцовского, пришел бы с ним вместе, и все. Хотя Кирилл должен быть при полку. Когда земля перестала уходить из‑под ног, он пошел дальше. Он не знал, что в узкое окно на него смотрит гетман Замойский, и хорошо, что не знал. В прихожей тоже стояла стража. Он назвался, и его пропустили. Замойский не предложил ему сесть. Он смотрел недовольно, набычившись, вертел в руке перо.
– Доброго здоровья, ясновельможный пан гетман, – сказал Курбский и поклонился.
– Как осмелился ты, князь, явиться сюда в нетрезвом виде? – спросил Замойский. – Я видел, как ты шел через двор.
Курбский тяжело, удушливо краснел, он не знал, что сказать, от унижения и беспомощной ярости.
– Вот уже год, как я не взял в рот ни капли вина, – выговорил он наконец.
Замойский смотрел на него пристально, он что‑то обдумывал.
– Твой полк будет под началом пана Александра Полубенского, с которым вы брали Изборск, – сказал гетман. – Ты поставишь его против стены и угловой Покровской башни, там, где крепость подходит к реке. Слева от тебя будут в траншеях венгры Гавриила Бекеша, сзади – регимент Полубенского. Ты будешь прикрывать батарею пятидесятипятифунтовую и ждать приказа идти на штурм сразу за венграми, а может быть, и перед ними. Когда идти, будет особый приказ. Понял?
– Да.
– Я сам буду следить за тобой, князь Курбский!
Замойский смотрел бесстрастно, рот его жестко сомкнулся, он протянул лист – письменный приказ. Курбский хотел взять, но лист скользнул из пальцев, он наклонился поднять – пол ринулся ему в глаза. Он упал на колени, опираясь на одну руку, старался встать изо всех сил, напрягаясь, – встать, чтобы не унижаться, он пытался поднять лист с пола, но промахивался – в комнате были сумерки, и они то сгущались, то рассеивались. Кто‑то сильный, грубый поднял его сзади под мышки, подставил кресло. Он сидел, силясь рассмотреть как бы сквозь мелькающую в глазах копоть лицо гетмана.
– Если ты так болен, то я отправлю тебя наместником в Дерпт, который ты прозевал в прошлом году. А если ты пьян, то тебя будет судить королевский суд, будь ты хоть трижды князем! – сказал Замойский, но Курбский услышал только одно: «в Дерпт» – и язык окаменел у него во рту: он увидел кровать в комнате с окном в сад, отбитую штукатурку на стене, грузные шаги по деревянной лестнице за дверью, где кого‑то волокли, вскрик – смесь боли, негодования, страха…
– Нет! – сказал он чужим, страшным голосом. – Нет, только не Дерпт! Я здоров. Это с дороги, я пойду, я хочу быть здесь, гетман, здесь, а не там, я сейчас встану, вот, смотри…
Опираясь о подлокотники, он приподнялся, но в глазах совсем потемнело, и он сел снова.
– На, выпей! – Замойский поднес к его рту кружку с водой.
Он выпил, закрыл глаза. «Только не Дерпт, Господи, молю тебя – только не Дерпт!»
Замойский позвал слуг.
– Отвезите князя в его дом, – сказал он. – Князь болен. Я пришлю к нему своего врача.
За Мирожским монастырем в полусгоревшей деревеньке на берегу реки, недалеко от переправы, Курбского положили в избе с разломанной печью и земляным полом. Слуги застелили избу хвоей, покрыли топчан шкурами и соорудили очаг – по–черному. Он лежал во власти своего бессилия. Даже приход королевского врача–итальянца не вывел Курбского из оцепенения. Врач терпеливо расспрашивал его, пугая латинские слова с польскими и немецкими, приготовил какой‑то горький настой, не велел вставать, резко садиться, ходить, пить вино и вступать в споры, – словом, повторил почти все то, что сказал врач–голландец Григория Ходкевича год назад. Он пустил Курбскому кровь – полтазика натекло, растер ему грудь душистым спиртом и, отказавшись от денег, уехал. Курбский не почувствовал благодарности: это была лишь еще одна проверка Замойского, и все. Он задремал, но проснулся сразу, когда услышал снаружи у крыльца голос Кирилла Зубцовского. Кирилл приехал из‑под осажденного города, он был в кольчуге, шлеме и высоких немецких сапогах–ботфортах. Он загорел, стал еще шире в плечах, уверенней в походке – война и власть шли ему на пользу. Курбский спросил, как дела с приступом.
– Нас меж мадьяр и пехотой Полубенского втиснули, – рассказывал Кирилл, – прямо против Свинорской башни, куда подкоп ведут. Думаю я, тут и пролом будут делать… Что‑то ему не нравилось, и Курбский спросил что.
– Не пойму я, почему поставили нас под начало Полубенского? – сказал Кирилл сердито. – Он и чином, и годами будет ниже тебя, князь. Не верят, что ли?
– Может, и не верят… Где твоя ночевка? Обоз, припасы, порох?
– А мы все стоим в Алексеевском монастыре – с полверсты от города за полем, иногда и ядра достают. Оттуда и все траншеи идут, на колокольню сам король не раз влезал, смотрел на город.
– Я хочу туда.
– Туда тебе, князь, нельзя – теснотища, живем и по подвалам, и в шатрах, коней нечем кормить…
– Завтра пришли кого‑нибудь меня перевезти. Понял?
– Понял. – Кирилл нахмурился, помедлил. – Но как же ты, князь, думаешь войском управлять, когда… – Он смутился, не договорил.
– Не смогу, так ты поведешь. На штурм. А быть мне там надо все равно.
Ночь на восьмое сентября была холодная, с травяных низин слоились туманы; когда розовато–мглисто забрезжило с востока и матово замерцала роса на осоке, первый удар прокатился по пойме, слился с другим, и чистый рассвет дрогнул в реве и грохоте, а со свода церкви посыпалась штукатурка, дрожание земли отдавалось в стиснутых зубах, и все поняли – началось! Под стены по траншеям поползли шлемы венгерской пехоты, восход просвечивал частые клубы дыма, слева, от Мирожского монастыря, длинным громом ударили тяжелые пушки, в стене возле башни сразу обвалились два зубца, и вниз поползла, расширяясь, трещина, словно раскололи кринку.
Прибыл король Стефан, рядом с ним повсюду следовала медлительная фигура гетмана Замойского и не отставал папский легат Антоний Поссевино, тоже в латах и шлеме с перьями.
Заложило уши, отдавалось в темени, шли часы, а канонада не стихала, она, казалось, наполнила все тело, и от нее подымалась тошнота. Но вот широкий ликующий крик многих тысяч людей прокатился волнами и заглушил все: сначала на Свинорской, а потом на Покровской башне распустились в дыму королевские штандарты. Весь резерв высыпал из укрытий: венгры и литовцы ворвались в город, а значит, дело решено!
Слышно было, как зовет–плачет набат в городе, который возвышался, закопченный, угрюмо–бесстрашный, несмотря ни на что, и ждал последнего часа, не прося пощады.
Курбский глядел на него со смотровой площадки Алексеевскою монастыря. Он смотрел пристально, неотрывно, с тоской и восхищением, он словно цепенел, раздваивался, вбирая, вдыхая и город, и луг, и весь этот пестрый сентябрьский мир, незаметно ускользая за грань в иную страну, такую же, но и не такую, то узнавая ее с изумлением, то, когда бегучие тени гасили блики щитов и шлемов, теряя, возвращаясь на землю. Плечи расслабились, зрачки расширились, нечто подступало и отступало с дыханием неба, земли, облаков, Курбский забывал, что он – это он, и не знал, где он и что с ним. День там, в инобытии, был такой же ветреный, зыбкий, дым сносило навстречу чистому холодноватому солнцу, и тогда обдувало лицо грустью заброшенной пашни, увяданием, льдистым привкусом заморозка на поваленной ржавой осоке; глаза искали–ждали чего‑то в облаках, в белых искрах, а потом точно оборвалась шелковинка, и он стал совсем отделяться от своего тела, подыматься все выше к голубоватому просвету–оку в серой мешковине, и шум боя начал глохнуть бессильно, почти исчез. Потому что все – и человека, и землю – охватило глубинное предчувствие великого открытия. Оно вливалось, как родниковая чистота, как ощущение свежей юности, и тоща Курбский прикрывал глаза, слабо, неуверенно улыбаясь. Он не чувствовал, что сидит на деревянном табурете, привалясь спиной к кирпичной кладке, он слышал чужеземную речь, но не понимал ее. Кто‑то неподалеку говорил скрипуче, недовольно: «Немедля пошлите полк Вейнера на поддержку венгров!» – а слышалось: «шеше–паше–гере–мере», – но очень скрипуче, знакомо, отвратительно близко, и Курбский умолял избавить его, совсем отделить, поднять еще выше и с радостью ощущал, что уже не слышит этого голоса и вообще ни рева, ни гула, как тогда, когда душа его парила над распростертым телом на ископыченной луговине у берега Казанки.