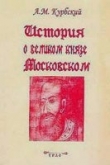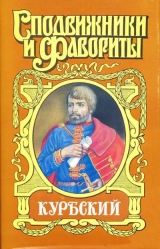
Текст книги "Андрей Курбский"
Автор книги: Николай Платонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
– Я пойду, – сказал он глухо. – Пора ложиться, Константин. Негоже нам ссориться, пусть цари и короли спорят о городах и землях. – Он прервался, вздохнул. – Я думаю, что разрушать гораздо легче, чем строить.
Острожский встал, неуверенно улыбаясь, прикоснулся рукой к груди Курбского.
– Спаси тебя Господь, Андрей! И утром и вечером я прошу его послать мир тебе. Прости мне, если я что не так сказал.
– И ты мне прости. – Курбский сделал шаг к двери, приостановился. – Гложет меня что‑то, гложет, Константин! Иной раз забудешь, а потом опять!
И, резко повернувшись, он вышел. Ему было стыдно за это вырвавшееся «гложет»: если б не пил – не вырвалось бы. Он не пошел в спальню к Марии, а лег в библиотеке на пол на медвежью шкуру, подтянул коленки и – заснул.
…Он шел по каким‑то бесконечным коридорам и переходам, которые казались знакомыми, мимо закрытых дверей, спускался и поднимался по лестницам и слышал вблизи голоса и шарканье ног, но людей не видел, и это было неприятно, а потом пошел по осенней траве, по лужайке перед домом – дом этот он тоже когда‑то где‑то видел – и узнал мать, которая стояла и смотрела в его сторону, но его не узнавала. На ней было надето что‑то простое, домашнее и темное, как в пост, против света пушилась на висках седина, а лицо было озабоченное, ищущее, и он хотел подойти, но увидел деревянный мост в их селе Курбе, мелкую рябь над галечным дном, осклизлые черно–зеленые сваи и застывшую стайку полупрозрачных пескарей, которые стояли в полосе солнечного света головами против течения, слегка пошевеливая хвостиками. Он шел к ним, засучив до колен штаны, ощупывая камушки на дне босыми пятками, прикусив от азарта губу. В руке он держал тяжелое решето, с которого капала вода, – он ловил решетом пескарей. Стрекоза низко пересекла речку перед ним, и он очнулся.
Ноги и спина замерзли, в комнате брезжил рассвет, еще миг–другой держалось в нем ощущение детства, а затем он вспомнил, где он и кто он, почувствовал мерзкий привкус во рту и все свое затекшее большое тело. Он вспомнил, что нужно вставать, собирать вещи и оружие и спешно выезжать в Ковель и дальше – на войну, может быть неизвестно с кем и где. Он вспомнил, что вчера они пили с Острожским и что он сказал ему напоследок.
Мария простилась с ним в спальне; она плохо спала, под глазами были тени, губы пересохли. Она странно смотрела ему в глаза, не слушая, что он говорит. «Поцелуй меня сюда. И вот сюда, – сказала она, обнимая его и надевая ему что‑то на шею. – Это амулет, защита от сглаза, не снимай его. Обещаешь?» Он заправил за ворот шелковую ладанку и вышел.
До самого Ковеля – двадцать верст – он думал о ней, покачиваясь в седле и рассеянно отвечая на вопросы Острожского. В Ковеле перед городскими воротами в клубах навозной пыли мелькали палки и кулаки – кто‑то дрался, а какие‑то верхоконные в броне и с копьями стояли у обочины, бились об заклад и зубоскалили. «Геть!» – крикнул Курбский и пустил коня на дерущихся. Мишка Шибанов и другие поскакали за ним, пьяные обозники разбегались, да и зубоскалы на конях тоже, из ворот на подмогу бежали стражники, узнавшие князя.
Начиналась походная жизнь, которую он всегда любил, потому что привык к ней. В канаве лежала перевернутая набок телега, посреди мостовой сидел лохматый мужик с разбитой рожей. «Возьмите его, – сказал Курбский страже, – и когда проспится, узнайте, кто здесь дрался и с кем».
До поздней ночи он принимал людей – своих старшин и урядников, а также шляхту из конного ополчения, городских торговцев и ратманов: на другой день надо было выступать.
Когда Курбский вошел и увидел верховного гетмана Григория Ходкевича, ему сразу стало просто и весело: грубой, но незлой силой, воинским великодушным бесстрашием веяло от этого могучего старика, от его загорелого морщинистого лица под шапкой седых кудрей, от зорких глаз и длинного носа, который всегда точно принюхивался, вопрошая: «А ты с чем пожаловал, пан любезный?» За столом сидело человек двадцать, почти все знакомые – волынские и литовские дворяне православной веры, но также несколько незнакомых шляхтичей в польском платье. Это было тайное собрание в доме Ходкевича в Нижнем замке Вильно, на котором надо было решать, что делать их партии и на сейме, и на рубежах с Ливонией и Русью.
– А, Курбский! Садись здесь, князь, будь как дома, – громко сказал Ходкевич и погладил усы. – Я слышал, ты женился на той панне, с которой я танцевал полонез?
– Да, женился.
– С чем мы тебя сейчас и поздравим. Во здравие князя Курбского! – И Ходкевич поднял чару, а за ним и гости.
Гетман утер усы, откашлялся и встал. Его смуглое лицо стало властным.
– Ясновельможные паны! – сказал он своим громким хриплым голосом, и шум стих. – Мы собрались здесь, чтобы решить, что делать: князь Иван вторгся в Лифляндию [162], у него восемьдесят тысяч, он рвется к Ревелю и Риге и угрожает нашим границам тоже, а мы разобщены, потому что не выбрали короля. Что же делать, панове? Воевать мы сейчас не можем.
Никто не ответил, только подканцлер Войнович, лохматый, кряжистый, недовольно покачал головой:
– Намерения князя Ивана неясны до конца, но ливонское посольство просит помощи, а шведы предлагают союз. Надо нам пока послать к Ивану посольство.
– А с чем посылать? – спросил высокий черноволосый поляк, синеглазый и широкоплечий. Курбский его не знал.
– А с тем, что, мол, наша рада и ваша рада просят князя Ивана прислать к нам сына своего Федора, чтобы мы избрали его королем на сейме.
– Как?! – вскрикнул Курбский, и все на него покосились.
– Да! – подтвердил Ходкевич и тряхнул седыми кудрями. – Просить, – он поднял палец и прищурил правый глаз, – сына его, царевича Федора, нами править! А городов, – он прищурил левый глаз, – которых он просит, не давать: ведь его же сын будет владеть ими! – И старый гетман широко открыл оба глаза и рассмеялся, обнажив желтые зубы.
Курбский ничего не понимал: как мог Григорий Ходкевич, самый ярый враг «русской партии», которая хотела пригласить Ивана на трон, предлагать такое! Но Ходкевич все ухмылялся с торжеством, как ни в чем не бывало.
– Этого нельзя делать! – сказал Курбский. – Нельзя!
– Почему? – спросил синеглазый черноволосый поляк. – Мы хотели пригласить самого князя Ивана Васильевича, но он колеблется. Если сейм изберет его сына, русские оставят в покое наши земли, а с другими врагами мы справимся!
– Этого делать нельзя! – повторил Курбский ожесточенно. – Безумие надеяться на обещания Ивана Московского – он обманывал всегда и всех, для него нет священной клятвы, он, он… – Курбский задыхался.
– Князь Курбский обижен и изгнан, поэтому его слова – это слова, сказанные в гневе. – Синеглазый поляк усмехнулся, он не опускал взгляда перед бешеными глазами Курбского.
– Пан Воропай! – перебил Ходкевич и пристукнул смуглым кулаком по скатерти. – Ты не знаешь князя – он доказал нам свою верность.
– Да, – подтвердил подканцлер Войнович. – Он доказал нам это еще под Оршей, когда разбил Петра Шуйского и когда не пустил Пронского на Полоцк. А в Изборске он сам был ранен, но захватил все пушки в городе. – Голос подканцлера перечислял заслуги Курбского не спеша, с тайным подвохом, лицо Курбского наливалось кровью, она толкалась в темя. – Не щадил и своих соплеменников, одной веры с ним…
– А одного своей рукой в Изборске зарубил! – вмешался новый голос, и, щурясь от света свечей, Курбский узнал на другом конце стола Александра Полубенского.
Он вспомнил желто–белое крестьянское лицо и окровавленную бороду того стрельца, которого зарубил в Изборске. Тогда ему казалось, что он зарубил самого Василия Шибанова. Он забыл обиду на Воропая, щурился болезненно – свечи слепили его: он ничего не понимал.
– Скажи, князь, – повторил Воропай, – почему мы не можем верить князю Ивану Васильевичу? Почему?
Курбский старался сосредоточиться, вернуть себя оттуда, из Изборска.
– Потому, что Бог лишил его разума, – тихо ответил он, удивляясь, как это до сих пор может быть непонятно кому‑то.
– Верно, – сказал Константин Острожский. – Иначе он не стал бы изводить по очереди всех, кто ему служил.
– Сейчас вот дошло и до опричнины: Алексей Басманов, Черкасский, Вяземский – все казнены, – подтвердил Ходкевич.
– А послы ливонские сказали мне вчера, – Войнович повернулся к Курбскому всем телом, его прищуренные глаза налились злым торжеством, – что при штурме Пайды погиб его главный палач Малюта Скуратов–Бельский.
– Слава Богу! «Мне отмщение, и аз воздам»! – сказал Острожский, а у Курбского оживились глаза и приоткрылся рот.
– Да, но жаль, что не попал он в мои руки, ах как жаль! – И он жутковато усмехнулся.
– Князь, – спросил его опять синеглазый красавец, пан Воропай, – ты сам русский, скажи нам, откуда у вас опричнина?
– От сатаны! – тихо ответил Курбский.
Зрачки его расширились, и все замолчали и потупились. Старый гетман первый нарушил странное оцепенение:
– Панове! Князя Ивана Бог лишил разума. В князя Ивана вселился сатана. Неужели вы, панове, думаете, что можно честно вести разговор с таким человеком? Нет! Поэтому сына его Федора мы будем звать только для одного – нам надо оттянуть время, чтобы избрать достойного короля и укрепить границы. Так! И это время нам даст князь Иван, пока будет торговаться о венце для сына: втайне он боится и старшему, и младшему давать власть. Не так ли, князь Андрей?
– Так, – сказал Курбский и вздохнул облегченно: он понял хитрость старого рубаки. – Так! Кто же поедет послом?
– Пан Воропай с грамотами от Речи Посполитой и с благословением Божиим!
Еще поговорили и стали пить, есть, смеяться – решение было принято: тянуть время и обманывать.
– Но ливонцам помогать мы не сможем, конечно, – сказал подканцлер Войнович. – Ни им, ни шведам.
– Все в свое время, – ответил Ходкевич. – Пейте, Панове, отбросим на час все заботы!
Курбский много пил, но опьянение дало себя знать, когда он раздевался на ночь в доме Острожского. Константин зашел узнать, как он устроился.
– В ливонском посольстве есть один беглец из Пскова, я с ним говорил, – сказал он. – Это новгородец, переживший разорение города. Так вот через год, рассказывает он, в одной новгородской церкви, Параскевы Пятницы, зазвонили после обедни, и вдруг заголосили бабы, шарахнулись все, всполошились, с воплями стали разбегаться, давя друг друга. Через год! Так напугал их некогда страшный набат в городе. – Он помолчал, потер лоб. – Войнович говорит, что в древней летописи есть такой же случай из времен Батыева нашествия…
– А чем наше время лучше? – спросил Курбский и закрыл глаза.
Плавало перед глазами темное пятно – кровавый сгусток, мелькали, толкаясь, свечи, шитье, перстни, хрусталь и зрачки, зрачки, двойные, зыбкие, безжалостные, насмешливые – всякие, и слова, скрипучие, хриплые, тяжелые, лживые, правдивые, неуверенные или хвастливые – полуслова–полумысли–полуощушения, а подо всем этим колесом рос, пробивался какой‑то страшный вопрос, и не хотелось, чтобы он, раздвигая землю, вырос воочию, зазвучал неумолимо. Хотелось от него, от головной боли и стука в темени зарыться, закрыться, бежать. Бежать из себя, из крепости, бежать к Марии, лечь возле нее и засыпать покойно, устало и доверчиво, как засыпал он в их спальне под утро, улыбаясь, чувствуя, что перелился в нее, а она в него до конца.
…Не открывая глаз, он нащупал кружку в изголовье и отпил клюквенного квасу, пролил холодные капли на грудь, вытер ладонью, сдвинул шнур ладанки и цепочку с крестом. У нее всегда были прохладные белоснежные простыни, и в спальне полутемной всегда стоял тончайший запах каких‑то лесных цветов. Тончайший и опасный, но не для него опасный, он мог глубоко вдыхать этот аромат ее тела – русалки или нимфы, – она спала на его плече, а он засыпал, улыбаясь и ни о чем не думая.
Ему так нестерпимо захотелось быть с нею, что он застонал сквозь стиснутые зубы и открыл глаза. Острожский давно ушел, ночной чужой дом был нем, темен и непонятен, вся жизнь была непонятной, но ему не хотелось ничего понимать: зачем пытаться постигнуть непостижимое?
Сливы отцвели и вишни, трава поднялась до щиколоток, пыльно было в переулке, пыль оседала на сапоги. Он пришел от Воропая злой и беспокойный, вымыл лицо, поел и вышел в сад за домом. Воропай отказал ему любезно, но твердо: «Для таких дел у меня есть свой человек, а вашего слугу я не могу взять». Не помогла и просьба под–канцлера Войновича: в состав посольства не включили Олафа Расмусена – бывшего слугу графа Арца, который некогда хотел сдать Гельмет Курбскому и был за это колесован в Стокгольме. «Я пошлю тебя с посольством в Москву, – сказал вчера Курбский Олафу, – и ты попытаешься разузнать о судьбе моих родичей, – может быть, кто‑нибудь остался жив? А если нет, узнай, кто их взял, и попробуй отомстить…» Бесстрастно–сонное длинное лицо Олафа кивнуло, моргнули белесые ресницы, но Курбский знал, что он сделает все, что можно.
И вот посол не взял его с собой. Почему? Может быть, он догадался, что, кроме этого, Олаф получил приказ проникнуть в его истинные замыслы и, если окажется, что посольство действительно хочет призвать Ивана на трон королевский, немедленно сообщить Курбскому об этом. Потому что тогда надо было готовить другое убежище, бежать из Речи Посполитой… Тогда никому уже не стал бы он верить больше. Как узнать истину?
Он ходил по садовой дорожке под яблонями, пересекая длинные тени, а мысли ходили за ним неотвязно, надоедно, и в этот свежий вечерний час, когда все отдыхало в листве, в облаках, в людях и животных, одному ему не было покоя.
Подошел слуга и сказал, что какой‑то человек, иноземец, стоит у калитки и просит разрешения поговорить с князем. Курбский кивнул и сел на скамью. Вечерний розовато–бронзовый свет пробивался сквозь листву и пестрил песок аллеи, руки, сложенные на коленях, каменную скамью. Низенький толстый человек подходил все ближе, и черные живые глазки смотрели со смуглого лица, которое было вроде знакомо. Человек был одет как зажиточный торговец, на нем была широкополая шляпа. Он остановился, поклонился и сказал по–польски, но с южным выговором:
– Князь Курбский забыл Николу Феллини – недостойного слугу братства Иисусова?
И Курбский напрягся, потому что вспомнил сырой запах камеры в замке Гельмета, куда его заперли немцы, и свое бессилие, ярость, стыд, а потом вот этого монаха и скрип пера по пергаменту другого монаха, и свои скупые ответы, от которых нельзя теперь отречься. «Но если б не этот иезуит, я не попал бы в Армус, где меня увидел и спас Радзивилл Черный».
– Я помню тебя, – сказал он настороженно. – Ты пришел за наградой?
– Моя награда – торжество справедливости во славу Христа, – ответил монах. – Я пришел предупредить тебя, потому что один раз уже помог тебе спастись и не хочу, чтобы ты погиб от незнания. Я приехал с посольством магистра Готгарда Кетлера, но дело не в этом. – Его черные умные глазки смотрели пытливо и непонятно.
– Говори, – сказал Курбский, настораживаясь еще больше.
– Мы знаем, что ты против отделения Литвы под власть князя Московского и что позавчера ты был на тайном совещании в доме гетмана Ходкевича… – Курбский не шевелился, молчал, выжидал. – Мы знаем, что пан Воропай едет звать царевича Федора и что это якобы только для выигрыша во времени. Но это – ложь! – Никола Феллини поднял куцый палец. – И гетман Ходкевич, и другие литвины – все сговорились отделиться от Польши и предаться под руку Москвы! А тебе они не доверяют.
Это было именно то, о чем думал и сам Курбский и что он гнал как недостойное подозрение.
– Знал ли ты, Никола, – угрюмо спросил он монаха, – что тогда в Армусе был Радзивилл Черный?
«Если он скажет, что знал, то он солжет, а значит, ему ни в чем нельзя верить!»
– Нет, не знал, но магистр все равно отпустил бы тебя к Сигизмунду, только позже.
– Чего же ты хочешь от меня сейчас?
– Мы, как и ты, не хотим отделения Литвы и власти князя Московского. Пусть даже Литва будет греческой веры, но только без князя Ивана. Ты должен знать, что в этом деле всегда получишь помощь нашего братства – тайную и сильную помощь. Ты должен знать, что под одеждой князей и гетманов часто скрываются наши союзники в этом деле. И мы раскроем тебе их имена, чтобы вы могли вместе бороться против ваших врагов. Ты хорошо понял меня?
– Понял. Но как я могу верить тебе, монах?
– Суди по нашим делам. Вот сейчас я открыл тебе глаза на гетмана Григория Ходкевича. А теперь скажу: Андрей Зборович – твой союзник в этом деле. Хотя ты греческой веры, а он римской. На сейме тебе лучше быть за него, чем за гетмана Ходкевича.
Курбский встал. Его лицо было хмуро, а взгляд недоверчив, тяжел.
– Пусть время докажет правдивость твоих слов, – сказал он. – Я подумаю о них.
Никола Феллини смотрел на него снизу вверх, но в черных глазках его не было ни приниженности, ни страха.
– Для тебя и для твоих близких, – сказал он и снова поднял палец, – будет разумнее всего, если ты никогда и никому не скажешь о нашей беседе.
Курбский кивнул:
– Да и для тебя, монах, тоже: Ходкевич разорвет тебя конями, если я расскажу ему. Хоть ты и в посольстве магистра!
Черные глазки иезуита тускло сверкнули, в его тихом голосе появилась вкрадчивая жесткость.
– Никто не избегнул еще ни награды, ни мести нашего братства, – сказал он и покачал головой. – Не нано грозить нам, князь: ведь если б не мы, твое тело давно бы истлело в подвале Гельмета – я сам слышал, как немцы совещались о тебе.
Он повернулся и медленно пошел из сада. Последние полосы заката ложились поперек аллеи, он проходил сквозь них, низенький, темный, как посланец иного, тайного мира. «Я дошел до того, что почти согласился стать союзником иезуитов!» – сказал себе Курбский и сплюнул под ноги.
Он ничего не рассказал Острожскому, а на другой день попросил великого гетмана Ходкевича отпустить его на две недели домой, чтобы покончить с судебным делом о границах имения.
– Соскучился по панне Марии? – спросил старый гетман и прищурил правый глаз. – Если б я был на твоем месте, я просил бы не две недели, а месяц.
– Хорошо, я прошу месяц!
– Поезжай. Сейчас ты тут не нужен. Я дам тебе грамоту к тем, кто не выставил нужное количество воинов и коней. Когда будет нужно, вызову тебя гонцом. – Ходкевич потянул ус, нахмурился. – Я думаю, не в Москве и не здесь будет решаться наше дело, а на сейме. Поживем – увидим.
«Он согласился и еще добавил две недели, потому что не хочет, чтобы я проник в их замыслы, – думал Курбский, возвращаясь. – Значит, Никола Феллини прав?»
Острожский тоже уезжал из Вильно к себе в Киевское воеводство, и они вместе проделали путь до Ковеля, откуда Курбский свернул на дорогу в Миляновичи. Подъезжая ночью к своему имению, к темному дому, в котором спала Мария, он начисто забыл и Ходкевича, и иезуитов, и протестантов – всех, кто борется за власть тайно и явно и не замечает, как прекрасна эта теплая летняя ночь.
3
Кони ступали неслышно по остывающей пыли, лечебной ромашкой и листвой тополевой дышал мглистый воздух, скрипел дергач в заболоченной низинке за мостиком через ручей. Дом, ограда, купы тополей – все спало, темное и высокое. «Сейчас я увижу ее!» Взлаяли за оградой псы, зажегся огонек в сторожке, заскрипели шаги по крыльцу.
– Отворяй князю! – крикнул Мишка Шибанов. Но ворота не отворяли. – Отворяй, князь приехал!
– Будет врать‑то! – басом сказал кто‑то из‑за ограды, – Вот как запалю из пищали по вашему князю! – И все услышали, как бьют по кремню кресалом, чтобы зажечь фитиль.
– Отворяйте, это я! – крикнул Курбский. – Не узнали?
За воротами возникло шептание, сумятица, но тот же бас сказал:
– Князь в Вильно, а княгиня не велела ночью никому отворять.
– Да ты кто? – крикнул Курбский. – Вот войду – прикажу дать тебе плетей! Отворяй, собака!
– Я княгини Марии Козинской человек и князя не знаю, а служу ей.
– Позови Калиновского, разбуди, вы что, белены объелись?!
Наконец ворота открылись, и всадники въехали во двор, смеясь и ругаясь. Курбский бросил поводья Мишке и как был – весь пропахший пылью, кожей и лошадиным потом – пошел на половину княгини. Он сбросил на пол кафтан, шапку, отворил дверь в спальню – качнулся огонек светильника, кто‑то теплый, мягкий вскрикнул, ткнулся ему в грудь и выскочил в коридор – Александра–камеристка? – а на кровати из раскиданных подушек поднялась белая простоволосая Мария, и он замкнул ее в объятия, стал целовать волосы, лицо, шею. Он не понимал, что она спрашивает, потом разобрал: «Как ты здесь оказался?» – и отпустил ее, сел. Принесли свечи, он смотрел на нее, улыбался, качал головой.
– Чего это вы и пускать не хотите? Напугал кто?
– Я так велела, как ты уехал.
– Кто это басом меня стращал? Твой человек?
– Я вызвала его из своего поместья и еще двух верных слуг.
– Правильно! Но плетей он мог отведать! Разбудил? Ах ты, Бируте моя!
– Не говори так. Почему ты приехал?
– Потом расскажу. Вели нагреть воды – помоюсь, баню истопим завтра…
Он смотрел на нее и вертел в пальцах какой‑то пояс. Она тихонько потянула пояс, к себе, он не выпустил, взглянул: это был мужской шерстяной кушак, плетеный, красно–бело–синий, с кольцевой пряжкой. Кушак был потерт на сгибах.
– Это Ян забыл. Дай сюда! – сказала она.
– Какой Ян?
– Ян Монтолт, мой сын. Или сыну нельзя навестить мать?
– Почему нельзя? Как ты тут, Мария? Я так скучал без тебя! Зря я поехал – нечего там делать: войны нет, одни споры и интриги. А ты как?
Она не сразу ответила: ее гибкие пальцы свивали и развивали цветной кушак – и внезапно Курбский сжался, застыл, как тогда, на речке, когда он шел босиком по тропке к воде и перед самой ногой шмыгнула в траву толстая пестрая гадюка: только что он весь был в прохладном покое речной поймы, в предвкушении купания, песчаного дна, мягкой воды, шелковистых водорослей – и все исчезло, остались омерзение и страх.
Он посмотрел на ее склоненную голову, на нежную шею и пушистый висок, и ему стало мучительно стыдно.
– Иди сними эту одежду, я встану и прикажу все сделать, – сказала она и отбросила кушак на кресло. – Иди же!
Он вышел, и усталость внезапно легла на плечи; заныла поясница, больно было шагать ногам, стертым в паху седлом. Ему не хотелось даже умываться.
Курбский проснулся в полной темноте, только в углу дрожал какой‑то розоватый отсвет. Он протянул руку, но не нашел тела Марии – пальцы ткнулись в жесткий ворс шкуры, и он изумился: «Где я?» Он почему‑то был не с ней, а на медвежьей полости в своей библиотеке; он зашел сюда после того, как умылся и переоделся; в беличьем халате, в чистом исподнем стало уютно, по–домашнему безопасно, он велел подкинуть дров в открытый очаг–камин, выпил чашу пива и задержался, разглядывая, раскладывая рукописные книги, привезенные из Вильно. А потом только прилег на шкуру, стал смотреть в огонь и незаметно уснул. Она ждет его, сердится, недоумевает, но ему не хотелось шевелиться: розоватые глазочки – потухающие угольки – съеживались, бледнели под пеплом, в доме стояла полная немота ночи, вот угас один глазочек, вот–вот угаснет другой… Ему было чего‑то жаль – углубленно, печально, как от протяжной ямщицкой песни на бесконечной зимней дороге; потряхивало на выбоинах, побрякивали бубенцы, уходила, уплывала мутно–белая бесконечная степь. Он ни о чем не думал, никого не вспоминал, он погружался в печаль все глубже, дальше, освобождаясь от тела, от сухого, колючего и злобного бытия, никчемного, бессмысленного. Только там, куда вела эта печаль, был смысл, светлый и скорбный, чистый, как привкус снега на обветренных губах. Еще один глазок–уголек сжался, потускнел, потух, остался еле заметный отсвет – кто‑то был жив, но ненадолго, а потом только искра вспорхнет к темному небу и растворится в нем… Он ждал, когда это будет, но не дождался – заснул.
Утром он встал бодрым, освеженным. Мария не вышла к завтраку. «Госпожа немного нездорова», – сказала присланная Александра–камеристка и залилась румянцем. Приятно было смотреть на ее золотистую головку, на полудетские движения и смущенные голубые глаза.
– Что ж, княгиня благословила вас с Михаилом? – вспомнил Курбский.
– Нет, – сказала она и потупилась, краснея еще больше. – Я сама не захотела! – И она диковато, странно глянула на него, закрылась локтем и выскочила из комнаты.
Почему‑то он совсем не рассердился, даже был доволен. После завтрака он зашел к жене. Она лежала в постели и читала молитвенник, на столике стоял ее ларец с крестом, Библией в роскошном переплете и частицами мощей, а рядом – чашка с горячим молоком. Он наклонился и поцеловал ее в лоб, а она обняла его за шею, провела ладонью под воротом сорочки, тревожно спросила:
– А где мой амулет?
– Вчера мылся и снял. Да зачем он мне здесь, когда ты сама со мной?
– Не смейся над этим. Если б не этот амулет, ты не вернулся бы так быстро…
Она задумалась, глядя мимо него светлыми непроницаемыми глазами, крохотная складочка меж бровей недоумевала, сердилась. Он поцеловал эту складочку, и Мария отклонила лицо, натянула одеяло.
– Пойду пройдусь по хозяйству. Когда, говоришь, здесь гостил твой сын?
– Почему ты спрашиваешь?
– Потому что Василий Калиновский его не видал. А это значит, что сам он или пьян был, или отлучался. Ты знаешь, что я на него оставил охрану Миляновичей. Вот я ему дам!
Она задумалась:
– Калиновский никуда не отлучался, но он не мог видеть Яна – сын навестил меня тайно.
– Тайно?!
– У него была стычка с ратманом Владимирского повета, и пришлось временно покинуть свой дом. – Она отодвинулась, чтобы лучше видеть лицо мужа. – Прошу тебя, не говори никому, что он здесь был.
– Хорошо. – Курбский слегка нахмурился. – Но не забывай, что я здесь наместник короля и…
– Мне ты можешь поверить: он ничего не сделал – убил нечаянно какого‑то холопа, и все.
– Ну если только холопа… Но в следующий раз пусть будет осторожней и не прокладывает след в мой дом!
– Разве это только твой дом?
Она смотрела мимо, голос был бесстрастен, но он знал, что это значит.
– Мой и твой, не сердись. Все мое – это твое, ты же знаешь.
Она не ответила, потянулась, запустила пальцы в волосы на его затылке, притянула его голову и впилась губами так, что он все забыл.
К вечеру она была здорова, и они выехали, как обычно, прогуляться. Теперь, правда, их сопровождали слуги: стременной Мишка Шибанов и новый конюх Марии – черноволосый угрюмый юноша из галичан. Его звали Ждан [163]. На нем был такой же плетеный кушак, как тот, что забыл сын Марии, и Курбский это заметил. «Я подарила ему кушак Яна, – сказала Мария. – Этот парень очень верен и храбр, его отец служил моему мужу». У Ждана была дорогая, как у шляхтича, сабля и бархатная шапка с собольей опушкой. Курбскому он не понравился, но через минуту он забыл о слугах: они ехали по той же опушке, где так часто ездили, летние травы шуршали, осыпали пыльцу высокие цветы, куковала в сырых лиственных глубинах одинокая кукушка.
– Ты надел мой амулет? – спросила она тревожно.
– Нет. Или ты веришь ему больше, чем мне? Все это вроде колдовства – зачем оно нам?
– Что такое колдовство? – спросила она задумчиво, – Некоторые травы и камни имеют особую силу. А мудрые люди используют эту силу себе на пользу. Вот и все. Ты не веришь в это?
Он пожал плечами.
– Верю, но… – Он вспомнил, как Иван Грозный любил самоцветы, собирал их, растолковывал их тайное воздействие на человека. Если б это делал другой человек, но Иван, тот, кого бес водит… – Говорят, что… Ты любишь алмазы?
– Алмазы? Нет. А что?
– Ничего. – Он вспомнил, что алмаз удерживает человека от жестокости и сластолюбия. – Рубины очищают кровь, а бирюза охраняет человека от врагов, – сказал он, и она кивнула. – Я привезу тебе ожерелье с бирюзой!
Она улыбнулась:
– Вот видишь, это все тайны дара Божия. Еще от царя Соломона [164] избранные люди их хранят… А невежды называют это колдовством.
– Но есть же и настоящее колдовство! Недаром церковный суд изгоняет таких людей, а иные даже одержимы…
Жаворонок вспорхнул из‑под копыт, конь Курбского всхрапнул и шарахнулся, и он натянул поводья.
– Вот там, – сказала Мария, – поворот к источнику. Но уже поздно, надо ехать домой – меня что‑то познабливает.
– Я подарю тебе перстень с рубином.
– Подари мне лучше… Нет, не надо!
Когда они вернулись, Василий Калиновский рассказал, что из Ковеля от кастеляна Кирилла Зубцовского приезжал гонец предупредить о королевском чиновнике Войтехе Вольском, который хочет вручить Курбскому королевский приказ – решение суда вернуть имение Туличово его настоящим владельцам, панам Борзобогатым–Красненским, и что завтра надо ждать их в Миляновичах.
– Когда они приедут, скажи им, что я уехал к князю Острожскому в Крупую, а в дом их не пускай, – сказал Курбский. – А если заартачатся, гони их силой!
Ему не хотелось ни с кем сейчас спорить или воевать. Надо было куда‑нибудь и вправду уехать на время. Может быть, в монастырь к отцу Александру? Он предложил это Марии, но она отказалась.
– Не могу. Ян еще под подозрением и может приехать ко мне. И потом, не нравится мне этот монастырь – бедный какой‑то, заброшенный.
– Может быть, это и говорит о его святости! – сердито сказал Курбский. – Поедем, Мария! Я тебя прошу. И вообще лучше нам уехать пока.
– Поезжай один, если хочешь. Только вернулся, и уже опять куда‑то тебе надо ехать. Напрасно я так ждала тебя!
Она шла на ссору, и он уклонился, как почти всегда.
На другой день он проснулся очень рано, дом еще спал, чисто и холодно вставала заря над седым от росы лугом. Он встал, собрался быстро и бесшумно и уехал вдвоем с Мишкой Шибановым.
Вербский Троицкий монастырь был основан Галицкими князьями еще до Батыя, разрушен при Батые дотла и восстановлен при Гедиминах епископом Владимирским. Он стоял в стороне от торговых дорог, скромно, небогато жил приношениями волынских православных доброхотов и венным хозяйством – гончарной мастерской и мельницей.
Монастырь на острове посреди Турьи открывался с левого берега в облачном отражении своими низкими стенами и приземистым однокупольным храмом, а ниже по течению на другом маленьком острове виднелся серый шатер деревянной церковки Николая Угодника, где служил иеромонах Александр. Курбский полюбил это место. Здесь велел он похоронить Ивана Келемета, здесь, на погосте, он как бы обретал самого себя, потому что словно возвращался в детство, в село Курба, где такая же была церковка – шатровая, деревянная, сухая и серебристая от старости, с чешуйчатым, под осиновой дранкой, куполом и другим – над звонницей. Церковь возвышалась сосновым срубом над травами, ветхие могилки погоста заросли, как и у него дома, земляникой – сочные ягоды осыпались на землю, и стаи дроздов с шумом вспархивали, если пройти рядом. Но там никто почти не ходил. Только облака плыли в темной протоке меж желтых кувшинок мимо дремлющей звонницы да трещали в траве сверчки. Под резными застрехами церковки лепились ласточкины гнезда, иногда черной стрелой вылетала оттуда одна, низко срезала над самой водой, а за ней чертили воздух другие. Тишина, русский добродушный, чуть ленивый дух, который нигде больше – ни в Литве, ни в Польше – Курбский не встречал.