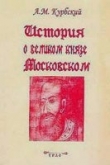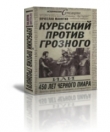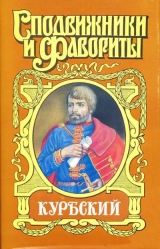
Текст книги "Андрей Курбский"
Автор книги: Николай Платонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
Русь и Речь Посполитая заключили мир на десять лет, потому что царь не мог бороться и со шведами, взявшими Нарву, Ивангород, Ям и Копорье, и с польско–литовскими войсками Батория, осадившими Псков. Царь, скрепя сердце, отдал Ливонию и мечту выйти к морю [232], а Баторий вернул Великие Луки, Холм, Невель, но удержал Полоцк. Все это было, как понимали государственные умудренные мужи, не миром, а лишь перемирием, но для простых людей и это было благом: в порубежных краях все было дотла разорено, поля заросли мелколесьем, деревни выжжены или брошены, гнили и разваливались дома под гущей бузины и крапивы. А на Руси война продолжалась: вторглась ногайская орда, восстали против царского захвата народы Поволжья, шведы пытались взять крепость Орешек в устье Невы.
Курбский опять сидел в своем имении: у него открылся гнойник старой раны на ноге, почти не сгибалось колено, он похудел, зарос, часто писал письма и редко получал ответы. Вести о военных и иных делах доходили в Миляновичи с большим опозданием, он читал о них со странной отчужденностью выбывшего из рядов воина. Навсегда, как он и предчувствовал, когда покидал лагерь под Псковом. Но он хотел еще пожить, и чем ближе было тридцатое апреля, тем нестерпимее распускалось в нем это хотение.
Все, что мешало этому, он готов был уничтожить или хотя бы забыть накрепко, и поэтому как‑то велел развести огонь в камине и стал перебирать старые письма. Налево он откладывал все, что подымало старую муть со дна: судебные кляузы, доносы или анонимные угрозы. Направо – письма Константина Острожского, Корецкого, Артемия Троицкого. Но вот, отдельно, связка писем, давних и недавних, от Марии Козинской. Два последних. Первое от сентября тысяча пятьсот восьмидесятого года:
«…Ты мог иметь любовь такой женщины, как я, всегда, но теперь я тебя ненавижу, потому что узнала тебя до конца. Ты никого не любишь, кроме себя, и потому ты изменил своему господину великому князю Московскому, но и новому господину служил из‑под палки и презирал его. Я одна знаю, что ты думал о короле Сигизмунде–Августе, а Стефана Батория ты тоже, называл «князьком бродячим» и тайно не любил его за то, что он взял ваши города Полоцк и Великие Луки. И шляхту нашу рыцарскую ты в своем невежестве азиатском тоже не любил, а русских беглых в своем имении прятал, и если б я захотела тебе отомстить, то давно бы ты был в оковах… Ты всех поляков на своих землях притеснял, а своих обогащал за счет изгнанных, и за все то и за меня тебя Бог накажет карой своей…»
Курбский покачал головой, усмехнулся: не за это ненавидела его Мария Козинская, а за то, что не мог он тогда ее простить и оттолкнул в доме Кирилла Зубцовского. Он бросил листок в пылающий огонь, смотрел, как тот мгновенно съежился, почернел, рассыпался. Потом развернул ее второе письмо, последнее, от декабря тысяча пятьсот восьмидесятого года:
«…Я получила твое письмо, князь Андрей, и пишу тебе ответ, потому что как христианка я тебе прощаю все зло, которое ты мне причинил, и, чтобы ты в это поверил, посылаю тебе, если ты еще не получил, выписку из решения Владимирского королевского суда, где я заявляю, что мне дано тобой по моему иску законное удовлетворение и я освобождаю тебя в дальнейшем от всяких моих притязаний.
Мне жаль тебя, Андрей, что ты жил и умрешь в ложной вере, потому что я поняла, что только римская католическая церковь является единственно истинной церковью. Но ты считаешь ее еретической, и в этом твоя погибель. Поэтому мне тебя жаль. И потому еще, что было время, когда я любила тебя больше своего первого и больше второго мужа, но ты не ценил этого, и теперь у тебя никогда не будет такой любви ни к кому, как ко мне. Или ты не помнишь ничего? Ты будешь помнить меня до самой смерти, но никто меня тебе не заменит, и в этом ты тоже сам виноват… Яне стыжусь признаться, что некогда любила тебя, потому что больше мы никогда не увидимся на этом свете. Я тебя прощаю…»
Он перечитал конец письма дважды, долго смотрел в окно, ничего не видя, вздохнул, отложил письмо направо.
Темнело лиловато, влажно в зарослях за окном, лунный и закатный свет пробивался меж деревьев, белым Облаком плыли кусты – черемуха зацвела, теплый ветер качал ветви, и так хотелось жить… Все, все забыть, потерять память больную, как во сне ее теряют и становятся счастливы хоть на одну ночь.
Сметало метельно–белые лепестки на черную землю, в лунной тишине щелкали соловьи, и ручьи с верхнего поля журчали под изгородью, как будто лесные детки–лешаки полоскали свои горлышки, сидя рядком на бережку. Не спалось, он смотрел в зеленоватую мглу сада, что‑то тянуло туда опасно, неудержимо, он встал с постели, босиком подошел к окну, взялся руками за косяки проема, глубоко – до кружения – вдохнул женский аромат, отнимающий разум, волю. Он силился вспомнить, где так было, и не мог, но тело само вспомнило и позвало: «Бируте!» Подождало и повторило: «Бируте!» – и нечто белое, как обрывок тумана, заскользило из чащи по лунному лучу, уплотняясь, впиваясь мучительным взглядом.
– Андрей! – сказал кто‑то сзади.
Он так вздрогнул, что руки сорвались с косяков окна, и он чуть не упал, поворачиваясь. Женщина, простоволосая, полуодетая, стояла в дверях, она рванулась, подхватила его сильными руками, вся она была теплая, понятная – Александра, жена. И наваждение исчезло: вот комната, книги, кровать, окно, просто окно, и ничего больше. И тогда он вспомнил, что сегодня ночь на тридцатое апреля, когда позвала его из цветущих зарослей языческая жрица и он бежал из дома, бросив всех.
Чтобы спастись от этих воспоминаний, он обнял жену, прижал лицо к ее груди, зашептал торопливо, униженно:
– Не уходи, не бросай, я знаю, я старый, но не бросай!..
Она не ушла, наоборот; шептала в ответ:
– Что ты! Я сама пришла, сама, хотя ты…
Но он уже все понял – поверил и не слушал ее дальше.
Она ушла только под утро, а он проснулся поздно, позавтракал сытно и с чувством облегчения, выздоровления вышел в солнечный апрельский сад.
Там и нашел его случайно через час дворовый мальчишка – князь сидел на земле, прислонясь спиной к дереву, бледный, мутноглазый, и шептал что‑то. Прибежали, перенесли его в спальню, дали понюхать уксус, послали в Ковель за лекарем. Постепенно в голове прояснилось, и Курбский велел позвать Ивана Мошинского, а остальных выслал из комнаты. Ивану он сказал:
– Поезжай в монастырь и привези отца Александра со святыми дарами. Жене пока не говори. Поедешь через Ковель, попроси судью пана Мышловецкого приехать ко мне срочно. Он поймет зачем…
Иван смотрел верными глазами, кивал: хоть и слабым голосом, но князь говорил все разумно, понятно.
Когда Иван вышел, пришла жена, встала на колени возле кровати, взяла руку князя, положила ее себе на голову и заплакала. А он гладил ее, как дочь, и приговаривал:
– Не надо, не винись – ты принесла мне радость. Не надо, за много лет – радость!..
Не мысли, а земляные пласты памяти отваливала лопата, искала…
Приближение родины начиналось со слабой боли в левой стороне груди и всегда с галереи вдоль фасада их родового дома. Он шел по чисто выскобленным половицам, слева были янтарные бревна сруба, а справа зелень травяная широкого двора, тень от берез столетних за изгородью, конское фырканье, переступ копыт, окрик Васьки Шибанова, который седлал рыжую кобылу для Андрюшки – для него. Боль усиливалась: наплывала Москва, и мать, матушка ехала через летнюю пыльную Москву к их дому за Неглинную, мимо краснокирпичных новых кремлевских башен, мимо куполов соборных, золоченых и серых тесовых многоярусных кровель, мимо низкого двора за речкой, слепого, черного, с колеями к наглухо запертым воротам, – розыскной приказ, Малютино владение, а звон плыл как из дали веков святоотческих, малиново и прозрачно мелькал закат за срубами, за тынами, и опять мягко катились колеса по мураве проулка, но не забывалось молчание матери, полное слез и гнева за поругание, за насилие, ее шепот, в облаках горящее завещание… Такой стала Москва после опричнины.
Дерпт – это очертание двуглавой скалы–собора в лунной высоте, и везде камень, гранит, плитняк, кремень, везде зеленоватый сумрак, как на дне моря, и запах цветочный языческий, и пот едкий, который слизывал он языком, болтаясь на веревках, врезающихся в подмышки. Дерпт – это место казни. Это не Юрьев, а именно Дерпт. Эстов–язычников и ливов–еретиков и епископа римской церкви. Камень просвечивался насквозь раз в году, в апреле, и видны были бледные лица в замковых подвалах и клубки водорослей–вожделений, которые губят самых верных… Бируте.
Вильно – это башня Гедимина, это копья в небо пасмурное – костел святой Анны, это король и иезуиты, но это и молчаливые упорные литвины, к которым даже в закрытую крепость из лесов приходят их первобытные советники–боги. Вильно – это привал военный, чужой навсегда. Христос проходил Вильно быстро, опустив взгляд на булыжники мостовой; босые ноги его были в пыли…
Ковель – это поиски следов князя Владимира Святославича, бесполезные поиски. Ковель – это предатель–слуга, которого нельзя уличить, но с которым невозможно жить под одной крышей, потому что он, не выдав себя ничем, ждет часа, чтобы привести толпу врагов ночью, в свете вонючих факелов, с кольями и мечами. Из Ковеля дорога к дому, в Миляновичи. Но разве его дом в имении Миляновичи? А если нет, то где он?..
…Когда в спальне полутемно к вечеру, то хрустальный куб – комнатку иного мира – лучше видно. Она повисает в пустоте меж потолком и полом всегда неожиданно, и он смотрит на знакомых живых людей – на отца сегодня, например, который ведет его за руку к конюшням, а он, Андрей, изо всех сил сдерживает страх: сегодня его обещают одного пустить скакать на молодой кобыле без стремян и без седла. Так надо, чтобы стать воином. Еще рано, пыль прибита росой, но день над липами обещает быть жарким; отец шагает широко, держит крепко, и приходится припрыгивать, подстраиваясь под его шаг. В серо–желтоватых глазах отца всегда что‑то терпеливо–грустное. Они с отцом пересекают тень от сарая и входят на конюшенный двор, в густые запахи навоза, соломы, пота и кожаной упряжи. Он видит еще мгновение и низкое солнце на песке двора, и отцовский грустноватый глаз, и лоснящуюся шкуру рыжей кобылы, которую конюх выводит под уздцы из дверей денника. Голуби клюют под ногами просыпанный овес.
«Отец, князь Ярославский, тоже в Литву ходил и был смел и верен, сам царь мне об этом писал в первом письме… Но неудачник был, великий князь Василий за что‑то его ругал, деревень не дарил и казны тоже… Вот и грустил. Да, может, и не поэтому – прост он был по–деревенски, а мать… Да, она‑то и по–гречески читала. Тучковы! Но меня отец выучил воинскому делу с детских лет хорошо. Недаром Иван хвалил меня и уже под Коломной в передовой полк послал против татар. Сколько мне тогда было: двадцать два? А под Свияжском!»
Он увидел бесконечные заливные луга, стальной клин волжского залива и слитно скачущий на урезе степи отряд татарской разведки: она уходила от конников Петра Щенятева. Так тогда и не догнали! Какие травы были тогда, какие лошади, люди, облака и свежий хлеб черемисский – лучше всяких пирогов с голодухи‑то! Царь был рядом, свой, правильный, милостивый, и цель была рядом, за поворотом берега против переправы, – город Казань. Где это было и с кем и было ли или приснилось однажды? Но привкус речного пространства, осоки, влажного песка – привкус молодости – продержался на губах еще немного – столько, чтобы не сомневаться, что это было, а значит, может и повториться. Нет, не может повториться на этом свете. Хотя что это он – ведь только что повторилось и даже дороже стало все это, чем было тогда. Да, дороже, потому что отнято навсегда…
Постучавшись, вошел Иван Мошинский, в пыли, в дорожных сапогах.
– Привез? – приподнялся Курбский радостно.
– Нет. – Мошинский переминался. – Опять розыск в монастыре, никого не выпускают, я еле к отцу Александру пробрался – не может он сейчас приехать, не дают… Потому и писать не стал, велел передать на словах.
– Что передать?
Мошинский опять замялся:
– Да так, не поймешь чего…
– Передай слово в слово.
– «Скажи князю, – он так сказал, – пусть молится о слезах».
– И все?
– Все.
Ночью Курбский долго думал, где он слыхал такие же слова. «…О, горе мне, грешному! Паче всех человек окаянен есмь, покаяния несть во мне: даждь ми, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько!»
Слова он вспомнил, но никаких слез в нем не было. Как это сказал старец однажды: «Сушь в тебе». Да, великая сушь, и давно она. Плохо дело, но что поделаешь: у безногого нога не отрастет – не будет ему слез, разве лишь чудом. Но он не верил сейчас в чудо: не для него чудеса, он ведь кто?.. Даже думать об этом нельзя – есть вещи, от которых можно свихнуть разум, стать безумцем, как деревенский дурачок у них в селе Курба – Васюта Немой. Он только мычал, как животина, ребята его дразнили, и он за ними гонялся. А потом взял и утопился. Или утоп нечаянно… Стрекозы висели над тем илистым омутом, там в тени ольховой хорошо брал окунь на восходе. Нельзя думать о том, что под пленкой словесной либо цветной, как отражение на воде облачное, а на дне – труп Васюты Немого… Не надо лезть туда – там все непонятно, хаос и шевеление чудовищ. Лучше читать что‑нибудь ясное и чеканное, как язык латинян. «Записки о галльской войне», например, которые он так и не осилил до конца.
Но что же делать, кому сказать, если отец Александр так и не приедет никогда? Приедет – не век будет там этот розыск. А если его схватят? Схватили же и увезли двух монахов, которые пришли в монастырь из‑под Витебска, кажется. Или из‑под Пскова… Они ищут беглых военнопленных, которых, говорят, укрывал игумен Иоасаф. А может быть, это просто происки иезуитов… Хотя нельзя везде искать иезуитов – ведь Иоасаф украл казну. Как можно узнать человека до конца? Никак. Это опять – лезть в омут. Только взгляд ангельский может до дна прожечь топь душевную, озарить все постыдные ее закоулки. Эго будет для каждого расплатой – сам себя тогда человек увидит обнаженным и неприкрашенным. Вот он стоит, царь–самодержец, необъятных земель владыка и многих народов, голый, как раб, стоит в черной пустыне, под огненосным светом небесного ока. А вокруг из тьмы смотрят на его преступные тайны тысячи тысяч обличающих глаз. Кто этот лжецарь разоблаченный? Иван Васильевич, великий князь, государь всея Руси. «Возьмите его и ввергните во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов!» – говорит Курбский мстительно, громко в глухой потолок. И торжество, и тошнота поднимаются к горлу одновременно, а потом выступает пот, и он, ослабев до кружения в мозгу, откидывается на подушки, слушает сорванный стук сердца, и ему хочется уже не торжества, а только покоя, без мыслей, без чувств, как в детском сне. Но ведь даже дети видят иногда страшные сны, и он боится заснуть.
Он боролся со сном, как с врагом, но враг победил незаметно, и поэтому, когда увидел знакомую пойму с крыльца своего родного дома, он не удивился.
…Он стоял на крыльце вместе со всеми и смотрел на закат за пойменным лугом – малиново–оранжевый пожар, отраженный плесом, постепенно меркнущий в неподвижных облаках, и на всадника в черном шлыке, надвинутом на лицо, который медленно ехал по закату мимо дома, бросив поводья. Все родные тоже смотрят на всадника – это отец, мать, брат Роман, и Радзивилл Черный, и Константин Острожский, и Василий Шибанов, и дети – много детей. Все они знают, кто этот всадник, но боятся назвать его по имени и притворяются, что вообще его нет, а есть только закат, угасающий медленно, величаво, и темнеющий пойменный луг, и в предночной прохладе свежие запахи реки, ила, росы на осоке. Оттуда с берега слабо доходит лягушачий хор, а там все едет мимо страшный монах, и все ждут, когда он проедет совсем, и молчат; и вот, уже почти проехав, он откидывает капюшон, поворачивает к ним оранжевое от заката лицо, хитро щурится и улыбается белозубо, как волк, внезапно и так близко, что Андрей вскрикивает и хватает мать за руку. Он не видит ее, но чувствует, что это ее рука, мягкая, но уверенная, и он сжимает ее, не в силах унять мельчайшую дрожь. «Не надо бояться, Алеша», – говорит она. Он хочет объяснить, что он не Алеша, а Андрей, что Алеша тоже тут, но не надо о нем, не надо, мама!
И он просыпается, дрожа всем телом. Окно открыто, предрассветные звезды за тонкой мглой далеки и бледны. Все еще спит беспробудно, чернеют, все четче вырезаясь, веточки и листья тополя, хор лягушачий у пруда гремит отдаленно и торжественно.
Он лежал и думал: что же все‑таки там защитило их? Припомнил, что хотя было прохладно, вечерело, но меж ними и поймой с черным всадником стояла невидимая теплая стена и стена эта шла от тепла детей на крыльце. Это было излучение их чистоты и наивности, беспомощности, веры – все это оказалось такой силой, которую не мог пройти насквозь даже царь кромешников, который ехал, поглядывая на их родной дом и выбирая будущие жертвы…
Почему среди них были не только кровные, но и другие, совершенно неоспоримые члены семьи? Этого нельзя объяснить словами, но это так. Но что вообще можно объяснить словами людям? Вчера он хотел раскрыться перед Александрой и сказал ей, что раскаивается в своем грехе, в том, что взял ее до брага, а она обиделась и ответила: «Разве это грех? А я‑то думала, что ты меня действительно любишь…» И Константину Острожскому он сказал, что когда‑нибудь все‑таки Литва должна вернуть Руси Киев – святую первостолицу, а Константин насупился, тоже обиделся. Разве можно что‑то объяснить? Разве можно было сказать Николаю Радзивиллу, что вера его – ересь и что он погибнет? Лучше отрезать себе язык, чем спасителю своему нанести такую обиду. Хотя раньше он, князь Курбский, мог любому сказать это в глаза. Когда же он был прав – тогда или теперь? Слабость во всем теле, утихающий озноб. Может быть, и все его слова и сочинения – осенние листья, вырезанные и позолоченные с любовью, но временный сор под ногами, который осенью сметают в кучи и сжигают?
Он втянул запах дымка – тонкой струйки над лиственной грудой меж голых яблонь октябрьского сада; низкий свет в серых тучах, далекое высокое курлыканье невидимого журавлиного клина. Ему расхотелось думать, и он сразу стал засыпать с чувством, что все так и надо: он засыпал серым осенним вечером в своем родовом доме под Ярославлем и одновременно предрассветной майской ночью на Волыни Литовской, в имении Миляновичи, и разницу в пятьдесят лет нисколько не ощущал.
Этот день, четвертое мая, ветреный и теплый, с облаками Высокими и быстрыми, день блистающей лиственной ряби, цветущих розовых вишен, счастливого тонкого свиста какой‑то птички под окном в кустах – этот день был для него единственным и никогда не смог бы повториться ни в этом веке, ни в будущем.
С утра было полегче, и он встал, опираясь на костыль, вышел на крыльцо, в сад и посидел на скамейке, счастливо зажмурясь и втягивая носом влажную прель земли, почек, молодой травы. Ему опять хотелось жить, потому что все ожило после зимней оцепенелости, и в этом был главный смысл всего бытия. Птичка замолчала, когда он сея на скамейку, а теперь, осмелев, робко свистнула, и скоро все ее нехитрые трели потекли беспрерывно, а он сидел не шевелясь.
Он долго так сидел, не разрешая себе думать, а потом стал мечтать, как, может быть, поправится настолько, чтобы съездить в Вербский Троицкий монастырь к старцу Александру, а потом в Киев – давно он хотел туда, к Константину Острожскому: надо показать ему законченную «Историю великого князя Московского» и переводы новые, а потом они соберутся все, как в былые годы, и будут читать, спорить, рассуждать о вещах непреходящих, о вере и неверии, о творениях великих мудрецов и святых…
Мысли его прервал Иван Мошинский, который зашел с каким‑то неотложным делом: зря он не беспокоил князя.
– Садись. – Курбский показал на скамью. – Что у тебя?
– Прибежал из Смедина Семен Климов [233], урядник, подожгли его, и сам еле из огня спасся с женой, а имущество все погорело.
– Семен? Кто поджег?
Смедин покойный король Сигизмунд–Август взял от Чарторыйских и отдал Курбскому, и тот посадил там урядником Семена Климова – длинного рябого казака, который прятал глаза, когда разговаривал, и ходил всегда неряшливый, хитрый и хмурый. Курбский его не любил, но поджог требовал кары.
– Кто поджег, знаешь?
– Я только оттуда. Вишь какое дело, наверно, смединские, скорее всего, бывший слуга князя Чарторыйского Иван Бутенецкий – он в том доме раньше жил, и Семен, когда вселялся, его выгнал и бил на улице, а сынишка Бутенецкого, хлопчик лет восьми, за батьку заступился, ну и вцепился в Семена, а тот его палкой по спине, и хлопчик стал сохнуть, через год помер. Так это когда было! Я войту в Ковеле дал знать, и он пошлет людей, а нам что делать? Семен стоит вон за кустами, я его привел, просит денег и дом ему дать и грозится, что…
Иван продолжал говорить, но Курбский его не слышал.
– Хлопчик заступился? – повторил он и начал медленно вставать. Лицо его стало буреть, глаза стекленели, – Дите, дите убил! Палкой! А?! – Он крикнул это в лицо тоже вставшему Мошинскому и схватил его за грудь, – Дите – палкой?! Где он, а?! Где?!
– Кто? – спросил Мошинский, не вырываясь и бледнея.
Лицо князя стало безобразным, рот ловил воздух, он покачнулся. Иван подхватил его и опустил на скамью, обнимая за плечи. Зрачки Курбского расширились, уставились в облака, ничего не видя, и внезапно все вмиг изменилось в нем – и в лице, и во взгляде, а тело огрузло; теперь он сам держался за Мошинского, костыль упал на землю.
– Князь, князь! – звал его Иван. – Может, людей позвать? Воды? За меня держись, вот так, перехвати за шею. Эй, кто там!
Семен Климов выдвинулся из‑за кустов, но Мошинский махнул на него:
– Беги в дом, жену, слуг зови – князю плохо!
– Не надо никого, – тихо сказал Курбский и перевел зрачки вниз. – Не зовите. Поезжай к отцу Александру опять, привези его… Помоги мне дойти.
Опираясь на Мошинского, шаг за шагом он дошел до спальни и лег на спину, уставился в потолок.
– Поезжай тотчас, Иван, – попросил он, и голос его был такой незнакомый, что Мошинский ничего не стал переспрашивать и быстро вышел.
Когда во дворе ему седлали коня, подошел Семен Климов, спросил, насупясь, шмыгая носом:
– А меня куда же? На службе княжьей эти заразы сожгли, а вы тут…
Мошинский резко к нему обернулся, и Семен осекся.
– Иди с глаз княжьих, – зловеще сказал урядник Миляновичей и поправил саблю, – а то как бы он тебя из своих рук не уложил. Ты мальчонку Бутенецких палкой убил, как говорят крестьяне. Иди отсюда прочь, пока я тя!..
Он сделал шаг вперед, и Семен Климов, огромный, как лошадь, отшатнулся, сутулясь, отступил, отошел боком, скрылся за конюшнями.
А Курбский лежал на спине, прислушиваясь со страхом к тому, что поселилось в нем. Когда он в ярости крикнул: «Дите убил!» – из синевы облаков словно песчинка малая пала сквозь голову в грудь и застряла в сердце, песчинка из бездны мироздания: в песчинке той была смерть. Не та, которую представляют себе люди, когда болеют или когда мимо свистнет пуля, а та, необратимая, которую лишь раз в жизни чувствуют как наступление неизбежного конца.
Не стало князя Курбского, не стало ни титулов, ни званий, ни богатства одежды, ни крепости имения, даже имени не стало родового – ничего, кроме песчинки внутри того, что зовется телом, или еще глубже, Внутри того, что было сутью его как земного человека. Он не смог бы этого ни понять, ни рассказать, но он чувствовал это так же непреложно, как свою руку, вытянутую вдоль тела. Он смотрел в окно, как постепенно меркнет майский день, край неба за тополем еще долго светился мягко–золотисто, а зенит, из которого пала песчинка роковая, постепенно лиловел, там проступали влажные созвездия и одна голубая звезда мерцала, не приближаясь и не удаляясь, и звали ее Сатурн.
Зашла жена, постояла, спросила:
– Чего это ты на Ивана так крикнул? Я даже испугалась. И Семен Климов – чего он не так сделал? Его ж сожгли. – Он не отвечал, не поворачивал головы. – Я его велела накормить, сидит в людской, брагу пьет. Но я не за тем – хочу в Ковель съездить, к сестре. Тебе ничего там не надо?
– Нет.
– Может, принести чего?
– Квасу бы…
– Ты ж знаешь, что мы ваш квас не варим, не пьем. Это покойный твой Тишка–повар умел квас делать русский. Хочешь браги?
– Нет…
– Хочу в Ковеле бархату купить, желтое платье, дать отделать по вороту. Тебе оно нравится?
– Что?
– То, что я надевала, когда Казимир Хмелевский, пан львовский, к нам приезжал. Помнишь? Надо свечи велеть зажечь… Ну я поеду завтра пораньше, приеду к пятнице. Хорошо?
– Да, да…
Она ушла, где‑то во дворе молодо рассмеялись женщины–служанки, где‑то стучала телега на железном ходу, покрикивал возчик, мелькнула на вечерней заре тень крылатая – ворона пролетела, и опять – рассмеялись во дворе люди – сидели, верно, на завалинке и на ступенях крыльца, а вечер был светлый, теплый и нежный. Все это было так просто, хорошо и понятно, кроме песчинки крохотной со звезд, которую никому не дано вынуть или увидеть. Но она была. Может быть, старец Александр ее вынет? Или хоть отсрочит это. Одна надежда на его приезд. Если Иван поторопился, то завтра к вечеру, нет, к обеду может его привезти. Надо лежать и ждать.
Спать теперь было бессмысленно – мало времени осталось. Теперь надо было доделать все, что не успел, откладывал или не желал делать раньше, когда болел или был здоров, когда на землежил. А сейчас он был уже не на земле и не на небе, он сам не понимал где, это не имело названия на человеческом языке. Он плыл, лежа на спине, избегая, как мог, камней на шивере, на порогах, камней–мыслей, и, отдаваясь течению, следил только за ощущениями–воспоминаниями, которые медленно плыли в облаках прошлого над головой. Так он плыл когда‑то на плоту с плотогонами по Каме, сплавлялся вниз к Волге. Это было после взятия Казани, когда его оставили замирять черемисов в Заволжье на целый год, а весной по половодью они спускались вниз на ладьях вместе с плотами леса для укрепления стен Свияжска. От молодости и силы все тогда казалось преодолимым, радостным и интересным.
Он закрыл глаза и ощутил холод половодной дикой реки с лоскутами снега на обтаявших берегах, и шум воды, и бесконечные ельники на буграх, и закат – слюдяной, тоже дикий, как тягучий гнусаво–тоскливый напев плотовщиков–черемисов, которые ворочали весла–рули на носу и на корме плота. Бревна были связаны вязками из тальниковых прутьев и лыка, и от свежесодранной коры горчило во рту, а в ящике с песком Васька варил на костерочке кулеш – кашу с уткой, которую сам убил из лука в камышах. С едой тогда было плохо, и с одеждой тоже – за осень и зиму они обносились донельзя. Тогда царь Иван любил его. Тогда он мог хоть каждый день идти на бой спокойно – верил, что смерти для него нет. Не головой, а всем телом, нутром спокойно ощущал, как ощущают это деревья, цветы, птицы. Они никогда не думают об этом, потому что они – это сама жизнь и есть. И дети тоже не думают, ничего не боятся. Дети главное чувствуют.
…Под Коломной был смотр ополчения, и отец впервые его взял, было ему тогда лет восемь; там и других много собралось мальчишек, серьезных в час, когда смотрели они с бугра и на дерево забравшись, как отцы их, военачальники, выводят своих воинов и проходят строем конным перед царским воеводой Большого полка князем Овчиной–Телепневым–Оболенским. Андрей не влез на ветлу смотреть: ему отец, как и сыну князя Ивана Кубенского [234] Федьке, поручил стоять с конями свиты, со стременными в седлах, верхами, и они гордились этим и были молчаливы и тихи. Был день летний, безоблачный, желтоватая пыль от проходящих сотен замутняла даль. Чем‑то не понравились воеводе Оболенскому воины ополчения князя Кубенского, и он вызвал его и кричал на все поле, а Иван Кубенский стоял потупившись, красный и опозоренный, и не смел слова возразить. Андрей оглянулся на его сына Федьку и отвел взгляд: Федька сидел в седле так же прямо, но побелел, сжал дрожащие губы, и глаза его были полны слез.
Ветер на дворе стих, ночь стояла светлая от лунного зарева за садом, опять расщелкались соловьи, и ему хотелось уйти от этого, от зеленоватого квадрата, который наливался розоватой мутью, как прорубь, в которую плеснули крови… Он закрыл ладонями лицо, вдавливая пальцы в закрытые веки.
Ему жаль было Марию Козинскую, немолодую уже женщину, потерявшую все, потому что она захотела стать, как Бируте, бессердечной и соблазнительной и повелевать стихиями тела и духа. Она, как рассказала Александра, четырежды вытравливала плод, чтобы не потерять гибкости девической – не иметь больше детей, лишнюю заботу. А теперь ей осталось одиночество в ее имении, медленное беспощадное старение, страх перед ночной тьмой: ведь те, кто ворожат, сходят с ума рано или поздно. Зачем, Мария, ты сделала это с собой? Он простил ей: сейчас ничто его не удивляло и не волновало – ведь все равно по–своему она любила его сильно, но все это осталось там, где недолговечно дышит и горит плоть.
Еще более жаль несчастную Ирину, первую жену; как‑то он прикрикнул на нее, и рот ее искривился плачем, глаза испугались, закосили, и она протянула, дрожа, руки, точно защищаясь от удара, хотя он никогда ее не бил. Лучше б он ее бил, чем то, что сделал с ней… Но и это сейчас непоправимо.
Что же еще можно сделать? Александра не знает про смертоносную песчинку, она в Ковеле развлекается от скуки больного этого имения, но приговор церковного суда может быть утвержден и гражданским судом, и тогда ее и детей выселят отсюда силой. Только король, если захочет, защитит их. Курбский сел с усилием, осторожно спустил нош; он решил встать и написать королю. Он долго не мог зажечь свечу: не попадал кресалом по кремню. Он зажег две свечи и сел писать, хотя кружилась голова.
«…Что касается имений моих и всего имущества, то я вполне надеюсь на природную доброту и милосердие его королевской милости, нижайше прошу его, чтобы он, как помазанник Божий, соизволил по смерти моей быть исполнителем сего моего завещания, последней воли моей… Потому что я служил его королевской милости, господарю своему, верно, доблестно и правдиво на собственный счет и на своем иждивении по мере сил своих. Поэтому я жену свою и детей своих отдаю и поручаю прежде всего милостивой ласке и обороне Господа Бога и его королевской милости…»
Он устал, обрывались мысли, слипались глаза. Он оставил незаконченное письмо–завещание на столе, добрался до постели и упал в сон–избавление. Он будто только что закрыл глаза – и вот их открывает и жмурится от солнечного блика на серебре подсвечника, и видит лицо Ивана Мошинского, который уже вернулся. Так быстро?