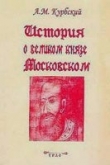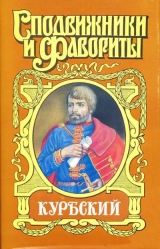
Текст книги "Андрей Курбский"
Автор книги: Николай Платонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
Огромный лагерь втягивал их в свое бивуачное, но устоявшееся житие, и они постепенно обживали тоже свой табор, уминались, утеплялись, прилаживались, таскали дрова, сено, щепки, остатки плетней и заборов, рыли землянки и строили навесы; постоянно горел костер под большим прокопченным котлом, фыркали, переступали кони у коновязи, голуби подбирали просыпанный овес. Такая жизнь была проста и понятна: не надо было пока ни о чем думать, день шел за днем в сменах караулов, поездках за кормом или просто так – лежи и смотри в небо.
Лагерь рос с каждым днем: все время прибывали новые вооруженные отряды. Все они располагались вокруг города за рекой, каждый за своим тыном – и польские полки, и литовская конница, и даже татарская конница Девлет–Гирея [62], и кнехты, и ливонские пушкари, и днепровские казаки. За турами и свежекопаными редутами смотрели на подъездные дороги жерла полевых пушек: лагерь был укреплен. А город тоже, туда никого не пускали.
Несколько дней Андрея никто не, беспокоил, и он ничего не хотел: он отдыхал. В сером рассвете каждое утро доносило из казачьего табора перекличку петухов: казаки возили их за собой в обозе, – а когда нежный восход поджигал летние облачка, из города приплывал далекий чистый звон с костела, колебался, стихал над спящим лугом, и немного погодя вставали, шевелились слуги, кто‑то колол дрова, тянуло под полог березовым дымком – варили завтрак. Русской церкви в лагере не было, поэтому утром молились кто как мог, и Андрею это не нравилось – это было непривычно и обидно, но быстро забывалось, потому что начиналась суета повседневная, а отряд его рос: приходили новые беглые с западной границы, в том числе и несколько его старых слуг из Дерпта, были русские и с Волыни, с Киевщины, с Гомеля – все они давно жили под Литвой, но про Курбского слышали не раз.
К вечеру многоязыкий лагерь начинал гудеть по–иному, и чем темнее становилось, тем хмельнее он гудел: нигде не пили столько водки и меда, как здесь, и Андрея это удивляло и сердило, особенно когда попозднее в гул вплетались скрипки, гогот, топот, бубны, смех, а иногда вспышки ругани и даже стрельбы. Стихало за полночь, разве только какие‑нибудь шляхтичи для освежения пускали коней вскачь по росе в луга мимо стана. «Когда‑нибудь дорого это веселье отольется! – думал Курбский, – Наедет Шереметев или Басманов, загонит вас всех в реку, искрошит задаром…» Это вроде бы даже радовало его, он себя одергивал, хотел сказать Радзивиллу, но тот как уехал в город, так и не появлялся, а посылать к нему мешала гордость. Правда, он обещал срочно отправить письмо–жалобу Курбского королю.
На четвертый день в город приехали какие‑то важные сановники под охраной польских панцирных гусар, а на пятый, в четверг, жарким летним утром, читали во всех полках грамоту короля Сигизмунда–Августа о близком походе для освобождения исконных ливонских и литовских земель, о воле Божией на это, а также о наградах, которые ждут всех, кто покажет себя в деле. Вечером приехал гонец звать Курбского в Вольмар к подканцлеру Войновичу и гетману Радзивиллу. Курбский оделся во все лучшее, что было, и, горько сожалея о том, что у него отняли гельмутские немцы, поехал за гонцом через вечереющий лагерь, взяв с собою дворянина Келемета, стременного Шибанова и еще пять слуг–воинов, у кого были кольчуги и добрые мечи. Это было все, что он мог с собой взять, хотя даже мелкий шляхтич приезжал с целой свитой разодетых свойственников и челяди. Гонец сказал, что после приема будет пир, но Курбский решил на пир в таком будничном платье не оставаться.
Подканцлер Войнович приехал прямо от короля из Варшавы после сейма, на котором решался вопрос о нападении на Полоцк [63]. Это первое, что он сказал Андрею, приглядываясь своими спокойными ироничными глазками и поглаживая подбородок. Войнович был коренаст, волосат, бугристое лицо некрасиво, ускользающий взгляд полуприкрыт. Он держал в руке письмо Курбскому от короля, но не отдавал, а говорил медленно, и слова его были как бы двояки – хвалебное и равнодушное смешивались в них, и от этого подымалась досада. Король и сенат сдержат обещание: после похода князь Курбский будет введен во владение городом Ковелем [64] и всеми имениями – местечками, деревнями, землями, мельницами и пашнями. Король назначил следствие по делу Курбского в Гельмете и, пока суд не решит («…А без суда в нашей стране ничего не решается, потому что шляхта наша свободна»), посылает Курбскому сто золотых дукатов, коня и рыцарские доспехи и назначает его командиром регимента для разведки боем по направлению на Полоцк. Князь Курбский должен показать себя во всем, потому что хотя король ему верит, но шляхта его не знает, а кто знает по войне, тот пока ему не друг… «Но теперь и не враг», – закончил Войнович и передал свиток Курбскому. Курбский поклонился и взял свиток двумя руками. Он выразил свою благодарность и желание честно служить, но просил отпустить его с пира, потому что он не имеет достойной такого общества одежды. Войнович усмехнулся и сказал:
– Мы в воинском лагере, а не во дворце, и здесь более прилична та одежда, что на тебе, а не павлиньи перья. – Они были одни в небольшом зале городской ратуши, а за дверями шумели гости, и Андрей понял, что Войнович имеет в виду польскую шляхту. Войнович был литвином. – Пойдем, – сказал он Курбскому, – теперь ты слуга короля, и все должны знать это.
В ярко освещенной зале стояли накрытые столы, глаза ломило от блеска серебряной посуды, золотого шитья, драгоценных камней и хрусталя, и кружило голову от запахов мяса, солений, варений, вин, настоек, меда и пива, от смеха и гомона, от криков «Виват!» после каждого тоста. На Курбского только некоторые поглядывали испытующе: в лицо его, кроме Войновича и Николая Радзивилла, здесь почти никто не знал.
Но вот подканцлер Войнович встал и поднял кубок за князя Курбского, «нашего нового соратника и воеводу», и десятки глаз с жадным любопытством прилипли к лицу Андрея.
– Верьте ему, как король верит, и любите его за его дела, – сказал Войнович, рот его плотно замкнулся, а зрачки ускользнули вниз.
– Как я его люблю, – произнес чей‑то холодный, низкий голос. – Потому что он мне стал другом.
Это сказал великий гетман Радзивилл Черный, и все изумились: он ни про кого так никогда не говорил, и в словах его было предупреждение. Курбский поклонился, он не знал, что ответить, глаза со всех столов отражали свет свечей и были или любопытны, или недоверчивы, а иные полны скрытой зависти и ненависти. Его имя слышали все. И у многих оно вызывало чувство позора, страха или мести.
– Панове! – наконец сказал Андрей. – Я не умею служить нечестно, потому и ушел от князя Московского – ему честно служить нельзя. Христианин не может служить ему честно – он требует крови невинных. Верьте мне, что я. исполню свой долг и волю Божию…
Он не знал, что сказать еще, и смешался – гнет недоверия нарастал, мешал думать свободно: Все ждали, но он молчал, хмурясь и краснея.
Выпьем за князя! – сказал кто‑то сбоку, и Андрей увидел дружелюбные глаза, золотистую бородку и ровные зубы в открытой улыбке.
Это был Константин Острожский [65]. Курбский выпил и кивнул благодарно. Почему‑то он никак не мог взглянуть на гетмана Радзивилла, который только что при всех назвал его другом. Надо было встать и поблагодарить гетмана, тоже назвать его другом и даже спасителем, но он не мог заставить себя это сделать.
Он ночевал в своем стане последний раз – завтра надо было переезжать в Вольмар, в дом, куда пригласил его Радзивилл Черный, а сегодня еще он спал на кошме, вдыхая запах сена, конского навоза, сухой земли и остывающих углей кострища. У входа на соломе спал Василий Шибанов. Он всегда так спал – у порога, много лет, и в жару и в стужу, незаметный, но не заменимый никем.
Курбский не мог заснуть – после бессонницы в последнюю ночь в Дерпте он потерял сон. А раньше засыпал, чуть коснувшись изголовья. Он не мог заснуть от мелькания мыслей, которые постепенно наполняли голову, как тупое жжение тяжелого вина; мысли были то тоскливы, то жестоки, яростны, и тогда он ворочался с боку на бок. Надо брать Полоцк, в котором сидит Петр Щенятев, а с Петром же они брали Полоцк год назад. Пятьдесят тысяч привели своих русаков и взяли штурмом пятнадцатого февраля. Был снежок по оттепели, на белом чисто алели пятна свежей крови, черно, вонюче курились головешки, звонили в церквах. Петр был свой, верный, воин бесстрашный, веселый на пиру и в битве, честный… А сейчас надо его брать, не щадить никого – на то и война…
Мысли лезли странные, яркие – не мысли, а лица, стены крепостные, следы подков на грязной улице и тело чье‑то раздетое, опухшее, без головы. Нет, не уснуть… Как он некогда спал! Как ребенок. На то и воинская жизнь, чтоб крепко спать – дело сделал и спи. Как дети спят… Дети… Как он тогда с Алешкой спал на сеновале, Когда в объезд ездил с ним по своей волости. «Чего ты хочешь от меня, душа моя?!» – Он спросил это шепотом, но увидел сына еще яснее: он скакал за ним к реке, к броду, вечером по розовато–бурому лугу, и конь Алешкин был алым. Алешка, сын девятилетний, в белой рубашонке, оборачиваясь, улыбался: «Попробуй догони!» – и белели зубы на загорелом лице, ветром относило выгоревшие волосы. По мелкой воде сын погнал вскачь через отмель–брод, вода брызнула золотым взрывом, раскололся тихий плес, а сын все смеялся – не догонишь! А на сеновале спал прижавшись, дышал еле заметно, золотился пушок на шее, безмятежно отдыхало детское лицо, тоненькая рука обнимала плечо. Что видят дети во сне?
Андрей опять открыл глаза. Боль и любовь возникли одновременно, и он не мог отвернуться, приглушить боль, потому что тогда пропадала и любовь; спящее лицо сына Алёшки стало пропадать, он стиснул зубы, но оно пропало, только детский запах остался на подушке. «Что ты хочешь, душа моя, от меня?» – спросил он еще раз. Душа хотела видеть сына: пусть будет боль, но и сын. «Боль – это жизнь, только если болит, значит, я жив», – подумал Андрей внезапно. Он знал, что днем опять омертвеет, одеревенеет, потому что на войне нельзя спокойно действовать, если не одеревенеешь, и сейчас он хотел опять вернуться к боли, но уже не мог.
Лица заполняли день, а дни заполняли время, летние суетливые дни сбора людей, коней, обозов, припасов и прочего военного снаряжения. Лица возникали внезапно, и некоторые из них выбивали из привычной суеты. Так возник Тимофей Тетерин, сотник, голова стрелецкий, бежавший из Псково–Печорского монастыря. Он стоял, высокий, пыльный, жилистый, прокопченный, смотрел светлыми глазами пытливо, смело и говорил:
– К тебе хочу, князь Андрей, ты меня знаешь, а я – тебя.
Так оно и было, и Курбский был рад. Потом к вечеру они сидели с Тимофеем и давно уже уехавшим в Литву стариком Семеном Бельским [66] и пили, и Андрею было неловко от той спокойной жестокости, с которой Тимофей и Семен вспоминали неудачи в походе на Ревель, где у пленных стрельцов шведы выжгли глаза, и еще более стало противно, когда Бельский, презрительно поплевывая, начал высмеивать невежество русских дворян, их неразборчивость в еде и деревенскую простоту, а главное – их мужицкие суеверия. «Кто ж ты сам? – думал Андрей. – Какой ты веры? Уж не отступником ли тут стал? Тимофей‑то свой, православный, но и Тимофей не будет пленных брать…» От мыслей этих поднималась изжога душевная, пустота…
Старик Бельский мельком, но цепко глянул на помрачневшего Курбского.
– Хороша у тебя брага, князь, – сказал он.
– Это не моя – Радзивилла Черного. Моего тут ничего нет…
– Наживешь, не сомневайся, – сказал Бельский.
У него была маленькая тускло–серебряная голова, морщинистое остроносое лицо, сухое, обветренное, а глаз как у птицы – зоркий, неморгающий.
– Наживем, была б голова на плечах, – подхватил Тетерин. – Это не то что у князя Московского – у него одни дьяки безродные да шептуны в соболях ходят, а мы, войсковые вечники, хрен от него получали за наши раны.
– Кто сейчас в Юрьеве сидит? – спросил Курбский.
– Морозов Михаил Яковлев сын. Вместо Бутурлина прислали, но и он долго не усидит, мы ему так с Сарыгозиным [67] и отписали.
– Отписали? – удивился Бельский. – Зачем?
– А он обо мне и Сарыгозине пану Полубенскому [68] писал с бранью, изменниками нас окрестил, собака! – Голос Тетерина повысился, лицо побурело. – Не постыдился так обозвать православных! – Он пристукнул кулаком по столу. – Но мы ему отписали, как отрезали. Да вот, хотите, я прочту – список при мне…
– Прочти! – сказал Бельский.
Тетерин вытащил лист, разгладил, откашлялся.
…Господину Михаилу Яковлевичу Морозову Тимоха Тетерин да Марко Сарыгозин челом бьют! Писал ты, господин, в Вольмар князю Александру Полубенскому и оболгал нас, а мы хоть и тоже умеем собакой отбрехиваться, но не хотим твое безумство повторить. Знай, что если б были мы изменниками, то мы бы давно от малых неудобств и тягот сбежали с государевой службы, но мы терпели ради Христовой заповеди и отъехали только от многих нестерпимых мук и от поругания монашеского чина – ангельского образа… И ты, господин, бойся Бога больше гонителя и деспота и не зови лживо православных христиан изменниками!
Тетерин сложил письмо и оглядел лица товарищей.
– Там мы еще приписали ему, что и его истребят с женой и ребятишками – пусть подумает!
– Да, – сказал Семен Бельский и кивнул. – Пусть подумает, да и не он один!
Курбский промолчал.
На другой день к вечеру пришел человек в немецком платье, сонный, носатый, и сказал:
– Ты, вижу, не помнишь меня, князь. Я слуга графа Арца, Олаф Расмусен [69].
Тогда Курбский вспомнил, как ночью под Гельметом караульные привели к нему в шатер этого человека. Он был не сонный, просто лицо его стало бесчувственным, стертым, как у тех людей, которые всю жизнь живут опасной профессией лазутчиков и потому как бы омертвели до незаметности. Олаф был шведским перебежчиком.
– Где граф Арц? – спросил Андрей.
– Его колесовали в Стокгольме, – бесцветно ответил слуга графа. – Прошу тебя, возьми меня на службу, потому что теперь мне не доверяют ни шведы, ни немцы, ни поляки.
«Так вот почему, – подумал Андрей, – вместо открытых ворот Гельмет угостил нас картечью!»
– Кто предал нас? – спросил он.
– Не знаю, – ответил слуга. – Если б я знал, то убил бы этого человека. Даже если б он был герцогом.
И Андрей, глядя в его мутные, вялые глаза, поверил в это.
– А где наместник Гельмета герцог Юхан?
– Его казнил наш король, хотя он не знал, что граф Арц хотел сдать тебе город.
Курбский подумал и взял слугу графа к себе в дом: люди, у которых никого нет, бывают верными.
Унижение беглеца, нищего, одинокого, подозреваемого всеми… Изменивший одному сюзерену изменит и другому, и третьему. Не верь перебежчику. Не верь иноверцу. Заменить родину нельзя, как нельзя отречься от матери. Можно, конечно, и от матери отречься, но такому человеку не место ни на земле, ни даже в преисподней… «Наверное, так думают про меня литвины и поляки», – повторял про себя Курбский, и от этого росла с каждым днем мечта изгнать Ивана, царя Московского, и посадить на его место достойнейшего из Рюриковичей, может быть даже его сына. Но – изгнать! Эта мечта родилась ночью и не давала спать по ночам, не с кем было поделиться этим замыслом. Сам с собой, воспаляясь постепенно во тьме, ворочаясь, шепча под нос, он высчитывал количество пехотинцев, пушек, даже сколько надо будет пудов муки, сала, гороха, овса… Он вычерчивал в мозгу пути через леса, намечал переправы, броды, объезды болот, составлял письма боярам, князьям, сжимал челюсти и кулаки. И все это от унижения, в которое вверг его Иван, вынудив к побегу…
– Надо выступать не на Полоцк, а на Москву, – говорил Курбский Радзивиллу Черному. – Если мы соберем пятьдесят тысяч и сто пушек, мы пройдем до Москвы. Я один знаю, как провести такую армию. Закуйте меня, привяжите к телеге и, если я солгал, убейте. Иван боится, он побежит, его не будет никто защищать, кровопийцу и кощунника!
Лицо Курбского наливалось гневом, глаза голубели отчаянием. Радзивилл смотрел на него и качал головой, ничего не отвечая.
Петр Смолянинов [70] – последний из близких друзей – появился вечером как из небытия, в польском кафтане с расшитой перевязью, волосы его были расчесаны, на груди – золотая цепь. Сначала Курбский его не узнал, потом узнал и изумился, а вглядевшись в радостное лицо Петра, в его глаза, не скрывающие любви, встал с кресла и прижал к груди. Отодвинул, еще раз вгляделся и опять прижал как брата.
– Откуда ты?!
Еще из Дерпта в марте он послал Петра, молодого, но начитанного, преданного духовным писаниям, в Полоцк к владыке Киприану, епископу Полоцкому, хранителю лучшей библиотеки в Западной Руси. Он писал Киприану и просил сделать для него список с рукописи Филофея [71] о «Москве – третьем Риме» и с писем кирилловских старцев против иосифлян [72]. Петр уехал и как сквозь землю провалился. А потом был побег, мытарства, и все стало истаивать, стираться в памяти. Но вот вдруг это явление, эта искренность, молодая, правдивая.
– Откуда ты?!
– В Полоцке узнал я вести из Москвы о царских опалах на родню мою в Ярославле и решил бежать, – говорил Петр, улыбаясь счастливо. – И король дал мне имение в Кременецком повете – Дунаев и Вороновцы, и там я побывал, а теперь вот сюда, в войско, со своим отрядом… А здесь узнал я, что и ты, князь, тоже… – Петр смутился чего‑то: он всегда был чуток, как женщина.
– Да, – сказал Курбский, – и я. Но имения еще не получил и беден – вон ты как вырядился, а мне…
– Я пришел, князь, – сказал Петр, волнуясь, – просить тебя взять меня и моих людей под свою руку, хочу с тобой!..
Курбский покраснел от радости, тряхнул Петра за плечи.
– А не пожалеешь?
– Возьми меня, князь, я так хочу…
– А если гетман не разрешит?
– Разрешит. Я уже был у него.
– Был?
Курбский только головой покачал; не диво, если к нему просились нищие беглецы, но Петр, уже награжденный королем, шляхтич, имеющий воинов под своим командованием…
– Я рад, – сказал он Петру. – Я один здесь среди их знати, хотя со мной и Келемет, и Кирилл, и другие верные, но я рад, Петр. Садись же, сейчас подадут вина, есть хочешь? Садись и рассказывай!
Так Петр Смолянинов, которого в Литве звали Петр Вороновецкий, перешел служить к Курбскому до конца своих дней.
4
Вечером девятого мая в небольшой спальной палате, освещенной лампадами киота, на незастеленном ложе лежал, закинув руки за голову, крупный, полнотелый человек с закрытыми глазами. У него было серое, измученное лицо, глубокие залысины и редкая рыжеватая борода; толстоватые губы полураскрыты, чернеют ноздри большого носа, равномерно подымается грудь. Но он не спит, хотя все тело расслаблено, недвижно. У него побаливает печень, горчит во рту, и ему жарко от натопленной печи. Он лежит в полудреме, в том состоянии почти полного безволия и безмыслия, которое так редко наступало за последние четыре года после смерти жены. Он боится спугнуть это состояние, которое опустилось в него потому, что он решил отложить то ночное подпольное действо, начавшее подчинять его волю уже после обеда. Он боролся с ним в себе самом жестоко, до изнурения и пота, который украдкой утирал, а сейчас, изнеможенный, но притихший, прилег, потому что наваждение отступило.
Сейчас этот человек был доволен уже тем малым, что мог не думать и не желать ничего час или полтора. Он опускался в тишину теплого безвременья, в золотистый сумрак, сквозь ресницы плыли блики в серебряном окладе Спаса Вседержителя, в чеканке дробниц с ликами Иоанна Предтечи и других семейных защитников: Анастасии Узорешительницы, Иоанна Лествичника, Федора Стратилата. Они охраняли его. Запах воска, ладана, мяты и бараньей полости, запах горячего стекла лампад – все это тоже охраняло. А главное – он от буквы до буквы прочел все молитвенное правило и сделал положенное число поклонов. Он был уверен, что если бы пропустил хоть один, то не наступило бы это погружение в мир безопасности. Не открывая глаз, он видит, как растворяется, клубится свод низкого потолка, как исчезают стены, киот, ковер, притолока дверная, и сочится ручейком талым забытая жалость к мальчишке, долговязому, веселому, который бежит за другим, постарше, за Андреем. Андрей ведет в поводу сытую лоснящуюся кобылу, а Ивашка его догоняет, мурава щекочет босые пятки, в голубых лужицах плавают пушинки: мягкое тепло, радость, теплая губа кобылы, под которую он засовывает ржаную краюху. Андрей подсаживает его. «Не за гриву, за повод держись!» Сам садится сзади, прижимает к груди, дергает повод, сквозь рубаху слышно, как бьется ровно его сердце, колеблется земля волнами от неспешного бега лошади. «Быстрей! Еще!» – кричит Ивашка и хохочет.
Где теперь этот Ивашка, который так любил и кобылу, и Андрея, и пух одуванчиков в луже? Что вы с ним сделали, окаянные?
Он открывает глаза – свод каменный низок, закопчен, в углах копится тьма. «Не надо!» – просит он сам себя. И долго ждет, чтобы вернулась жалость.
…В той спальне, где, говорят, умирал отец, тоже тьма по углам, сквозняк колеблет свечу, и тогда видны белки и зубы толстобрюхого Шуйского [73], который привалился в сапогах и шапке на отцово ложе, ковыряет в зубе, бубнит–наставляет что‑то, а сам ждет, и мальчишка на табурете, немытый, голодный, тоже ждет чего‑то, угнув голову, глотая страх и ненависть; и вот топот в сенях, вопль – Шуйский, усмехаясь, лениво слезает с ложа, – кого‑то волокут через сени, бьют на крыльце в затылок, насмерть. «Доигрался, Федька!» – довольно сипит Шуйский и не спеша выходит, а мельчайшая дрожь колотит зубы, стискиваются кулачки, и, когда вбегает Андрей, прорываются беззвучно слезы. Андрею уже шестнадцать, меч на бедре, голос строг, бесстрашен: «Не бойсь, это Федора Мишулина они, тебя не тронут, не бойсь, идем со мной – убью любого, если…» И рука в руке, горячей, крепкой, и горячо в сердцевине груди. Слезы? От любви слезы, да. Что такое слезы? Забыл, забыл… Руку мамки он еще любил – мягкую, старческую, бережную, надоедную, когда все гладила по голове, шамкая, шептала–напевала сказку… Мать он тоже любил, но незаметно, молчаливо – слишком она была далека. Лица их в тумане, в зыбкой полутьме невесомой, человек на ложе забыл себя, он не здесь. Он тонет в теплоте забытья.
…Кто это рыдает над крошечным синим трупиком? Она? Анастасия? А еще кто? Неужели великий князь Иван? Быть того не может. Но было: на набережной, на истоптанном талом снегу, куда вытащили уроненного со сходней первенца, младенца Димитрия. Наследника… [74] Нет, просто безвинного младенца, который захлебнулся, как кутенок, за две минуты… Билась, вырывалась Анастасия, он обнимая ее за плечи, глотая соль, крик, в черной воде крутилось ледяное крошево, сияли блики голубые на холодной ряби… А сквозь горе подувало живым мартовским ветром, и в нестерпимом мучении все равно почему‑то была жизнь; От любви? Андрей тоже предупреждал его: «Не езди!» Может, он был и прав тогда? Где он сейчас? Ах да, в Юрьеве наместником.
Человек открыл глаза, увидел, что свод потолка вновь стал низким, тысячепудовым, тусклым, и опять смежил веки. Мгла под сводом все выше, бледнее звезды над предутренней мглой, пар слоится над рекой, зарево небесное и зарево пожара в Казани догорающей слились, роса мочит сапоги, знакомый голос говорит рядом: «А Курбские оба пали. И Роман и Андрей». Останавливаются ноги сами от несчастья, хочется спросить: «А тела нашли?» Но он молчит, чтобы не выдать дрожь нижней челюсти. С кем это было? С ним? Мало ли тысяч тогда пало. Да, пусть сидит Андрей в Юрьеве – слишком уж он любил Адашева, слишком много знает. Он и в опале будет служить верно… «Но тогда зачем я послал Шемета Шелепина его взять?»
Это была уже здешняя, грубо–откровенная мысль, и все исчезло. В комнате было душно, жарко, затекли руки под затылком, он вытащил их, потер; сна не стало ни в одном глазу. «Да, вот здесь сидел тогда Андрей, слушал, кивал, когда я посылал его в Ливонию. Некого было послать, а он не изменит… Верю ему. Но тогда зачем Шелепин? Зачем велел Андрея взять?»
Он сел на ложе, еще не совсем вернулся в себя: все мешалось и коверкалось – тепло и холод, детство и самодержавие, слезы и коварство. «Шелепина теперь не воротишь назад, а может, Басманов и Грязной [75] правы, послал и послал: для дела государева, для Руси святой все годно. Око мое – государево око. Привезут – может, и помилую…»
Он не стал звать спальников, снял одежду, лег поудобнее, накрылся, вздохнул и уже начал погружаться в обычную слепую темноту, когда в соседней палате, где стояла стража, завозились, зашептались, и сразу поджались уши, зорко раскрылись глаза.
– Кто? – крикнул он громко. – Кто? Войди сюда! – И сел, нащупал посох–копье, прислоненное к изголовью.
Вошел Алексей Басманов, сивый, большеголовый, самый жестокий и умелый советник. Хотя и боярин. Иван Васильевич знал, что без дела Басманов не посмеет будить его. В руке боярина был свиток.
– Откуда? – спросил царь.
Басманов следил за его зрачками, которые бегали, ощупывали, за прикушенной нижней губой. Опасно!
– Из Ливонии. Из Юрьева.
– Ну?!
– Курбский Андрей к Сигизмунду сбежал, – сказал Басманов и весь напрягся в ожидании – не подвернуться бы под горячую руку, отпрянуть вовремя.
Но царь не шелохнулся, только брови поползли изумленно, отвисла нижняя губа.
– Андрей?! – переспросил он и задохнулся, застыл на миг. Миг этот длился как удушье, потом прорвалось дыхание, заходила грудь. – Быть не может, – заговорил он негромко, словно раздумывая в полусне. – Андрей сбежал? У него, у него… Ты что, Андрей, сделал? – спросил он темное оконце в сад. – Ты ж мне клялся? Зачем же клятву предал? А? Что ж я теперь? С кем мне, а? – Голос его повышался.
Басманов ждал: он знал, что бывает, когда в голосе царя прорываются эти рыдающие нотки. Но Иван встал медленно, подошел к киоту, постоял, отвернув лицо, заговорил властно:
– Возьми сотню своих – удвой стражу в крепости, к реке, к Водовзводной башне вышли на берег двадцать дворян и жди меня с ними там… Нет! Иди удвой стражу и позови ко мне Вяземского [76], Василия Юрьева [77], Зайцева Петра, царевичей – Ивана и Федора… [78] – Он говорил рассеянно – о чем‑то размышлял углубленно, Басманов сейчас его не понимал. – Будь и сам здесь, ждите в палате, пока не приду, сюда не ходите, а если… Иди! – выкрикнул он, и Басманов быстро вышел, бесшумно ступая, пригнув сивую голову.
Иван еще постоял перед киотом. Он смотрел на лик Царя Царей в серебре и золоте, на лики домашних святых, но ничего не чувствовал, кроме страха, который исподволь подымался, переходя в слепой ужас. Губы шептали молитву как заговор: «…Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы, летящия во дни, от вещи, во тьме преходящия…» – а мысли шли и шли: «Теперь все пропало – нет никого в Ливонии, и возьмут ляхи Полоцк, Псков, Смоленск, восстанет Новгород, подымутся не истребленные еще роды, князья удельные, княжата, старицкие, суздальские, рязанские и иные, схватят, заточат… Бежать, бежать!»
Он оглянулся затравленно: нет, не их немедленной мести он боялся, а какой‑то огромной надвигающейся тени–беды, от которой никакое войско не поможет. «Если такие, как Андрей, изменяют, то нет со мной никого отныне и навсегда». Он подошел к стене, отвернул тканый ковер, нажал, сдвинул каменный блок на оси – тайный лаз, который сделал Алевиз–итальянец [79], построивший эту палату еще при отце князе Василии [80]. Из лаза, закрывшегося за спиной, светя огарком, спустился в каменной тесноте на четыре ступеньки в свою вторую спальню, где стоял стол, лежали свитки, книги, перья, а у стены – узкая кровать – нары. Со стены смотрел странным взглядом архангел Михаил – архистратиг небесных сил бесплотных. Здесь Иван Васильевич скрывался от всех в часы смятения или важных решений, а чаще всего – от страха перед возмездием. Под угрозой казни сюда никто не смел входить, что бы ни случилось. Он сам зажигал здесь свечи – окна не было, – сам стелил постель. Отсюда шел подземный ход в подвал–тайник Водовзводной башни Кремля. Хода этого после смерти Алевиза никто не знал.
Иван Васильевич зажег от огарка толстую свечу перед иконой, постоял, опустив руки, расслабив плечи и маску лица: пока он был в безопасности. Тишина здесь была совсем глухая, как в склепе, от каменных стен тонким ознобом постепенно пробирало потную спину, а тишина давила, и надо было ее пробить – впустить воздуха. Он раскрыл книгу на аналое, всмотрелся в строчки, и глаза сузились: «…Помысли, душе моя, горький час смерти и Страшный Суд Творца твоего и Бога: ангелы бо грозны поймут тя, душе, и в вечный огонь введут… – Глаза хотели оторваться, убежать, но не могли. – Не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бо сия не веси кому оставиши…»
Он содрогнулся – эти слова Покаянного канона он десятки раз читал, но сейчас они были не написанными писцом ровными строчками, а чьим‑то голосом беззвучным, но громовым, проникающим в мозг, в печень, в дрожащую беззащитную плоть: это была угроза физически ощутимая, словно стылой мертвечиной дохнуло в ноздри от низкого свода. И опять, как там, наверху, волнами стало накатывать, приближать неведомый ему дотоле ужас.
Иван покосился туда, откуда приближался ужас, и увидел, что архангел за ним наблюдает неустанно, исподлобья, и не было милосердия в его затененном взоре. Да, давно подозреваемое подтвердилось: это совсем не архангел Михаил, заступник невинных, это – Ангел Смерти. Вот настал срок, и он пришел за ним, за Иваном, не за царем всея Руси, а за озябшим, напуганным человечком, у которого болит печень и пересохло во рту и нет ни единого друга на земле, нет убежища и, главное, нет оправдания…
Иван знал, почему все скрестилось сегодня – измена, болезнь, Ангел Смерти: то, что он, Иван, хотел сделать сегодня ночью, но отложил, было преступно и вызвало неотвратимую кару. То, что он хотел, предстало сейчас выпуклой кровавой похотью, которая затягивала, он знал это, в похмелье на много дней и была настолько сладостна и противоестественна, что ее нельзя ничем было отмыть, – ведь слез покаянных на это у него давно нет, да и не может быть: кощунство безводно от гордыни. Значит, он, Иван, пропал, потому что гордыню рождает власть, и она же рождает страх, а страх – жестокость, жестокость – сладострастие, и все сначала, в клубке слизисто–кровоточащем, пульсирующем… Нет, не государство это – зачем себе врать? И не человечье даже. «А чье?» – шепнул он, съеживаясь, и замер: грозно, неподкупно смотрел на него Ангел, во взгляде его стояла близкая смерть. «…Никто не знает, где я, кричать – не услышат, а Басманов, может, тоже уже изменил, и в башню тоже не выйти, еды и питья здесь нет. Сколько может человек без еды? Сколько выжил тогда Куракин [81] без еды в заточении? Говорили, почти месяц… О чем я, безумный! А сколько ложно умерший во гробе может прожить? Как мне Мария–католичка, ведьма, напророчила: умру ложно. Крика никто из гроба не услышит…»