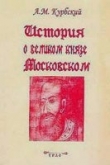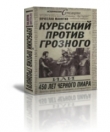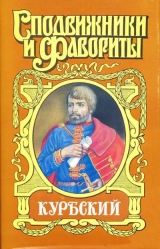
Текст книги "Андрей Курбский"
Автор книги: Николай Платонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
В Миляновичи пришел вызов в Вильно на суд по делу незаконно заключенного договора со свободным подданным Речи Посполитой Кузьмой Порыдубским. За неявку в суд указ, подписанный канцлером и скрепленный печатью самого Стефана Батория, грозил лишением прав на земли и наместничества в ковельском имении.
Никто еще не разговаривал с Курбским таким языком. От обиды и гнева он хотел сначала запереть ворота и письма не принимать, но Мария отговорила его:
– Ты не знаешь хорошо нового короля, а я слышала от Радзивиллов и от Слуцких, что он не Сигизмунд, он расправляется с ослушниками беспощадно. Ты помнишь Малиновского из Сандомирского старостата? Еще в Варшаве мы были у него в гостях? Так его за то, что не представил определенное число конницы и пехоты, судили, и сенат приговорил отнять у него старостатство, наложить арест на имение и оштрафовать на несколько тысяч.
Сам Курбский, отговорившись болезнью, не поехал в Вильно, а представителем своим послал ковельского городничего Кирилла Зубцовского. В январе, пробиваясь сквозь сугробы, Кирилл вернулся с постановлением суда: «Возвратить Кузьме Порыдубскому землю и имущество, за тюремное заключение вознаградить и впредь оставить его в покое как королевского слугу». Порыдубский получил особую охранную грамоту короля и въехал в свой дом, где не был около шести лет, а человека Курбского, который там жил, выгнал с семьей и грозился убить, если тот сунется обратно. Курбский, узнав, затрясся от гнева, велел седлать, вооружаться, разбил дорогой венецианский бокал, изорвал королевский лист. Но Кирилл привез из Вильно и письмо от старого Григория Ходкевича, в котором тот по–дружески, хоть он мог и приказать, предупреждал Курбского, чтобы тот не противился ни в чем воле Стефана, потому что король гневен на него и решителен: в полевом лагере под Венденом казнены по его приказу два дезертира, он приказал заключить в замок трех знатных Шляхтичей. «Не строптивься, пан Андрей, – писал старик гетман, – новые настали времена, и может быть, и к лучшему – сам знаешь, как наша вольница расшатала порядок и в войске, и в государстве. Планы короля великие, в феврале на сейме всё узнаем, а сейчас выезжай к нам, болезнями не отговаривайся и людей представь сполна в полном порядке при оружии и припасах, как ты сам, воитель опытный, знаешь…»
После Крещения в санях, закутавшись в волчью полость, Курбский выехал в Вильно.
Вильно был забит войсками и шляхтой, приехавшей на сейм. Снег по дорогам и улицам истоптали, смешали с грязью, но на крышах, на кровлях башен и зубцах стен снег белел в голубоватом свете низкого неба нетронуто и отрешенно от людских дел. Тучи грачей с карканьем кружили над вязами городского парка, дым от очагов разносил запахи мясной похлебки. Стаи одичавших собак по ночам рыскали на окраинах – они пришли вслед за войсковыми обозами. А за собаками, говорят, потянулись из лесов и волки, и в двух–трех верстах от города в одиночку потемну было ездить опасно.
Первое, что узнал Курбский у Григория Ходкевича, было: Александр Полубенский попал в плен, но ведутся переговоры и его должны обменять на какого‑то русского боярина. «Не на меня ли?» – подумал Курбский. Ходкевич не менялся – такой же седокудрый, обветренный, долгоносый, он хитро щурил стариковский глаз, шевелил бровями, говорил хрипло, грубо:
– Настало время наши земли исконные у московитов отобрать. Ты не гляди, что мы в Ливонии столько отдали: король не велел мне за их замки людей терять, мы всё стянули к границе, ждем немецкой и венгерской пехоты, пушек новых легких ждем, все войско король меняет, хочет сделать как у французов или голландцев – ядро постоянное, не по доброй только воле, но по договору и за деньги, но зато всегда при войске будем, кланяться и бегать за шляхтой не будем и в поле, как у шведов, можем тягаться с любым врагом…
Курбский слушал, вникал, а интереса почему‑то не было, хоть он и сам раньше говорил за такой порядок и завидовал выучке немецких кнехтов и дальнобойности английских пушек.
– …Приходи сегодня вечером, – говорил Ходасевич. – Я хоть и наместник Ливонии, но сижу в Вильно уже два месяца – король велел новую роспись сделать воинской повинности по всем литовским землям. Думаю, он еще себя покажет!.. – И гетман задумчиво потянул себя за ус.
– Где ставка короля? – спросил Курбский. – Я должен к нему явиться?
– Нет, ты под моим началом. Богуш Корецкий про тебя спрашивал и Тимофей Тетерин. Он теперь полковник стрелецкий, как у вас говорят, а по–нашему – ротмистр панцирных аркебузиров.
«По–нашему, по–вашему, – думал Курбский, хмурясь, – четырнадцать лет прошло, а все не забывают, что я перебежчик. Но кто посмеет так меня назвать?!»
Ходкевич не об этом думал:
– Как панна Мария? Не забуду я тот полонез с нею! Повезло тебе, Андрей: ты вон поисхудал, с лица спал – все не угомонишься! – И старик захохотал.
Курбский жил в доме Острожского: хотя самого хозяина и не было, но смотритель усадьбы, узнав о приезде князя, пришел и сказал, что получил приказ отвести ему комнату и кормить его и поить, пока он живет в Вильно. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей, – думал Курбский, вспоминая Константина, – А я так и не написал ему ничего, кроме того ругательного письма про еретика Мотовила…»
Царь Иван через полтора месяца снял осаду Ревеля, взять который не смог, и, оставив наместником Ливонии Магнуса, уехал в Александрову слободу [179]. В феврале был сейм, на котором Стефан Баторий обещал литовцам вернуть все их земли вплоть до Великих Лук, взять Полоцк и Псков и освободить Ливонию. Ключом к Ливонии был Полоцк, и после сейма на тайном совете было решено начать с него, а для отвода глаз отобрать обратно крепость Венден. Пока послы Батория в Московии торговались о вечном мире, хорошо вооруженная армия, подтянув артиллерию и обозы, заняла Венден, оставленный царскими войсками. Здесь поляки соединились со шведами, от которых узнали, что русская армия, выслав вперед татарскую разведку, спешит к городу. Баторий приказал идти навстречу, татарская конница не выдержала удара тяжелой шведской кавалерии, русские окопались за тыном в полевом лагере, выкатили пушки и дотемна отстреливались, но ночью бояре – четверо воевод: князь Иван Голицын, Федор Шереметев, князь Андрей Палецкий [180] и Андрей Щелкалов – бежали, бросив все. Другие сотники и воеводы не бежали, но утром сдались. Не сдались пушкари – все повесились на дулах орудий, и заря осветила их белые лица, на которые с ужасом и уважением смотрели подошедшие вражеские полки.
Курбский узнал об этом от очевидца и весь вечер ни с кем не говорил, сидел, не зажигая свечи, в своей комнате и от ужина отказался. В лагере под Венденом погибло более шести тысяч русских, польско–литовское войско отбирало ливонские города один за другим, из Венгрии все прибывало подкрепление: наемная закаленная пехота, мушкетеры и копейщики, для которых война была ремеслом с юных лет. Их ставили на постой в замки, и жители ненавидели их и боялись больше татар, но никто не смел противиться.
Наступала весна. Вода текла через дорогу, обтаяли опять поля, грачи ковырялись в навозных кучах, у лошадей лезла шерсть, лица обветривало на припеке, и хотелось дремать, подставив тело голубому потоку с небес, хотелось стать бездумным не на миг – навсегда, как в детстве.
Было начало апреля, когда с партией обмененных польских шляхтичей прибыл в Вильно Александр Полубенский. Он привез Курбскому послание, которое начиналось пышно и многословно с перечисления всех титлов: «…Так пишем мы, великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский и царь Астраханский, государь Псковский и великий князь Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский…» и прочая и прочая вплоть до земли Лифляндской и Сибирской. На послании, как на грамотах посольских, висели на шнурах красные печати с царскими гербами – Георгий Победоносец, пригвождающий змея, – и оттого оно стало для Курбского еще казенней, неинтересней… Но он дождался ночи, услал слуг и сел перед трехсвечником читать.
Странно было читать этот ответ, запоздавший почти на четырнадцать лет, и вспоминать самого себя в Вольмаре, чудом выскочившего из этих длинных жилистых рук, еще горячего от ненависти и погони, обличающего беспощадно, язвительно, обдуманно. Странно было теперь сидеть в этой сырой чужой комнате в Вильно и пытаться раздуть потухший под пеплом лет былой жар, страсть молодую, оскорбленную. Но в Иване меж строк страсть эта еще кровоточила, несмотря на годы, и письмо это он написал не только из торжества после ливонских побед – таилась в письме старая обида, бессилие злобное, неуклюжие оправдания. Кому он писал? «Изменнику, собаке и холопу»? Или другу юности, своей больной совести?
«Да, Иван, не забыть тебе меня до гроба. Да и мне – тебя…
«…Писал ты, что я растленен разумом…»
Не писал этого, писал про «совесть прокаженную».
«…Сколько напастей я от вас перенес, сколько обид, оскорблений!»
Кто тебя мог обидеть из нас, Иван, когда мы тебя с Адашевым и другими грудью везде защищали? Вспомни Казань и Ливонию.
«…В чем была моя вина перед вами с самого начала?»
Неужели осталась в тебе крошка совести, раз спрашиваешь?
«..А с женой моей зачем вы меня разлучили?»
Жену твою Сильвестр защищал от тебя же, а если лезла она не в женские дела, то тебе же о том, а не ей говорили.
«..А для чего взял ты стрелецкую жену?»
Эко вспомнил! Да, было по молодости в Коломенском, не помню уже лица ее, тело только чуть–чуть, с тобой же во хмелю заехали. А сколько у тебя, царь всея Руси, было жен, насильно венчанных, насильно заточенных, со свету сжитых? Молчи уж!
«А зачем вы захотели князя Владимира Старицкого посадить на престол?»
Воистину лишился ты разума, Иван! Кто мыслил всерьез такого глупого, подслеповатого на престол сажать? Сам же его придурком обзывал и смеялся, и сам же казнил его с малолетними детьми…
«…Вы с Сильвестром и Адашевым мнили, что вся русская земля у вас под ногами…»
Эх, Иван! Сам ты не веришь тому, что пишешь, и зачем пишешь все это? Для иностранных дворов? Так то мелко и неуместно: стрелецкие женки, Сильвестр–бессребреник, Адашев – кроткий ревнитель – все ведь и здесь всё знают почти. Зачем тебе это? Похвалиться, что Вольмар захватил? Что вышел к морю? Да мне‑то что – скоро увидимся, верю, но не в Ливонии или еще где, а в стране неведомой, в иных краях, пустынных, страшных, где судия нелицеприятен и обмануть его красноречием нельзя…»
Курбский смотрел сквозь огонь на свечи, пытался увидеть лицо Ивана и не мог – расплывалось оно, серое, безволосое, только зрачки бегали, Как козявки, а потом и это пропало. Он подвинул лист, вздохнул: ничего писать не хотелось – не Иван был перед ним, а Нечто, нечто темное, как облако странное, нанесенное нежданно в светлый день неведомо откуда, не то облако, не то клок вонючего дыма с торговой площади, где идут казни… Что облаку–дыму ответишь? Он с трудом оторвался от видения, написал: «…А хотел, царь, ответить на каждое твое слою и мог бы написать не хуже тебя, но удержал руку свою с пером, потому что возлагаю все на Божий суд… А посему подождем немного, так как верую, что мы с тобой близко, у самого порога…» Он приписал эти строчки к письму, не отправленному им много лет назад.
Письмо это теперь было отправлено в Александрову слободу с одним из обмененных пленных дворян.
Курбский томился в Вильно, почему‑то никуда назначения не получал, но и домой не отпускали. Все знакомые: Корецкий, Радзивилл Рыжий [181], Спыховский, Чарторыйский, Слуцкие – были при войске, стояли в заслонах на левобережье Двины под Полоцком, а также на дорогах от Дерпта и Вольмара. А он сидел здесь. Или король ему не верит? Боится, что изменит? Он мерил шагами угловую комнату, в окно свежо дуло земляной сыростью, настоем молодых почек и трав, майской ночью; сквознячок шевелил язычки свечей, пусто было, тревожно.
Король задержался в Варшаве, вместо себя прислал нового верховного гетмана – пана Замойского [182], рыжевато–седого сутулого великана, лысого, голубоглазого, со скопчески сжатым ртом. Он был со всеми одинаково молчалив и непреклонен, мародеров и дезертиров вешал без суда, а шляхтичей бросал в подземелье в оковах, судил именем короля быстро и беспощадно. С Замойским опять пришла венгерская пехота – еще корпус, присланный братом Стефана князем Семиградским, и на конной тяге новые немецкие пушки с прислугой. Что‑то копилось, надвигалось, но время еще не настало, в Москву поехали новые послы толковать о мире, об уступках и обидах, а под Вильно вдоль реки обучали пополнение, рыли редуты, брали с криками крепость из бревен, стреляли боевыми ядрами по деревянным щитам, на наплавных мостах форсировали речки. Шляхетскую конницу в этих маневрах почти не использовали, и она скучала, пила, спала, буянила иногда, и тогда из замка наезжали панцирные гайдуки Замойского – мрачные верзилы, – брали под стражу, увозили на допрос.
Двенадцатого мая прошла сильная гроза с ливнем, молнией разбило древний дуб за костелом святого Иоанна; старые люди говорили, что скоро быть войне. Вечером Курбский вышел подышать в сад, еще мокрый, парной, медленно шагал по дорожке, усыпанной цветением вишневым, сбитым ливнем, принюхивался к очищенному грозой воздуху, слушал, как иногда срывается, шлепает по листу редкая капля. На западе безоблачно и ровно золотился закат, обещая хорошую погоду, в овраге меж домами у ручья пробовал щелкать первый соловей. У крыльца Курбского ждал управитель дома, протянул запечатанную воском записку, кто‑то передал привратнику.
– Кто?
– Не сказал, верховой какой‑то, с виду простолюдин…
Курбский пожал плечом, прошел к себе. Не скидывая плаща, зажег свечу, повертел согнутый кусок пергамента, запечатанный просто – не печатью, а прижатой к воску монетой, распечатал. Было написано по–польски незнакомой рукой, тесно и черно: «В ТВОЕМ ДОМЕ ИЗМЕНА. ПОСПЕШИ».
Он нагнулся, перечел медленней, точно на ощупь, стало биться в виске напряжение, подметный лист прилипал к пальцам – и его передернуло, будто шмыгнуло что‑то склизкое, смертоносное перед самым лицом. Измена? Чья? Кому? Но он уже чувствовал, чья и кому, он уже гнал эту пакость, это подозрение, он ходил из угла в угол, сжав губы и кулаки, а глаза не отрывались от желтоватого квадратика с густо–черным липким доносом. Из сада влажно дышала майская ночь, расщелкивались по–ночному соловьи, свет из окон лился на мокрую траву. Там где‑то не спала Мария, ждала его, звала. Или?.. Но она же сама его избрала – это он знал точно. Еще не обрушился его дом, который он начал любить в последние годы, но уже трещина зазмеилась от фундамента под самую крышу, и, если не дышать, слышен скрип, слабое потрескивание – это стали расходиться подшившие стропила. Его дом мог рухнуть и раздавить его под собою. Освящен ли этот Дом как надо?
Он встал перед иконами и начал читать молитву, но видел только лицо Марии; он гнал его, но оно не пропадало, и это было кощунство – читать молитву, но смотреть на нее, поэтому он отошел и лег ничком на ложе. Что делать? Уехать нельзя, посоветоваться не с кем. Смешно советоваться – у кого нет врагов, каждый хоть раз получал подметные листы вроде этого. Нет, не каждый. Почти каждый. Чего же тогда волноваться, надо взять себя в руки.
Он встал, налил вина, выпил, еще налил. Сколько надо выпить, Чтобы заснуть? Болела грудь в левой стороне и голова, особенно затылок, тоже слева, где был рубец от татарской стали: под Казанью это было, именно тогда он и вылетел из седла, нет, ведь тогда лошадь упала и придавила ему ногу. А все‑таки шлем дедовский еще тогда его спас. Новгородский, не хуже миланского доспех, на заказ ковали, много стоил тот доспех. Пластины стальные на груди тоже были посечены, но удержали удар. Только ребро треснуло – так вмялась пластина от удара.
Он старался вспоминать подробно, безостановочно обо всем, только не о подметном письме. Потом он старался молиться, и опять ничего не вышло, он вставал, пил то вино, то воду. Заснул только под утро и проснулся поздно. А когда проснулся, первое, что узнал от слуги, было: приехал неожиданно хозяин, князь Константин Острожский, но лишь переоделся с дороги, как его вызвали в Верхний замок к гетману Замойскому.
Курбский сам себе удивился – так он обрадовался приезду Константина. При утреннем свежем солнце, после умывания холодной водой и завтрака все вчерашнее не казалось таким темным и неразрешимым. Он сел у окна и стал ждать возвращения Острожского. Но Острожский не приезжал весь день, и, лишь когда в храмах зазвонили к вечерне, Курбский услышал его голос у крыльца.
Они сидели вдвоем за поздним ужином, и Острожский рассказывал о совете, который провел Замойский по поручению короля. На совете обсуждали новый закон о постоянной воинской повинности для части крестьян и законы для шляхетского конного ополчения, которое делало что хотело и в мирное и в военное время. Для шляхты во время войны уже ввели полевые суды из дворян, возглавляемые самим верховным гетманом. Король утверждает решение суда. За оставление, например, войска – конфискация имения, а за бегство с поля боя – смертная казнь. Хотя сенат еще не утвердил эти законы, Замойский уже бросил нескольких шляхтичей в темницу.
Курбский слушал рассеянно, поглядывал в ночь за окном, крошил хлеб в пальцах.
– А с постоянной армией решено так, – рассказывал Острожский, – каждый землевладелец должен из двадцати арендаторов–крестьян одного освобождать от всех повинностей и налогов, а за это человек идет служить несколько лет в королевскую пехоту, или в гайдуки, или в пушкари, и ему от казны еще идут деньги при всем готовом – еде, платье, оружии. Через два–три дня ждут короля и утвердят все эти решения, а потом я поеду к себе, в Киев, для совета меня и вызвали. Ну а ты как тут, Андрей?
Курбский подлил себе в кубок вина.
– В Ковеле не передавали для меня писем? – спросил он. – Что‑то Мария не пишет. Да и Кирилл Зубцовский должен был доложить о делах и обоз прислать с припасами…
Острожский хлопнул себя по колену:
– Чуть не забыл – Кирилл передал тебе письмо, сейчас велю принести!
Он крикнул слугу, и тот принес пакет. Курбский распечатал, затаив дыхание, пробежал глазами – это было деловое письмо его ковельского наместника, от Марии ничего не было. Кирилл Зубцовский писал о сборе припасов для войска, о конфискации лошадей, о нехватке овса, драке с увечьем меж ремесленниками и шляхтичами, о снесенных половодьем мостах и взятых под стражу бродягах. Об имении сказано было вскользь и как‑то глухо: «…В Миляновичах, говорят, все здоровы, княгиня ездила во Владимир, велела мне солоду и муки пшеничной купить ей и послать, а более мне ничего не ведомо, что и как там…»
«…Более мне ничего не ведомо…» – повторил про себя Курбский и допил вино из кубка. – А что тебе, Кирилл, ведомо, что ты не написал?» Он налил себе еще.
– От Марии ничего нет, а так вроде все в порядке, – сказал он.
– Пойду лягу, устал. – Острожский стал, кряхтя, подниматься из кресла.
– Погоди, Константин. – Голос Курбского, сдавленный, с придыханием, насторожил, заставил сесть, – На вот, взгляни на это! – И он протянул мятый клочок пергамента.
Острожский расправил его на колене, долго смотрел на куцую строчку, а Курбский смотрел на друга с надеждой: сейчас Константин высмеет этот листок, а его пристыдит. И тогда все развеется, «яко дым», и они выпьют еще за это. Но Острожский не поднимал головы.
– Кто тебе это дал? – спросил он.
– Неведомо кто. Подметное письмо. Вот сижу и не знаю, что в моем доме делается…
Острожский все глядел на куцую черную строчку.
– В твоем доме, – повторил он странно, – в моем доме… Ты знаешь, что Януш, сын мой любимый, переходит в римскую веру? В Краков уехал, со мной больше не живет…
Он посмотрел на Курбского больными усталыми глазами так, как смотрят люди, у которых общая беда: «Да, я знаю, что тебе нелегко, но и мне не легче».
Курбский отвел взгляд, уставился в угли, лицо его отяжелело, рот замкнулся.
– В твоем доме, в моем доме, – повторил Острожский мрачно, – во многих домах – измена… Потому что сами мы, возгордившись, стали слепыми вождями слепых…
Курбский не понимал, о чем он.
– Ты скажи, что же делать? – спросил он ожесточенно и, нагнувшись, так ударил кочергой по углям, что столбом взметнулись искры, а один уголек вылетел и задымился на ковре.
Острожский затоптал его.
– Что делать, Андрей? – переспросил он устало. – Не знаю я…
– Я тоже не знаю, но надо же что‑то делать, – говорил Курбский, продолжая разбивать угли в очаге. – Что ж, сидеть сложа руки, что ли?! – Лицо его, медно–красное в свете очага, горело жаром и яростью, щурились глаза, кривились губы. После того как Острожский не только не развеял его сомнения, но как бы подтвердил их, он почувствовал настоящее отчаяние. – Я не могу так!
– Делать? – переспросил Острожский и покачал головой. – Если ты не веришь, брось это в огонь. – Он протянул листок–донос, и Курбский взял его. – А если веришь, то ты ничего не сможешь изменить, что бы ни сделал.
– Как?
– Мой любимый сын жив и здоров, но для меня он как бы мертв, и, что бы я ни говорил или ни делал, я не верну его никогда. – Он замолчал и уронил голову на грудь. – Его может вернуть только Бог. Но может и не вернуть.
Они смотрели на угли, и между ними стояло молчание, полное стонов и скрежета зубовного, а может быть, и слез или проклятий. Но молчание длилось и не выдавало ни звука. Среди разбитых углей трепетали голубые язычки.
– Но я не могу ничего не делать! – сказал наконец Курбский и опять долил себе вина. – Я не могу сидеть сложа руки. Да! Я разберусь, я не знаю, что сделаю, но если это правда, то я своими руками…
Он протянул сжатые кулаки к огню, прикусил губу, зажмурился.
– Руки! – громко повторил Острожский и выпрямился. – Руки! Все вы думаете, что все можно разрешить этими руками! – Он никогда не говорил таким голосом. – Как рукамиты обратишь человека в свою веру, Андрей? Как рукамиты заставишь вернуться любовь? Как только рукамиты оградишь себя от ночных мыслей нечистых? Или ты думаешь, Андрей, что ты первый страдаешь, что тебя первого предали? – Острожский повернулся к нему всем телом, он тяжело дышал, его всегда доброе полное лицо было смятенно, незнакомо. – Руки! Поверь мне, Андрей, что перед истинной бедой, перед раной сердечной человек наг и беспомощен, как дитя. И совершенно одинок. Да, да! Он одинок, он остается один на один с Богом. Лицом к лицу! А это страшно, Андрей, страшно! – Он закрыл лицо ладонями.
Но Курбский не мог понять его, потому что жар очага, вина, страсти, измены – все это стучало в темя, набухали надбровья и губы, и ему хотелось вскочить, отшвырнуть стул, велеть седлать и скакать, скакать через ночь, чтобы нагрянуть, раскрыть, узнать все самому и или поверить ей и свалиться к ее ногам от счастья, или… убить ее, да, да, вот этими самыми своими руками!
Он встал, прошелся, допил кубок до дна, поболтал флягу – пуста, подошел к очагу. Острожский отнял руки, глянул: Курбский мрачно смотрел на угли, розовато светились белки, кровавые искры пробегали меж ресниц, рот был упрям, жесток.
– Я пойду, Андрей, – сказал Острожский и поднялся с трудом. Курбский его не остановил, он даже не повернул головы. – Проси помощи у Бога, твое дело – не в наших силах. – Голос Острожского был разбит, негромок. – Я пойду, не пей больше… – И он вышел.
Курбский не шевельнулся – он ничего не слышал и не замечал.
– Ты поедешь в Миляновичи вот с этим письмом к моему уряднику Меркурию Невклюдову. Здесь написано, что скоро по указу короля мы должны выставить по одному воину с двадцати крестьян, который уже сейчас должен быть освобожден от всех податей. Пусть подбирают таких людей в деревнях по всей моей земле. Скажешь, что я приеду через месяц и буду проверять сам, как это исполнено! Но не скажешь никому, что на самом деле я приеду гораздо раньше! – Курбский поднял палец и пристально взглянул в мутные глаза Олафа Расмусена. – В Гельмете ты выполнял работу и поопаснее. Сколько раз ты переходил через ночные дозоры? А сейчас – слушай внимательно! – каждый вечер выходи на зады дома, в сад, где сухой дуб – знаешь? – и смотри за реку: когда увидишь там, на лугу, Два костра, отвори садовую калитку и жди меня. Понял?
– Да. Но охрана имения тоже может увидеть костры и калитку и тогда…
– Сделай так, чтобы не увидела. Если ты проговоришься, Олаф, я прикажу тебя убить, – серьезно сказал Курбский. – А если исполнишь, будешь свободным и богатым человеком. Понял?
Олаф кивнул белесой головой, его длинное серое лицо ничего не выражало.
– И еще. Это письмо – княгине Марии. Я пишу там, что здоров и скоро выеду в Полоцк. Больше ничего. – Он помолчал, покусал губу. – Если она спросит, что я делаю, скажи, что заседаю в совете и готовлю войско к походу. Посмотри, кто новый из слуг в доме и кто приезжает и уезжает в имении… Послушай, что говорят слуги… Возьми письма и ступай, – жестко закончил Курбский.
Когда швед вышел, он вынул платок и тщательно вытер руки. Рот его был сжат, брови хмурились, он запретил себе думать об этом деле и с этой минуты ежедневно боролся с мыслями, не пускал их, а по ночам, чтобы они не овладели им, выпивал много вина. Он ждал, когда по приказу короля все крупные землевладельцы отправятся в свои имения, чтобы вербовать новое регулярное войско и обучать его защите, атакам, штурмам, походам и огненному бою. Острожский вот уже неделю как уехал в свое киевское воеводство с тайным приказом Замойского и обозом пороха, ядер и холодного оружия.
Кончался май, подсыхали дороги, все было зелено, сочно, солнечно, с запада с моря шли в голубых высях по–летнему белые кучевые облака.