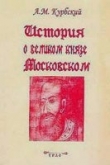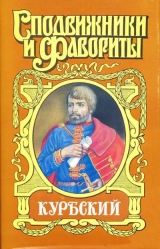
Текст книги "Андрей Курбский"
Автор книги: Николай Платонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
В библиотеке он провел пальцем по рядам кожаных переплетов – пыль, никто не читал, не вытирал. Да и к чему? Свитки, тетради, латинские и греческие хронографы, шкатулка с письмами. Шкура медвежья перед очагом, доспех новгородский во вмятинах и зарубках, тот самый, что спас его под Казанью. Сколько дней он тогда провалялся в горячке, но знал твердо: или чисто умрет, или выздоровеет, чтобы жить чисто. И выжил – все зарубцевалось.
А теперь он сам не поймет, что с ним: ему ничего теперь не нужно. Ничего. Вот даже и эта кольчуга. Что это? Мертвый металл, и все. Или эти греческие мудрецы: слова, слова – и все. Зачем писать? Кому нужна будет его «История князя Московского»? Зачем проповедовать, обличать? Все временно, никчемно, прах и суета бессмысленная…
Блики от очага плясали по стене, отмирали, глохли сначала желания, потом и мысли, казалось, это не он, Курбский, стоит здесь, а некто чужой, безразличный, как тень, блуждающая без имени и смысла. Блики, пляшущие во тьме, тоже бесплотны, безвременны, вот они затухают, обесцвечиваются, пропадают, не оставив следа. Стена одна осталась, гладкая и слепая.
Он отвернулся, тяжело шагнул к ложу. Казалось, не он, человек по имени – Андрей, шагнул, а чье‑то огрузневшее, никому не нужное тело. Одно тело. Это было странное ощущение – что осталось только тело, из которого вынули всю его живую суть, но даже страха от этого не было, потому что без сути не стало даже страха. Он лег и закрыл глаза. Кто‑то подошел к двери, вошла жена, спросила что‑то, но он не понял и не хотел ничего отвечать. Она постояла, боязливо вглядываясь в чужое отечное лицо с запавшими висками и потрескавшимися губами, и неслышно вышла.
Так он лежал несколько дней, никого не впуская, кроме жены, которая приносила ему еду и питье. Но однажды, когда она покормила его утром в постели, а потом унесла поднос, он услышал, как в соседней комнате она разговаривала с горничной о каком‑то Гришке, который неудачно сватался к кому‑то, и обе они от души расхохотались, а потом испугались, зажали рты, но не выдержали и прыснули еще раз. «Почему другие должны вместе со мной умирать? – подумал он. – Они же ни в чем не виноваты, живы, молоды и полны надежд, желаний… Надо мне завещание переписать – в старом не упомянут сын Димитрий, а ведь в нем продлится мой род. Продлится ли? И зачем? Но все равно – надо переписать».
ИЗ ЗАВЕЩАНИЯ КНЯЗЯ АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА КУРБСКОГО ЯРОСЛАВСКОГО
…Прежде всего поручаю душу свою Господу Богу, а тело свое земле. И когда Господь разлучит тело мое с душою, то жена моя милая княгиня Александра Петровна Семашкова погребет меня по–христиански в Ковельском монастыре Святой Троицы в Вербках… Все мои исчисленные выше имения жена моя Александра должна иметь во владении вместе с детками моими. А если Господь Бог даст, что дети мои доживут до совершенных лет, тогда сын мой князь Димитрий должен будет дать дочери моей княжне Марине вено и приданое из четвертой части всех имений своих… А если жена моя, оставив вдовство, замуж пойдет, тогда их милости опекуны: князь Константин Острожский, воевода Киевский, и сын его, кравчий великого княжества Литовского, – возьмут к себе детей моих для милостивого воспитания… А слугам моим, верно и доблестно служившим мне, даю я грамоты на те земли и имущество, которыми их наделил, и завещаю им служить жене и потомкам моим… А челядь мою, как плененную на войне, так и всякую другую, паны опекуны должны отпустить на волю, наградив по своему усмотрению…
А если кто отважится нарушить это завещание последней воли моей, тот будет судиться со мною на Страшном Суде перед нелицеприятным Судиею всех нас, православных христиан…
Что или кого он еще не упомянул, забыл? Он поспит и вспомнит, не надо торопиться с таким делом. Странно, что нельзя завещать людям свою любовь, а лишь серебро, или лошадей, или какие‑то наделы земельные… Хотя детям через кровь тоже завещаются от отцов и их добро, и их пороки… Не надо думать о непознаваемом. Сколько раз он не только думал, но и старался в гордыне своей разрешить вопросы страшные, неземные, непроизносимые даже ясно, не то что разрешимые человечьим умом. И друзья его – светские и духовные – тоже многоречиво рассуждали о таинствах и судили, как верховные над душами судьи. А где они сейчас, эти судьи?
2
Курбский приехал в Ковель в конце февраля, чтобы составить и утвердить новое завещание, остановился в доме Кирилла Зубцовского, который уже много лет был его наместником в крепости. Дом стоял над ручьем недалеко от крепостной стены, за домом был яблоневый сад. Кирилл отвел князю лучшую комнату с окнами в сад, с камином, на котором стояли литые серебряные подсвечники. Кирилл тоже совсем ополячился за эти годы, они с Курбским и между собой говорили по–польски, как и все в доме; стены комнаты были по западному обычаю обиты темным сукном, в окнах – стекла, очаг–камин облицован изразцами. Дом был старинный, каменный, с высоким коньком. Курбский ездил в санях в ратушу, на базар или в лавки, а также в храм и не торопился возвращаться в Миляновичи – здесь он почему‑то чувствовал себя спокойней.
Однажды вечером, когда он вернулся, на пороге его встретил Кирилл и смущенно доложил:
– Княгиня Мария, твоя бывшая жена, приехала и просит с ней поговорить. Не гнать же ее – я провел в комнату, она там… Говорит, дело важное для твоей жизни, говорит, что ты меня ругать, князь, не будешь!..
– Где она?
– Там, в комнате. А слуги ее – на кухне. Я тоже туда к ним пройду, если надо – кликни.
Курбский втянул запах отмякших за день яблоневых веток, глянул на сосульки под застрехой, на закатный свет меж деревьев сада и, вздохнув, переступил порог.
Она встала, когда он вошел, в комнате было полутемно, вечерний отсвет из окна освещал сбоку ее прическу, щеку, уголок глаза и круглое, облитое шелком плечо. Смешанный лунно–закатный свет квадратом лежал на полу, и в этот квадрат она шагнула, взглянула, как тогда, когда взгляд из лунного сада разбудил его и позвал, белый взгляд жрицы, гибельный и сладострастный… Чуть улыбались сжатые губы, прельстительно, лукаво вздрагивали ноздри, и расширялись медленно зрачки, а руки протянулись, чтобы он упал в душистую тьму, как тогда, как всегда. Он сделал шаг навстречу, вступил в лунный квадрат на полу и увидел ту комнату, над которой спал Алешка, лунный квадрат на забитой крест–накрест двери…
И вмиг Бируте исчезла – и осталась Мария Козинская, немолодая женщина с жилистой шеей и мертвыми эмалевыми глазами, которая зачем‑то сильно и неловко обнимает его, приговаривая: «Андрей, прости, Андрей, не надо, Андрей, прости, вернись!» Он стоял, опустив руки, не шевелясь, ему было неловко дышать, он хотел сесть – ноги ослабли, – хотел уйти куда‑нибудь отсюда.
– Что с тобою, Андрей? – сказала она, отстраняясь, вглядываясь. – Ты неживой какой‑то…
«Как и ты, – подумал он, – и уже очень давно…»
– Я хочу сесть, – тихо сказал он, и Мария разжала руки, отступила: она не узнавала ни его голоса, ни его лица – отекшего, обросшего седыми волосами. А главное, глаза – тусклые, далекие, с какой‑то непонятной тоской, плавающей в бледной голубизне.
Они сели.
– Что ты хочешь, Мария? – тихо спросил он.
– Я хочу, чтобы ты вернулся, простил и вернулся! – хрипло, страстно сказала она и подалась к нему всем телом, но он не шевельнулся. – Молчи, я знаю, что ты скажешь, но мы оставим им Миляновичи – все равно она незаконная жена, но оставим, пусть, а сами будем жить во Львове или в Дубровице – ведь я знаю, что ты ее не любишь! Прости мне все, и поедем ко мне!
– Я простил. Давно.
– Ну так что же?..
– Я не могу.
– Почему? Из‑за них?
– Нет. Не потому. Во мне нет ничего теперь, Мария. Ничего нет…
Она смотрела на него, не веря, но голос его, усталый, безжизненный, не притворялся.
– Ничего нет?.. – повторила она, и его мутноватые глаза подтвердили терпеливо: ничего.
Тогда она вскочила, ее лоб и щеки пошли пятнами.
– Ты просто не веришь! Хочешь, завтра же мы составим дарственную на имя Александры и ее детей и отдадим им Миляновичи?
– Но я не могу… Нет ничего, Мария, ничего, я сам не пойму…
И тогда она поняла до конца.
– Ты пожалеешь, что родился на свет, собака, перебежчик, азиат!
Он смотрел в окно, как она уходит по тропке в лунных сугробах меж черных голых яблонь, стремительная, стройная, и двое здоровенных слуг–гайдуков еле поспевают за ней. В комнате стало совсем темно, а он стоял на том же месте и дышал все глубже, все облегченнее.
Он ехал в санях домой по матово–белым полям, плавно, с увала на увал, через березовые колки и занесенные речушки, и дорога вилась, раскатанная до гололеда, потряхивало иногда, заносило, бодро бежала тройка, глухо звенели бубенцы. Он не взял с собой никакой охраны – ненависть Марии бессильна, потому что ничто не может вернуть его к ней. Ворожба спала, как чешуя змеиная, с него, со всей его жизни.
Снега февральские были так чисты и нетронуты, голубовато–дымный горизонт расступался между розоватых березняков, на буграх искрился наст, солнце за дымкой пригревало правую щеку. Никто не может сделать ему страшнее того, что он сделал себе сам. Глаза слипались, тяжелели веки, он покорился и стал дремать, погружаться в забытье, в котором было спасение от всех людей и от себя самого.
На дворе был уже март – слепило тающими снегами, кричали грачи, возились в старых тополях, в саду обтаивали сугробы, и капель стучала в полдень под окном. Он лежал, неподвижно часами и смотрел в окно на радостное движение солнечных облаков, а голые ветви раскачивал мокрый ветер с юга, и так иногда хотелось жить… Александра входила и выходила, лицо ее обветрилось: она часто ездила в Ковель в гости к замужней сестре или купить чего‑нибудь – ей было с ним скучно. Никто из друзей и знакомых не писал, не приезжал, по слухам, в Вильно король собирал огромную армию – воевать ливонские и смоленские земли, из России вестей не было. Он написал Константину Острожскому и игумену Вербского Троицкого монастыря Иоасафу [216], но ответа не получил. Слабость отодвигала его от обычной людской жизни в некую страну для немощных и забытых. Но в конце марта он получил королевский декрет: его вызывали на суд митрополита по иску его бывшей жены княгини Марии Козинской, которая объявила свой развод с ним незаконным, так как он не имел права вступать в брак до смерти ее, его законной жены. Поэтому ни его новая жена, ни ее дети не могли наследовать от него ни гроша.
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ВОЗНОГО ЛУЦКОГО ПОВЕТА О КОРОЛЕВСКОМ ПРИКАЗЕ
князю Курбскому, которому надлежит явиться на суд митрополита по делу о разводе с Марией Юрьевной, урожденною Гольшанской. 1581 марта 22.
…Посланец митрополита Иван Павлович, священник Никольский Виленский, в присутствии дворянина королевского пана Павла Волка вручил лично его милости князю Курбскому вызов его милости митрополита Онисифора вследствие жалобы княжны Марии Юрьевны Гольшанской о расторжении брака. Крайний срок, в который князь Курбский должен явиться перед лицом его милости митрополита Киевского и Галицкого Онисифора, от 16 марта через шесть недель.
Он не мог ехать на суд митрополита от слабости телесной, а это грозило новым вызовом, обвинением в непослушании и гневом и митрополита, и короля. И как итог всему – нищие дети, жена бездомная, забвение навеки славного рода и имени князей Курбских… Но что может сделать человек, когда ничего не может?..
«Но я могу еще придавить змею ногой! Если она на малых деток моих замахнулась, то весь срам вскрою, хоть и почти бездыханен!»
Он говорил это себе, возбуждая земное – хитрость на хитрость, удар на удар, но отвращение не покидало его – лоб, а потом все тело покрылось испариной. Однако он решил послать в суд то, что тогда записано было в книге городского Владимирского уряда со слов свидетелей: дворового слуги отрока Ивана Ласковича и приведенного им к дверям светелки–спальни Марии пана Зыка Князьского. Позор воистину! Кто же мог подумать? «Сколько я хранил это втайне от всех, но теперь пора отомстить, нет, не отомстить, а деток защитить, малых моих!..»
ИЗ ПОКАЗАНИЙ ИВАНА ЛАСКОВИЧА О ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ КНЯГИНИ МАРИИ ЮРЬЕВНЫ, УРОЖДЕННОЙ ГОЛЬШАНСКОЙ
…Когда я служил у его милости князя Курбского мальчиком, то мне случалось видеть собственными глазами, как княгиня Мария Юрьевна целовалась и обнималась со своим слугою Жданом Мироновичем, воспитанникам ее милости… Я заглянул случайно в щель и увидел, что Ждан Миронович лежит вместе с княгинею, своей госпожой, в одной кровати. Я воротился и сказал об этом пану Зыку, и он, как и я, видел Ждана Мироновича с княгинею… Видя князя своего в то время очень больного и не желая огорчить его, а с другой стороны, боясь княгини, я не посмел тогда сказать об этом. Но теперь, не желая утайкою изменять князю, я все рассказал, что видел.
Писано в Турейске, лета от Рождества Христова 1578
месяца сентября, восьмого дня.
Иван Ласкович Черницкий собственной рукой.
Он перечел копию показания этого любопытного мальчишки, задавил стон и еще раз удивился, как живуча сто раз раздавленная страсть, от которой люди становятся слепыми и тайно бесноватыми, но не желают избавиться, хотя и знают это о себе. «Мы сами не хотим спасти душу свою, а сваливаем на врагов и болезни!» – подумал он, но душа болела, ныла, и он слушал ее, закрыв глаза, хотя все, казалось, было изгажено и захватано чужими руками. Но он твердо знал, что, несмотря ни на что, завтра отошлет копию показаний о прелюбодеянии Марии и в митрополичий, и в королевский суд.
На дворе парило с проталин, еще одна весна подошла к порогу говором талых ручейков. В один из таких дней приехали Константин Острожский и Марк–переводчик, принявший сан дьякона. Курбский вышел к столу, за Обедом он немного ожил.
Гости стали спорить и приводить цитаты из Священного Писания, а Курбский думал о Марии и Ждане, смотрел мимо в окно, и глаза его пустели, уходили куда‑то в непотребное.
– Почему хула на Святого Духа не простится, а на Христа простится, хотя в Троичности и Христос и Дух Святой одно неделимое? – спросил его Марк–дьякон, и Курбский посмотрел на него сначала с недоумением, а потом со страхом: как могут люди, прожевывая мясо и запивая его рейнским, да еще, как он, думая о прелюбодеянии, говорить о Духе Святом, огненном и непостижимом, за оскорбление которого огонь невидимый может испепелить сердце? Он почувствовал кощунство, отер лоб.
– Не знаю, – сказал он растерянно, – откуда мне знать?
Он с таким удивлением и беспокойством посмотрел на Марка, что тот смутился, переглянулся с Острожским и перевел разговор на что‑то житейское. Но и этого разговора Курбский почти не понимал – так ему было неинтересно. После обеда он сказал:
– Я пойду, и вы отдохните, а вечером, Константин, у меня к тебе есть дело. Приходи, в библиотеку – я теперь все время там живу…
Курбский помешивал кочергой в очаге, в окнах синела ночь, блики плясали по стене.
– Тебя, Константин, и сына твоего прошу я в завещании своем быть опекунами моего имущества и защитниками семьи. Ты не будешь против?
– Что ты, Андрей! Да зачем ты про это? Поправишься, еще повоюем и попируем!
– Кто знает… – Курбский подошел к столу, открыл шкатулку. – Вот список с завещания, а само – в Ковеле… «Зная, что ничего на свете нет вернее смерти, – читал он, – которая никого миновать не может, прошу быть опекунами моей семьи и моей последней воли защитниками князей Острожских Константина и сына его… от которых при жизни своей пользовался великой любовью и важными благодеяниями, и прошу их промышлять и прилагать старания о всем добром и полезном для жены и деток моих».
Он кончил читать, смотрел на мерцающие жаром угли, молчал: вспоминал такую же ночь в этой комнате, когда говорили они каждый о своей беде, не понимая друг друга. Но сейчас Курбский понимал то, что тогда сказал Константин.
– Что‑то ты долго хвораешь, Андрей. Что с тобой?
– Сам не пойму… Ты веришь в видения, Константин?
– Верю, хотя сам не видал. А что?
– Так… Помнишь, мы ехали с тобой в Вильно и ты увидел кого‑то?
– Помню…
– Я знаю, кого ты тогда увидел. Это была Бируте, жрица. Да?
– Да… А как ты узнал?
– Почуял. Я… я ведь потом наяву ее встретил… А как ты мыслишь, сон и видение – это разное или одно?
– Не знаю, Андрей. – Острожский вгляделся: отекшее лицо Курбского было беспокойно, пальцы шевелились, крутили пояс. – А ты что, видел?
Курбский долго не отвечал.
– Видел, – сказал он глухо, безжизненно. – Не дай Бог тебе такое увидеть, Константин…
Острожский ничего не спросил.
– Где живет наша душа? – заговорил Курбский тихо. – Никто ее не видел, никто не знает, где она… Может быть, души близких наших стоят вот здесь, за спиной, и слушают наш разговор? – Он оглянулся, вгляделся в темный угол. – А может быть, нет их и вообще ничего нет.
– Как это – ничего нет? – тревожно и быстро спросил Острожский.
– Не знаю… Ничего я не понимаю теперь. Одно знаю – есть боль, которой человеку не выдумать, – сказал Курбский разбитым голосом и протянул руки к маленьким языкам голубого пламени.
Дрова догорали, розовый отсвет на стене тускнел, колебался, синяя ночь стояла в высоких окнах. Острожский с участием и тревогой смотрел на друга.
– Ты прав был тогда, когда мы говорили здесь в ту ночь, – сказал Курбский. – Да, ты многое понял уже тогда, а я ничего не понимал… – Он встал, положил руку на плечо Острожского. – Иди отдыхай, Константин, – ничего изменить нам не дано, ты прав, прав… Ничего изменить не дано!
– Но это не так!
– Иди отдыхай. Каждый в одиночку, да, я теперь тоже понял это…
Острожскому не хотелось оставлять друга, но он чувствовал, что Курбский больше не будет о себе говорить; в его голосе была усталая ожесточенность. Острожский задержался на пороге, глянул еще раз, колеблясь, недоумевая, и вышел. А Курбский смотрел ему вслед и думал, что теперь даже этот единственный настоящий друг ничем ему не поможет и что Константин любит его, Курбского, больше, чем он Острожского.
В лиловатой тьме над талыми снегами таяли звезды мартовской ночи; отломилась, упала со звоном сосулька за окном, и опять все стихло, только журчал невидимый ручеек, проточив сугроб у крыльца: ночной морозец так и не смог сковать его до конца.
…Радость ожидания, передающаяся от теплых рук матери и от свободы бегать – уже вечер, а его не уводят спать, и он стоит со всеми на крыльце и смотрит на закат за лугом – малиново–оранжевый пожар, отраженный зеркальцем плеса за камышами, а по закату едет черный всадник в шлыке, лица не видно, но он страшен, хоть и далек, и никто его не видит. Во двор входит отец, лицо неясно, но крепкая рука бережно поднимает его к самому небу, и щекочет борода, от которой пахнет мятой, и смех рядом материнский, чьи‑то радостные возгласы, его опускают на пол, и он от возбуждения и восторга начинает кружиться, притопывая, на одной ножке, пока мать не говорит: «Ну хватит, перекружишься, хватит, Андрюша!» И отец опять поднимает его, подхватив, потому что действительно все несется кругом: закат, река, крыльцо. Только черный всадник в шлыке все едет так же медленно по лугу, и все тягостней от догадки, кто этот всадник и к кому он едет. Надо догнать его, остановить, но ноги и руки словно одеревенели – они привязаны к каким‑то доскам и лежать от этого неловко, больно. Он пытается понять, что с ним. Видит всадника на оранжево–малиновом закате и ясно слышит жалобный детский плач, и внезапно понимает, что всадник – Иван Васильевич, великий князь, что плачет Алешка и что он сам не может спасти его, потому что привязан крест–накрест к колесу – его должны колесовать. Он рвется и кричит страшно, но совершенно беззвучно и – просыпается.
Он лежит в своей библиотеке–спальне и слышит где‑то за стеной глухой и горький детский плач. Он садится весь в поту, сверлит темноту глазами: «Алешка?! Где он?» – и, проснувшись окончательно, понимает наконец, что это Димитрий плачет, его сын, младенец, на женской половине дома. Он утирает пот, ложится и боится закрыть глаза, чтобы опять не увидеть того сна.
Острожский уезжал утром, и он вышел на крыльцо проводить его. Уже всходило чистое солнце, ночной заморозок еще держался, блестела гололедом дорога, и горела бахрома сосулек под крышей, но ручеек под сугробом так и не промерз до дна – все продолжал булькать невидимо. Константин обнял Курбского, прижал, отпустил. Он не мог вымолвить ни слова – горло сжало.
– Ничего, – сказал Курбский. – Я тоже долго здесь не высижу: хочу в Вильно съездить. Да и скоро за нами пришлют, думаю, опять.
– Да, – ответил Острожский. – Ну прощай. Не спеши на войну, дай‑то Бог увидеться… Прощай, Андрей!
Он быстро сошел с крыльца и сел в сани. Кучер тронул, Курбский махнул рукой. Ему было грустно и одновременно стало свободнее: никто не будет наблюдать за ним сочувственно. Жена не в счет, да она и не наблюдает больше: привыкла. Сани еще раз мелькнули за голыми ветками, скрылись. Небо было чисто, сияли льдинки наста на сугробе, медленно пролетел голубь, озаренный восходящим солнцем.