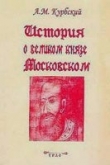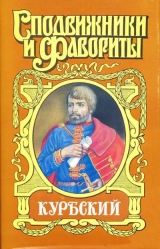
Текст книги "Андрей Курбский"
Автор книги: Николай Платонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
В монастыре стоял воинский гарнизон: пятьдесят немцев–ландскнехтов, – и тяжелые ворота не сразу открылись перед Курбским. Немцы долго проверяли его бумаги, а монах–привратник, седобородый, длинноволосый, стоял, спрятав руки в рукава тулупа, и смотрел на все это с терпеливым осуждением. Новый настоятель, сказали Курбскому, сегодня принять князя не может, но комнатку–келейку в доме для гостей ему отвели. Он сразу же спросил послушника, который помогал ему устроиться, жив ли старец Васьян Муромцев.
– Отец Васьян телом немощен стал, но духом бодр и все пишет, книги переписывает, – ответил с уважением послушник.
– Пойди спроси, когда может он принять старого почитателя его мудрости и святости князя Андрея Курбского. Послушник посмотрел странно, потупился, поклонился и вышел.
После вечерни послушник пришел за ним и повел его осторожно под руку по тропке меж сугробами за собор, где были бревенчатые келейки монастырской братии. В самой дальней горела свеча в оконце, у двери стояли веник–голик и деревянная лопата. Курбский постучался и вошел. Своим большим, закутанным в шубу телом он заполнил всю келью, при свете одной свечи было плохо видно лицо вставшего монаха. Он был худ, седоват, щеки его запали, но большие серые глаза, умные, строгие, Курбский с радостью узнал. Он узнавал постепенно и лицо – морщинистое, пожелтевшее, более неподвижное, чем ранее. Монах смотрел на него тоже как‑то странно, но теперь многие на него смотрели так, если до этого давно не видели.
– Садись, князь, – сказал Васьян Муромцев.
Курбский сел, не зная, с чего начать. Раньше он много
часов провел в беседах с просвещенным и мудрым Васьяном Муромцевым, который читал и по–гречески, и по–латыни и был лучшим переписчиком среди монахов из псковских монастырей. Они переписывались, многое обсуждали, начиная с иосифлян и кончая толкованием Апокалипсиса. Но то было раньше, а теперь Курбский только и смог сказать:
– Слышал ты о бедах моих, отец Васьян?
– Слышал немного. Но и ты о бедах наших тоже, конечно, наслышан…
– Да. Был у меня один беглец из Новгорода, он в вашем монастыре жил, когда срубил Иван Васильевич голову отцу Корнилию. Уму непостижимо это зверство! За что он его?!
Старец опустил голову на грудь, молчал так долго, что Курбскому стало неуютно как‑то, наконец монах медленно перекрестился, ответил:
– За что, о том только Господь знает. Горе нам, горе, и тебе и нам горе великое! – Он помолчал, покачивая седой головой. – Говорят, государь Иван Васильевич разгневался, что отец Корнилий возвел столь могучие стены вокруг обители. Говорят также, что письма он получал из Литвы и о письмах оных кто‑то донес царскому воеводе в Псков, а тот – государю.
– Письма я и тебе, и отцу Корнилию писал, – сказал Курбский, волнуясь и щурясь на свечу. – Но против Ивана Васильевича не было ничего в тех письмах.
– Не было. Но письма‑то писал ты, князь… – Васьян глянул своими большими умными глазами, и Курбский все понял – холод прошел по спине: письма его могли быть для Ивана уликой о заговоре Корнилия с Сигизмундом.
«Неужели я и в этой крови повинен?» Он не сказал это, но на лице его отразилось на миг волнение, ожесточение.
– Я очиститься должен, отче, хочу завтра на литургии… У кого – не знаю, живы ли и кто из иеромонахов служит? Отец Паисий?
– Отец Паисий преставился четыре года назад. И отец Демьян тоже. – Худое лицо монаха стало суровым, грустным, теперь он с какой‑то жалостью смотрел на Курбского. – Нельзя тебе, князь, у нас… – сказал он и покачал головой. – Видно, ты и не знаешь?
– Что?
– Как ушел ты в Литву, сначала ничего, а после семидесятого года при митрополите Александре, а теперь и при Антонии [226] пришло всем церквам повеление тебя, Тимофея Тетерина, Семена Бельского, Заболоцкого и некоторых иных, кого царь указал, во здравие не поминать и к причастию святых тайн не допускать, как отлученных…
Курбский встал, голова его уперлась в низкий потолок, заколебалась свеча, тени закачались на раскрытом листе рукописи с киноварными заставками.
– Так вот почему не отвечали на мои письма из Вильно! – сказал он с горечью. – Велел царь, и церковь послушно меня отлучила! Не ждал я, отец, что и ты от меня отречешься!
– Я от тебя не отрекся, – сказал тихо монах, – но гнев царев ты на нашу обитель навлечешь, если не покаешься.
– В чем?
Васьян не ответил, потупился, Курбский долго ждал.
– В чем – это совесть твоя тебе скажет, а я тебе не судья. – Но не суди и ты отца игумена, который тебя не принял: завтра погонят наши поляков, придут сюда царские войска, и что тогда? Кто нас защитит? Не суди нас строго, князь: все мы в послушании.
– У Бога в послушании, а не у царя Саула, который праведников умерщвляет!
Монах еще ниже потупился.
– Я ухожу, на Страшном судилище Бог рассудит нас, отец Васьян! Он все видит, а у вас сидит иосифлянин и меня хоть и грешного, но, не разбираясь, уже проклял страха человеческого ради!
Монах тоже встал, был он бледен и взглянул с болью, руку поднял, словно защищаясь, а потом благословил. Курбский растерянно отступил, махнул безнадежно и вышел быстро. Слишком быстро: на дворе по снегу поехали черные порошинки, он схватился за притолоку, долго глотал воздух. Послушник из гостевого дома вынырнул из полутьмы вечерней, повел его прочь.
В ту же ночь, наскоро собравшись, Курбский выехал из монастыря на юг, на Вильно. Его, опять закутанного, везли в носилках. Он качался в своей походной люльке, снег садился на застывшее лицо, не таял, точно в гробу его везли куда‑то, и он, мертвый, все слышал и чувствовал и не знал, куда его везут бесконечно, через тьму и неясные тени деревьев или облаков. «На Страшном Суде рассудят нас!» – сказал он в гневе. У него заледенели губы, подбородок. Он высвободил руку и натянул волчью полость до бровей.
Митрополита всея Руси Антония поставил великий князь Иван Васильевич, а митрополита Киевского и Галицкого Онисифора [227] поставил король польский Сигизмунд–Август и утвердил константинопольский патриарх, и один, Антоний, его, раба Божия Андрея, отлучает, а другой, Онисифор, его не отлучает… Он плыл и плыл, покачиваясь, сквозь зимнюю ночь, не находя ответа, то впадая в полузабытье, то пробуждаясь; и опять начинал думать с того места, на котором остановился, но ответа не было. Стало светать, мутно белели снега, чернел хребет елового леса за полем, на востоке льдисто зазеленела прорезь рассвета, и стало будто еще холоднее на пустынной дороге, которая вела к Вильно.
Они въезжают в какое‑то местечко, чей‑то бас просит остановиться, и он видит лиловое в зените и оранжево–зеленоватое на западе небо, квадратики огненных окон в темных домах, голые липы, черные, строгие. Он только что видел такой же вечер, но в Дерпте–Юрьеве много лет–жизней назад, когда он с Шереметевым брал этот город для царя Ивана. В тот вечер они зажгли посад, в оранжевом зареве разбегались черные фигурки жителей, а две отстают – женщина, которая тащит за руку ребенка, а потом падает, и он, Курбский, отворачивается, чтобы не видеть продолжения, а внутри словно смыкаются створки раковины, бесстрастной и твердой, чтобы оградить его от малейшей жалости, недопустимой в бою. Эти холодные жесткие створки не размыкаются долгое время и после боя, но сейчас их вообще нет почему‑то и он беззащитен от боли, а женщина все бежит в огненном зареве, тащит за руку ребенка и падает, и так повторяется без конца до тех пор, пока Курбский со стоном не размыкает веки и, не понимая, где он, тупо следит, как бегут назад поломанные кусты на обочине, как все ближе подступают в лиловатой мгле четкие светящиеся прямоугольники – окна крайних домов местечка.
– Это что? – спрашивает он.
– Заболотье, – отвечает Емельян–кучер, – кормить пора лошадей.
Он знает, что князь всегда останавливается здесь на день–два. Здесь церковный приход чернобородого и темноглазого попа–галичанина, который князю отпускает грехи, здесь есть добрая корчма с пивом и романеей. Но он слышит голос князя:
– Поезжай дальше!
– Лошади пристали, покормить надо, – басит Емельян.
Он последний из старых слуг, это его покалечили люди гетмана Сапеги, когда он отвозил разведенную Марию Козинскую в коляске из Миляновичей во Владимир. С тех пор он прихрамывает. Сейчас он удивлен безмерно: зачем ехать на ночь глядя от такого места?
– Езжай, где‑нибудь покормим, – повторяет Курбский. Он смотрит в широкую спину Емельяна и понимает его мысли, но сам себя не понимает: почему не велел останавливаться здесь? Они едут через Заболотье, мимо светящихся окон, мимо корчмы, мимо погоста и церкви Иоанна–воина, где не раз отстаивал обедню князь Курбский. И опять поле, уже предночное, лиловато–льдистое в тенях, чернеют пятна стогов под снежными шапками, ветер знобит, поддувает под полу тулупа. Емельян сплевывает, зло подхлестывает под пузо коренную, качает лохматой шапкой. Впереди, куда вьется по увалам дорога, медленно светлеет лунное зарево, ветер стихает, еле видны тучи, ползущие с запада. Они едут на восходящую луну, к льдистому осколку на горизонте, но он не приближается. И все глубже, объемнее заполняя грудь, звучит печальный и гордый напев королевского полонеза в имении Константина Острожского, и Курбского кружит в неотвратимом влечении, в объятиях женщины, приросшей, отдающейся, они скользят по насту или по цветущему полю, среди вихрей снега или лепестков, она уводит его плавно, нежно, но неуклонно от болезней, вопросов, тоски, от совести, жалости и жестоких воспоминаний – от всего, что угнетает его много лет. Она уводит его в кружении, в спиральном падении в темноту лунного лона, меж странных цветущих колонн с человечьими глазами, полонез гремит и тоскует, как морской шторм, они снижаются, сплетаясь, в заросли ландышей, их душистый запах становится невыносимым, смертоносным, но именно в этом последнее наслаждение. Кто‑то, плача, зовет его издалека, из мерцающих глубин.
Он просыпается еще раз: никто его не звал, он слышит глухой топот усталых лошадей, скрип, чувствует встряхивание на ухабах, вдыхает запах лошадиного пота, кожи, соломы, меховой полости и от жалости к себе зажмуривается безнадежно. Ему становится холодно, он замечает, что пальцы ног совсем онемели, бесчувственны, а дорога все вьется к ледяному осколку на краю облачной равнины, и он зовет:
– Емеля! Емельян!
Кучер отворачивает ухо шапки, полуоборачивается.
– Останови, нога застыли!
– Потерпи, князь, юн справа хутор завиднелся. Заедем – ототрем.
На хуторе ему оттирают водкой ноги, поят кипятком с медом, и он засыпает прямо за столом. Его кладут на лавку под образа: здесь живут арендаторы греческой веры, старик, его жена и сноха. Совсем стихло, квадрат окна лежит на полу, незаметно перемещается выше – на грудь спящему Курбскому, потом еще выше – на его лицо. Лунный свет углубляет глазницы, морщины от ноздрей к углам сомкнутого рта. Изба дышит, храпит, бормочет в усталости. Бесстрастное незнакомое лицо, прекрасное и жестокое, как у Дианы–охотницы, смотрит на него зеленоватыми глазами, и он хочет уйти, потому что ей неведома жалость. Он видел ее когда‑то во дворце Сигизмунда–Августа – мраморную статуэтку на инкрустированном столике, но сейчас она ожила и пришла за ним. Это и страшно, и соблазнительно, но он замечает, что уголки ее губ приподнимаются, вздрагивают, словно от тайного торжества, и тоща в нем остается только страх – он узнает в ней Марию Козинскую, то выражение, с которым она стояла в комнате, куда он случайно забрел в имении Константина Острожского.
Курбский широко открывает глаза, видит лунный квадрат на срубе над своей головой и начинает шепотом читать заклинание–молитву, напрягая все силы, потому что лунные лучи в квадрате делаются шершавыми, как доски, которыми крест–накрест забита знакомая дверь. Перед этой дверью он стоит обнаженный и жалкий; из‑под двери морозом смывает всю преступную прелесть, и он спрашивает с тоской: «Доколе же мне терпеть еще, Господи?»
На хуторе сделали дневку, для князя освободили дом, завесили стены тканью, постелили шкуры, протопили до жара. Курбский, изможденный, ослабевший, лежал лицом в потолок: не то дремал, не то молился. Нет, уснуть он не мог, забыть – не мог, не было покоя даже здесь…
Наконец он решился испробовать давно испытанное – перечитать свое сочинение, выношенное годами, искреннее, переданное людям во спасение. Он сея, велел подложить подушки повыше и подать дорожный ларец с бумагами. Из ларца достал свое заветное сочинение «История восьмого собора», копии писем к Константину Острожскому, в которых обличал его в недостойной слабости – Константин не только читал еретика Мотовила, но и осмелился писания его прислать! – наконец неоконченный ответ Семену Седларю, который спрашивал, что думал Иоанн Златоуст о Чистилище. Для ответа Курбский переводил с латинского, перевод свой хотел послать Седларю как «подарок духовный» и сейчас, перечитывая, кивал сам себе с удовольствием: «…Познал я в тебе искру, возгоревшуюся от божественного огня… Некие раскольники упрямые, опираясь на Оригена, утверждают, что огонь Чистилища конечен, то есть Геенна конечна, что противоречит учению Христа, хотя они в доводах своих еретических приводят слова апостола Павла к коринфянам…» В конце Курбский просил Седларя не показывать его письма схизматикам, чтобы не вступать с ними в бесполезные споры, в которых еретики искусны софизмами и ложными силлогизмами.
Курбский откинулся на подушки, прикрыл веки, лоб его порозовел, на губах блуждала улыбка. «Как епископ наставлял я их всех, годами неподкупно обличал ересь, – сказал он себе, – вот в этом письме одна истина… Отдохну и обязательно допишу». Он начал сочинять продолжение, но привычной легкости слога не стало, слова были правильны, строги, а какого‑то смысла в них не хватало чуть–чуть. Он полуоткрыл глаза, лоб наморщился, взгляд искал, не видя, ответа за оконцем, где предвечерний ветер очистил небосвод; нечто вроде пятна туманного сгущалось там, точно упала темная капля на золотистый закат и все испортила: чистоты не стало. «Призван был сюда наставлять их всех!» – упрямо шептали губы, но это не утешало сегодня. Он вспомнил, как они раз говорили с Артемием Троицким о стремлении Марка стать дьяконом, и Артемий сказал задумчиво: «…Иные хотят проповедовать ради радости обличения, а не ради любви к ближнему, но сами того не понимают». Курбский долго, нахмурясь, вглядывался в закат, наконец шевельнулся, сказал себе, как обрубил: «Ну и что, раз проповедь об истине!» Но брови его не разошлись, рука бессильно лежала на одеяле. Чего не хватает в его слове? Он не мог понять, но слово точно омертвело, хотя на вид было прежним – правильным и честным.
Новый день, опять запрягают, едут, и нет этому конца… Он сидит за столом, накрытым знакомой холщовой скатертью с крестиками. На скатерти перед ним стоит миска со спелой земляникой, политой молоком, а над миской зависла желто–полосатая оса. Она тонко и зло жужжит, и он боится пошевелиться, хотя ему очень хочется земляники. Оса садится на край миски и ползет вниз, к землянике, и тогда он с размаха бьет ее ложкой, разбрызгивая по столу молоко и ягоды, а она взлетает и висит над его макушкой, сверлит жужжанием – вот–вот ужалит! «Сиди не двигайся, Андрюша! – говорит голос матери. – Не двигайся, и она тебя не укусит!» «А хоть бы и укусила – что за беда!» – говорит другой, мужской голос с улыбкой, и еще миг он видит их всех на терраске за столом – мальчика в желтой рубашке, мать, отца, солнечные пятна на скатерти, но чей‑то оклик врывается из другого мира: «Куда, Панове, едете?» И бас Емели: «В Ковель» – и хрустальный куб с летней терраской и земляникой в миске удаляется, уменьшается, а Курбский садится, растирая лицо ладонями. День, мягко светятся сугробы под заволоченным солнцем, вдали кирпичная стена знакомого монастыря и голые ветлы на берегу реки – Ковель.
В городе Курбский заехал к старому пану Мышловецкому – круглоголовому седому судье. Он почти не изменился – был так же немногословен, хитер. Первая новость, что княгиня Александра уехала с сестрой на богомолье во Владимир–Волынский, оставив детей на нянек, не очень огорчила и удивила Курбского. Но вторая ошеломила: игумен Вербского Троицкого монастыря Иоасаф бежал неведомо куда, захватив всю монастырскую казну, и с ним – два послушника, а по розыску – двое беглых русских стрельцов.
– Слышал я, князь, что ты давал Иоасафу в долг немалую сумму, – осторожно спрашивал–утверждал судья. – Ну плакали теперь твои денежки…
– Да, давал, – рассеянно ответил Курбский. – Но куда ж он мог бежать: на Руси ему не поверят все равно – там всех перебежчиков из Литвы, говорят, кидают в темницу.
– А может, и не кидают… – раздумчиво ответил судья и покачал круглой головой.
Курбский переночевал и наутро выехал в Миляновичи. Он старался не дремать – боялся опять увидеть что‑нибудь страшное, мучительное. День был серенький, мягкий, лошади хорошо отдохнули, дорога была знакома до каждого куста, и чем дальше они ехали, тем ему становилось скучнее и как‑то никчемнее. Конечно, жена не знала, что он приедет, но, если б и знала, чего ей радоваться? Он не только стар для нее, но и вообще теперь вроде и не муж, не мужчина… Детей он не мог припомнить, особенно младенца сына, – все они казались ему всегда на одно лицо до пяти лет. Тогда он постарался вообразить, что нового напишет, переведет, но бросил.
Версты через две от города дорога делилась: правая мимо сосны с засохшей макушкой вела к имению, а левая через ложок – к реке, к Вербскому монастырю.
– Езжай влево! – неожиданно приказал Курбский Емельяну. Тот натянул поводья, оглянулся. – Ну чего встал – влево, на монастырь, езжай!
И они поехали влево. Курбский, покачиваясь, закрыв глаза, вызвал лицо отца Александра – загорелое, простое, его живые, даже веселые глаза, редкую спутанную бороду, залысины под выцветшей скуфейкой. Жив ли он, цел ли? Розыск начался уже давно, еще когда в Миляновичи заезжал владимирский войт с иезуитом Хмелевским – или Хмелевичем? – а теперь это бегство Иоасафа. Да, немалый урон – денег нет, и друзей почти не стало… Ехать Курбскому сейчас в монастырь, который, конечно, под усиленным надзором властей, было неразумно, но он ехал. Он вез с собой тяжкий груз таких вопросов, которые порой отнимали у него веру. Ответит ли на них беглый запорожец, хоть ныне и монах Александр? Вряд ли человек способен на такие вопросы ответить. Сам себе он, хоть и знает Писание много лучше иных людей, даже и монашеского чина, ответить не смог. Он приехал в монастырь под вечер во вторник первой седмицы Великого поста, в час, когда в храме звучал печальный речитатив: «Душе моя, душе моя, восстани, что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися: воспряни убо да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй».
Но Курбский этих слов не слышал: он отдыхал в монастырской гостинице и выспрашивал знакомого послушннка–прислужника о новостях.
Иеромонах Александр обрадовался, благословил, потом обнял, прижал к груди; от рясы его уютно пахло воском свечным, просфорами и той старческой чистотой тела, которая бывает у иных легких и любящих баню русских людей. В его келейке–избенке было тесновато вдвоем, но уютно, на липовом скобленом столе лежал фолиант кожаный; Писания Иоанна Златоуста, переведенные с греческого, и «Апостол» печати Ивана Федорова.
– Где ж такую ценность раздобыл? – спросил Курбский, садясь.
– Нашлись добрые люди… А ты, княже, с тела и с лица спал в воинских болезнях.
– Верно ты сказал: «в воинских болезнях». Вся эта их война – одно душегубство. Под Псковом я был без дела, болел, но всего навидался. А у вас тут беда: игумен сбежал, я слышал, казну похитил.
Отец Александр промолчал; улыбаясь глазами, он все так же ласково, открыто изучал князя, точно сравнивал то, что видел, с тем, что было. Курбского это не тяготило, хотя он не любил, когда его рассматривали в упор.
– Еле до тебя дошел, отец, – сказал он. – Занесло все, тропу не чистят. Как ты сам‑то ходишь в монастырь?
– Кому ее чистить… Постарели мы, а новых послушников мало – всё в римские монастыри бегут.
– К чему бы это? Я тоже замечал. Я тебя тут о многом хочу спросить.
– Римская церковь иной раз земному потакает, чтоб души привлечь, – задумчиво сказал монах. – Но огульно ее тоже нельзя хаять, потому что Папа Римский – это еще не вся церковь.
– А что она есть?
– Она? Незримое и тайное в сердце. Почто, княже, меня смущаешь? Искушаешь? – с какой‑то детской обидой спросил отец Александр. – Ты в богословии, всем ведомо, искусен, а я кто? Сам ответ в писаниях найдешь прежде меня.
Курбский смутился. Ему не хотелось уходить, хотя скоро отцу Александру идти служить по строгому великопостному уставу, а он, Курбский, пойдет спать, потому что нога у него болит и стоять долго он не может. «Но если я не буду стоять, то зачем сюда приехал?»
– Прости, отец, я спрашиваю искренно – не все, что написано, я знаю, да и не на все есть ответы.
– Коли б на все были ответы словесные и разумные, то зачем тогда вера? – спросил монах. – Тебе неможется, княже?
Он сказал это так неподдельно участливо, что Курбскому совсем расхотелось возвращаться в монастырь на главный остров.
– Я у тебя в храме постою.
Но он не простоял и половины службы – разболелась нога. Иеромонах заметил это и сказал, выбрав момент:
– Посиди, когда дам знак.
Но Курбский покачал головой: хоть в церковке было немного, как и всегда, народу, но ему было стыдно сидеть, когда дряхлейшие старухи стояли, и он остался стоять, превозмогая боль и гордясь своей выдержкой.
На другой день он не мог встать с постели. В пятом часу вечера отец Александр навестил его, принес просфору, посидел немного. Был он задумчив, отвечал скупо.
– Кто ж теперь у вас игумен?
– Из Киева поставили отца Иоанна.
– Ну и как он?
– Строг и начитан, слово пастырское сказал искусное.
– Почему же это Иоасаф сбежал? Да и куда тут сбежишь?
Монах покачал головой:
– Откуда нам, княже, знать про это? Разве мало у нас с тобой тайных грехов, о которых не только знакомцы, но и родная мать не узнала?
Курбский задумался, нахмурился.
– Тяжко мне жить, но не от болезни только, – сказал он, глядя в пол и перебарывая недоверие и стыд. – Множество сомнений терзают меня, а по ночам приходит соблазн или ужас, и не могу найти нигде покоя. – Он замолчал, еще больше нахмурился. – Хочу исповедаться хотя бы, если не допустите до причастия.
– Не допустим? – спросил отец Александр изумленно.
– Митрополит всея Руси Антоний отлучил меня от церкви по велению царя Ивана, – жестко выговорил Курбский. – И в Псково–Печорском монастыре мне в утешении отказали, хотя я всегда их почитал и защищал. Игумена я нового спрашивать… ну не хочу его спрашивать.
– В субботу литургия. Иди смело и со смирением к настоятелю.
– Но у кого же мне лучше…
– В субботу будет служить в соборе отец Павел, праведный и любящий Бога. Иди, княже Андрей, иди – и станет легче. Веруй!
– Но я хочу к тебе идти, отец, – сказал Курбский. – Только к тебе. К другому не пойду.
– Почему это? Но чтоб ты совсем не сбежал, что ж, я рад, хоть и недостоин. Приходи, все, чем Бог наделил, тебе отдам. – И он так улыбнулся, что быстрый напряженный взгляд Курбского смягчился, потупился.
Шел уже март, а Курбский все не уезжал из монастыря; рядом со стареньким и бодрым отцом Александром он чувствовал себя в безопасности, все странные сны и страшные воспоминания оставили его, он за время поста похудел и стал меньше хромать, совсем очистилась голова. Все вопросы, которые он задавал себе, а потом хотел задать отцу Александру, постепенно выветрились совсем или казались наивными. Он удивился, подумав об этом, и спросил монаха, почему так.
– Часто подобное бывает, – сказал тот, добродушно щурясь на мартовское сверкание. – Зачем человеку допытываться, если ему хорошо? Посмотри, березы уже зарозовели веточками, а стволы‑то осин как сочны, зелены – скоро реки вскроются. Слава Богу, создавшему этакое диво! – Он снял скуфейку, отер лысину и опять надел. – Когда я в казаках жил, лишь иной раз только и увидишь красоту земную, а так круглый год как в тумане бродишь, будто бельма на глазах.
– И у меня так, – тихо сказал Курбский. – Жена написала, обижается, а то бы век здесь прожил… Приеду, думаю, продолжу свою повесть об Иване Васильевиче, и перевод «Златоуста» надо закончить…
– Не загадывай, княже: сколь проживем – не знаем…
– А долго ль мне еще жить? – жадно и быстро спросил Курбский и глянул испытующе, жестко, как давно не глядел.
Монах посмотрел на него внимательно, ответил не сразу.
– А что такое, княже, «жить»? – спросил он. – Вечной жизни нет предела…
– Я не про то, про земное…
Монах опять посмотрел, и доброе лицо его впервые помрачнело. Курбский был не рад, что спросил, – он боялся ответа.
– Земной – недолго… – строго ответил отец Александр. – Не спрашивай меня, княже, я что почую, то скажу, а может, это грех? Не спрашивай, не мучай себя: не о том надо мыслить – что пользы в пустых годах?
Курбский стоял, опустив голову, повторялось в нем неустанно: «Земной – недолго…» Он не мог сердиться на старика, но и примириться с этим не мог. Простились, однако, они хорошо; уезжая, Курбский обещал после Пасхи приехать опять – перед отъездом в Вильно к королю. Отец Александр пошел проводить его до мостков через замерзшую пока протоку. Лед уже почернел, выступили лужи в сахаристом снегу, слепило глаза мартом, цвенькали синицы. Иеромонах благословил, прижал и поцеловал Курбского.
– Где‑нибудь, а увидимся, – сказал он. – Надежды не бросай, легче живи, князюшка. Тяжело тащишь, не гордись, не подымай сверх сил…
Возвращаясь из Владимира через Ковель в середине февраля, княгиня Александра Курбская–Семашкова узнала, что проехал в имение князь со слугами, и обрадовалась и испугалась: до сих пор она всегда чувствовала его господином строгим, как и до замужества, и вслух никогда не называла по имени, а только «милостивый князь», за что он сердился. Когда она нежданно из бедной шляхтенки – прислужницы Марии Козинской – стала княгиней, ей было это и странно, и чуть смешно, и, главное, страшновато. Только когда его привезли из Дерпта больного и слабого, ей стало проще – как сиделка она была даже нужнее ему, чем он ей.
Но и во время его болезни она не смогла сблизиться с ним. И дело было даже не в его возрасте телесном – он был силен, закален, всегда нравился ей, а в его сначала гордо–снисходительном, а потом, после последней войны, мутно–пустом, с тайной точкой боли взгляде на нее, на все кругом. Однако разделение не охлаждало ее, а наоборот, и теперь, поспешив в Миляновичи и не обнаружив там мужа, она сначала пришла в полное недоумение, а потом разрыдалась от ревности: он – ясно теперь всем – наврал в Ковеле, что едет домой, а сам проехал к этой змее, которая всегда своего добивалась в таких делах, недаром Александра прослужила при ней пять лет – ей ли не знать, как липли мужчины к Марии Козинской–Гольшанской, которая презирала их, как животных, никому не верила и умела ворожить. Да, он там, в Дубровице, а может быть, дал крюк и – во Владимире. Иначе не могло быть: у матери, беспутной и глупой дворянки, которую бросил муж, потом у теток, приживалок в доме у гетмана Сапеги Минского, и наконец в тайных делах Марии Козинской она прошла такую школу, которая не знала иного ответа, если мужчины не было дома без явной причины. Александра то зло плакала, то бегала по спальне, стараясь найти выход. Но выхода не было: слишком велик был князь Курбский, слишком хитра, жестока и знатна была Мария, княжна Гольшанская, чтоб с ними бороться. Александра Семашкова – кто она для них? А дети ему не помеха – он их не любит, да и кто из мужчин любит детей?!
Она была полубольна от ревности и неизвестности, когда в конце февраля зашедший в людскую странник–богомолец рассказал, что князь Курбский живет в Вербском Троицком монастыре, что он хромает и что с ним только пятеро слуг. Радость нахлынула на Александру, а потом опять обида: проехал мимо, не известил, почему монастырь? Может, он ранен тяжело, не выживет, может, хочет постричься в монахи из‑за страшного греха, может, его увезли туда насильно по розыску о побеге игумена Иоасафа? Страх за всех, за себя, за детей, только за него нет страха почему‑то. Но главное – он не с Марией – змеей, ведьмой, и Александра решилась написать письмо в монастырь, короткое, обиженное и глупое. Из‑за этого письма Курбский в конце марта вернулся в Миляновичи.
Она лежала у себя в спальне, вымытая, надушенная и горящая, а он не шел и не шел.
Он лежал у себя в библиотеке–спальне и вспоминал, как поднял к лицу маленького Димитрия Курбского и, подышав в маковку, прижал к ней губы – пульсировало под теплым пухом младенческое темечко, невинная беззащитная жизнь, в которой пульсировала вся Вселенная с ангелами и звездами, и ему стало страшно и жаль чего‑то, что он потерял. Чего? Он осторожно, как стеклянного, переложил младенца в руки няньке, заметил сбоку темный ревнивый зрачок жены и вышел из детской спальни. Маленькую Марину он лишь погладил по кудрям, ущипнул за ушко.
Она ждала его с нетерпением и почти без страха; он стал медлительнее, лицо посмуглело от мартовского загара, а тело, как всегда у него, белое–белое, и голос стал спокойнее, и хромоты почти нет. Почему же он не идет?
Уже под утро она решилась и сама, как воровка, глотая обиду, пробралась на его половину, тихо открыла дверь библиотеки и долго стояла, слушая его ровное, покойное дыхание – он крепко спал. Она схватила себя за плечи так, что ногти вошли в тело.
На другой день в Миляновичи въехали в ворота вооруженные гайдуки, а потом возок кожаный, из которого вылезли закутанный в шубу судебный исполнитель митрополита Киевского и Галицкого и всея Руси Онисифора и шляхтич в соболях и при сабле. Это был черноусый и изысканный пан Казимир Хмелевский – тайный агент папского легата и польского короля, а сейчас доверенное лицо львовского епископа. Курбский принял их в своей библиотеке: опираясь о стол, он ждал.
Пан Хмелевский представил судебного исполнителя пана Тычинского – старичка с бородой клином и фальшиво–приветливым лицом, который развернул свиток с печатями и с поклоном передал его Курбскому. Это было решение церковного суда по иску бывшей жены князя Курбского княгини Марии Козинской–Гольшанской, которая добилась своего: суд не признал законным третий брак князя Курбского – с Александрой Семашковой, потому что его вторая жена – Мария Козинская – жива, а посему у означенной выше Александры Семашковой и ее детей от Андрея Курбского – дочери Марины и сына Димитрия – нет никаких прав ни на имение Миляновичи, ни на другие земли и деревни, указанные в дарственной грамоте короля Сигизмунда–Августа, потому что, во–первых, они не являются законными наследниками и, во–вторых, земли эти и уделы – дар короля на время жизни Курбского, а не наследственное имение–майорат, которое переходит по закону от отца к старшему сыну. Постановление суда не подлежало обжалованию и было скреплено подписями митрополита Киевского Онисифора и львовского епископа Павла.