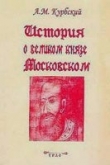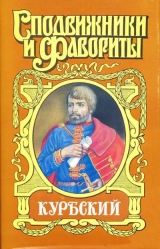
Текст книги "Андрей Курбский"
Автор книги: Николай Платонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
Время то останавливалось, и пульс отсчитывал удары на одном месте, то мчалось и проваливалось в никуда, и люди, очнувшись, с изумлением рассматривали в зеркале новые морщины и дымку усталости в глазах. Время то рождалось, то умирало, и никто не знал, что такое время, а в молодости никто и не думал о нем. Может быть, только умершим становилось понятно, что есть время–вечность, а есть просто промелькнувшая вереница дней. Им, умершим, открывалось это, или тем, кто при жизни переступил черту и ощутил ветер из Вселенной – дыхание Божие. Этот ветер–дыхание веял со звезд; ночью время было иным, чем днем.
Обо всем этом и о многом ином размышлял Андрей Курбский и в своем имении, и по дороге куда‑нибудь, где собирались воевать на рубежах меж Русью и Литвой. Он любил размышлять о прочитанном или увиденном, но читал урывками: то война, то сеймы, то вызовы в королевский суд по жалобам соседей – все это мешало ему жить, как он хотел. За глаза его называли «гордец» или хуже – «перебежчик», а в глаза, улыбаясь, величали «князем Ковельским», хотя всем было известно, что Ковель – это не его родовой майорат, или по–русски вотчина, а город и земли, данные ему королем для укрепления с известной долей; доходов. Гордость его возмужала и окрепла, как задубевший панцирь из воловьей кожи, и никогда не возвращалось живое чувство раскаяния или слез. Он не искал больше смерти, как в Изборске, но не избегал опасности, он как бы онемел в каком‑то смутном равнодушии, а многое перестал понимать.
Был тысяча пятьсот шестьдесят девятый год, в местечках и городах – везде шли жестокие споры о будущем Литвы: быть ей независимой и православной или быть частью королевства Польского? [141] Если независимой без Польши, то в союзе с Иваном Грозным, а может быть, во главе с князем из его семьи. А если с Польшей, то против Ивана, и это война без конца. Кроме того, под Польшей – это значит под властью римской церкви. Последнее больше всего отталкивало православную шляхту с Волыни и, конечно, Курбского, и поэтому все они, видя, что дело их проиграно, покинули сейм в Люблине и вернулись в свои имения. Но это не помогло: Волынь была просто объявлена владением короны, и, чтобы не потерять всего, они вернулись к Сигизмунду–Августу. Воевать с ним они не могли.
Так была подписана Люблинская уния, провозглашена шляхетская республика – Речь Посполитая, Литва и Польша слились в одно государство, с одним королем, сеймом и сенатом. Правобережные и левобережные земли по Днепру отошли к Польше – киевские, пинские и другие. («Исконно русские!» – думал втайне Курбский.) Были торжественно объявлены ограничения власти короля и неприкосновенность личности свободных людей, шляхтича мог судить только королевский суд, горожан – городской суд. Это была Pasta conventa, о которой, вспоминая деспотию Ивана Грозного, мечтал Курбский, – законы, гарантирующие права дворянства, вплоть до права подыматься против короля, если он нарушит свою присягу. Это могло совершиться по любому поводу – вооруженные конфедерации шляхты собирались то за («генеральная»), то против («рокош»), а в сейме власть короля ограничивалась «либерум вето». Она ограничивалась и сенатом, и иезуитами, и магнатами, имевшими свои замки и свои армии. «Да, они были свободны, эти князья, не то что у нас, – думал Курбский, – но как они использовали эту свободу? Королю в лицо дерзко говорили что хотели, меж собой устраивали войны, жгли деревни, осаждали имения, и не только дворяне, даже отцы церкви – католики против протестантов (это еще не так и плохо!), но и против друг друга: епископы Гнезненский Яков и Краковский Филипп устраивали сражения, где участвовала и артиллерия, и конница, и примирить их не могли ни король, ни сенат».
Вот этого не могло быть на Руси ни сейчас, ни в древности. Пьянство и словоблудие сопровождали многие празднества или съезды, где встречались и вместе напивались люди самых разных вероисповеданий и обычаев. Поляки называли это «свободой воли» и «свободой слова», а Андрей Курбский с отвращением говорил Константину Острожскому; «Как можешь ты по своей воле ходить на эти оргии? И есть и пить рядом с еретиками? Я тебя люблю, и мне это больно, спорить об истине не надо – ее надо защищать самой истиной!» На что добродушный, терпимый Острожский отвечал что‑либо вроде: «Перед Богом все равны» – и сердил Курбского еще больше: для него не было равенства в вере. Его тайная и непоколебимая идея была идеей православной Руси, государства, сохранившего истинную веру в ее древней чистоте и простоте. И государство это должно управляться праведным царем, окруженным Избранной радой – мудрыми и праведными советниками. Не о том болела его душа, что прошли времена свободных удельных князей, его предков, а о том, что самодержцем российским стал полубезумный кровопийца, разоряющий страну и оскверняющий храмы.
Все было не так, как он мечтал, – ни там, на родине, ни здесь. Он хотел бы забыть многое и стать таким, как Константин Острожский. Он хотел бы служить православию и здесь, мечтая – а может, и даст Бог? – когда‑нибудь привести к новому государю русскому все великое княжество Литовское, всех его дворян истинной веры, и для этого он переписывался с такими дворянами, ездил в Вильно и во Владимир, читал отцов церкви и спорил о вере, забыв совет покойного Николая Радзивилла Черного. Правда, самого его он не забыл. После смерти Николая Радзивилла партия протестантская ослабела, и все больше силы стали незаметно забирать иезуиты. Говорили, что епископ Виленский Валериан Проташевич по совету Варминского кардинала пригласил нескольких иезуитов к себе и думает открыть в Вильно «коллегиум» – иезуитскую светско–духовную школу для дворян.
Все эти известия разрушали мечты Курбского, но самый тяжелый удар этим мечтам о русском православном царстве нанес ему в том же тысяча пятьсот шестьдесят девятом году изможденный и устрашенный человек, который постучался в его ворота метельной февральской ночью.
Лаяли, хрипели псы, вооруженные сторожа, осмотревшись, отодвинули засов калитки, привели ночного гостя на кухню, расспросили, зажгли в печке огонь. Проснувшийся Курбский не смог заснуть и послал отрока узнать, что за шум. Ему доложили, что приехал от гетмана Григория Ходкевича человек из Новгорода – слуга купца Василия Собакина, которого князь знавал, и просит убежища и покровительства, а привез он из Новгорода разные вести. Курбский понял, что не заснет: где‑то подспудно жила в нем крохотная надежда, что хоть Алеша–сынок, может быть, остался жив. И каждый беглец из России мог принести такую весть. Поэтому он оделся и велел привести этого человека. На столе горели свечи, лежала книга – сочинение философа Платона, было тепло, тихо. Здесь много вечеров проводил он в мире и безопасности, стараясь забыть то, что видели его глаза мерзкого и страшного, и, углубляясь в отвлеченные рассуждения мудрецов или в откровения великих устроителей духовной жизни, он на время становился иным – терпимым и спокойным.
Человек в скромном дорожном платье вошел, перекрестился на образа и поклонился князю. Был он худ, русоволос, а глаза, голубые, напуганные, моргали, чего‑то искали.
– Кто ты и что тебе надо? – спросил Курбский. – Зачем прислал тебя гетман Ходкевич? И как имя твое?
– Прости, князь, что ночью прибежал к тебе – всего я стал бояться… Чуть не замерз в метель, а в селе в дом не пустили ночевать, так я… А зовут меня Павел, брат я двоюродный торгового гостя новгородского Василия Собакина, у которого ты брони покупал и сабли.
– Садись, Павел. Сейчас принесут тебе горячего вина. Эй, кто там! Принесите ему вина, а то он весь трясется. Как здоровье Василия?
– Это я не от холоду, – тихо сказал Павел, – это я от иного… Нет больше Василия, и Великого Новгорода тоже больше нет и не будет!
Слезы побежали по исхудалым щекам, голова задергалась, он закрыл лицо руками и только все глотал, глотал, словно подавился чем‑то и не мог проглотить. Курбский молча ждал, сдвинув брови, выпрямившись настороженно. Принесли чашу с горячим вином, мясо, кашу, хлеб. Но Павел все трясся, не мог говорить.
– Ну, Павел! – сказал Курбский строго. – Ты же не баба – выпей и рассказывай. Даром, что ли, я встал ради тебя?!
Павел выпил, но есть не мог, однако слово за слово он разговорился, и постепенно из ночной вьюжной мглы начали вставать, как картины Страшного Суда, образы ужаса и поругания, невиданные нигде прежде. Эго был рассказ очевидца, который мало что понимал, но пережил и свою и чужую гибель. Это был рассказ о походе Ивана Васильевича на Новгород в декабре тысяча пятьсот шестьдесят девятого года [142]. Больше всего ужаснула Курбского поголовная расправа с дьяконами, священниками и монахами, которых сначала «поставили на правеж» – били, пока не отдадут «двадцать рублей с головы», а потом просто забили насмерть. И еще – как топили в Волхове, бросали с моста простой народ, младенцев к матерям привязывали. Казни бояр и торговых людей после этого даже не устрашали.
– Много тысяч народу побито, монастыри и храмы разорены, город опричнине отдан на поток, – говорил, пришепетывая, Павел, – никто не спасся – все окружил войском, я в подполе неделю сидел, ночью выполз, утек лесами…
Он выпил еще, утер испарину со лба.
– Последние времена, князь, – сказал он полубезумно. – Говорят, митрополит Филипп Колычев, в Твери заточенный, Малютой в келье своей задушен.
– Малютой? Каким? Скуратовым–Бельским? Этим псом кровавым? Да как его царь не колесовал за это!
Курбский вскочил и стал ходить по палате, тень металась по стенам, то вспыхивало, то гасло литое серебро в поставце, скрипели половицы.
– Царь! – горько повторил Павел Собакин. – Я бежал из дому в Псково–Печорский монастырь, еще батюшка вклад туда делал, настоятелем там отец Корнилий [143], не слыхивал?
Курбский перестал ходить:
– Как не слыхать – знаю и почитаю отца Корнилия давно. Здоров ли он? Ты его видел?
– Видел… – глухо отозвался Павел, уставился на свечу, глаза его остановились, помутнели. – Видел… Ночью меня так же вот расспрашивал, а утром я самому ему исповедался по его милости, «не жалей, говорил, Павел, ни денег, ни имения, сохрани лишь совесть христианскую, а бегство твое я тебе отпускаю…».
Голос Павла начал западать, только губы шевелились беззвучно, белело пятно лица, заросшего русым волосом. Курбский смотрел на его грубошерстный армяк, на худые мокрые сапоги и завидовал: вот сидит в его княжеской палате беглый человек, который в одну ночь стал нищим и бездомным, но у самого отца Корнилия получил разрешение всех своих сомнений, а он, Курбский, не получил. Курбский знал настоятеля много лет, часто пользовался его гостеприимством и собранной им богатой библиотекой. Вот он как живой всплыл в памяти: смотрит ласково васильковыми глазами из‑под седых бровей, говорит не спеша, твердо, постукивая сухим пальцем по подлокотнику. В последний раз Курбский видел его – как время‑то мелькнуло! – десять лет назад на стройке: подводили купол нового храма Покрова Богородицы, был день осенний, солнечный, искрилась облетевшая листва на отвалах глины, белокаменные стены на ветреной синеве слепили взгляд. Корнилий стоял под стенами, закинув голову, щурился, улыбался.
Что говорит этот глухой, омертвелый голос?..
– …Хотел я в тот день бежать далее, но вдруг шум, идет войско, сам царь впереди опричников. Вышел к нему за ворота встречать отец–настоятель с крестом, и царь подошел – будто, думали мы, под благословение, а сам как махнет – и срубил ему голову… – Павел все смотрел недвижно, и голос его отмирал, шелестел, только брови поднимались изумленно. – Отлетела голова, а тело‑то не падает, стоит, сам видел – стоит, и все, а когда пошатнулось, царь его подхватил, поднял на руки и понес в монастырь под угор, а кровь на дорогу так и плещет, так и плещет… – Голос опять стал западать, исчез, только слезы беззвучно бежали дорожками по грязному лицу, пропадали в бородке, и он их не утирал.
«Митрополита Филиппа – праведника соловецкого, правдолюбца, Корнилия – устроителя православия на границах наших, строителя, просветителя, крестившего и эстов, и ливов!»
Все это было до того зверски, что превращалось в бессмыслицу, но именно бессмыслица была верным признаком князя тьмы. Беззаконие… Тайна… «Тайна беззакония уже в действии». Метель хлестала в ставни, колебались язычки свечей, Курбский смотрел, как отражались они в расширенных зрачках Павла, слушал его голос, переставая понимать смысл не только его слов, но и всей жизни – своей и других. Метель потрясала стены, билась о доски забора, а они сидели друг против друга, хотя Павел давно кончил рассказывать и застыл, уставившись на огонь свечи.
В щели ставен заголубел рассвет, и Курбский сбросил оцепенение. Он встал, перекрестился, сказал:
– Иди ложись, завтра устрою тебя в городе либо здесь.
И Павел с трудом, сгорбившись, вышел. У себя в спальне Курбский долго стоял перед киотом, в тихом свете лампады темнел кроткий лик Богоматери. Не было в Курбском ни молитвы связной, ни мысли – он просто стоял вот здесь, и все. Холод несся над миром, холод нелюдской, но вызвали его люди, темные и слепые, сами себя обрекшие на погибель и не ведающие этого. Он ли это подумал или от кого‑то слышал когда‑то, но ему казалось, что этой ночью он увидел движение надмирной стихии, метели бесконечной и беспросветной, и сам он с его горестями показался сейчас себе ничтожным, ненужным. Он поднял руки к бревенчатому потолку. «Господи! – сказал он. – Что же это идет и как называется то, что идет? На нас всех, на Русь, да, на Русь!»
Впервые он до конца осознал, что до самой смерти не увидит своей родовой усадьбы на реке Курбе. Это было непоправимо и окончательно.
Что бы ни случилось, но человек каждый день должен подниматься с постели и заниматься своими делами, и поэтому Курбский на другой день после обеда принимал судебного исполнителя из Владимира.
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ О ВРУЧЕНИИ КНЯЗЮ КУРБСКОМУ КОРОЛЕВСКОГО ПРИКАЗА ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЖАЛОБЫ КНЯЗЯ ЧАРТОРЫЙСКОГО [144] НА РАЗБОЙ И ГРАБЕЖ В СЕЛЕ СМЕДИНЕ 1569 ГОДА 2 ФЕВРАЛЯ
…Я, Вальцер Пежняка, из уряда замка Владимирского, взяв с собой свидетелей и слуг князя Чарторыйского, был в прошлый вторник января двадцать седьмого дня у князя Курбского в имении его Миляновичи, где слуга князя Чарторыйского подал ему королевский напоминальный лист и говорил от лица своего пана об обидах и вреде, причиненном в Смедине, о завладении землей, о подрании пчел, о насилиях и грабежах, о побоях плотнику Вацлаву и о похищении имущества. Также просил он Курбского вернуть девять голов рогатого скота и тридцать овец крестьянке смединской Омельянке.
Князь Курбский принял королевский лист, прочитал и дал такой ответ: «Я не велю вступать в Смединскую землю, но велю защищать свою землю, пожалованную мне по милости Божией и господарской. А если смединцы будут присваивать мою землю, то прикажу их ловить и вешать, потому что та земля – моя… А скота и овец я вышеуказанной крестьянке возвращать не велю, потому что этот скот принадлежит мне».
Так шли дни и месяцы, и кончался шестой год житья Курбского в Речи Посполитой, и было скучно, потому что, кроме книг и редких встреч с Острожским, он ничем не мог развлечься: его дело – война – обессмыслилось, в России было моровое поветрие и границу закрыли наглухо, ездить на пиры к соседям Курбский совсем перестал. Все чаще он думал о том времени, когда был молод, свободен от сомнений, когда его любили и ждали домой. Он думал о том времени, но плохо его видел: картины, краски, запахи, ощущения становились все бесцветнее и суше, удалялись, истлевали. Он напрасно старался вызвать их из небытия – остались мысли, а не чувства. А ведь ему исполнился только сорок один год. Неужели он иссяк и очерствел совсем, как старая, изношенная кожа?
Было позднее лето, он бесцельно бродил светлыми душными вечерами по дороге за имением, стоял по пояс в отцветающей траве, смотрел на дальние лесистые холмы за рекой. Раза два он заметил в сумерках проблески каких‑то огней на этих холмах и спросил об этом литовца–конюха, но тот только странно усмехнулся, покачал лохматой головой. Сегодня Курбский опять заметил огонь на далеком холме, и чем темнее становилось, тем сильней он разгорался. Это не мог быть костер угольщиков: огонь горел на самой вершине. Он велел опять позвать конюха–литовца и сказал ему, что даст денег, если тот ответит, что это. Конюх был тайным пьяницей, но так долго молчал, что Курбский рассердился. «Если ты не хочешь сказать, значит, не чтишь своего господина!» «Нет, хозяин, – ответил конюх. – Но я боюсь говорить, что это». – «Это знаки воров, лихих людей?» – «Нет, тогда бы я сказал сразу. Это огни в честь нашего бога». – «Как его зовут?» – «Его имени нельзя называть». – «Кто жжет костры?» – «Те, кто его не забыл. Но ты не скажешь об этом вашему священнику?» – «Не скажу. После ужина зайди в дом – я обещал и награжу тебя».
Конюх ушел. Было тихо, тепло, в мглистых сумерках пахло шалфеем, сухой землей, пылью. Далеко, вздрагивая и разгораясь, горели священные огни древних язычников. Кто сидел там вокруг них? О чем они молились и кого видели в лесистых далях, в долинах, полных тумана? «Может быть, дева, нагая и белоснежная, стоит там, на холме, и смотрит на окна моего дома. Волосы окутывают ее, как травы, глаза зеленеют во мраке, как у лесной кошки, а тело благоухает ландышами… Кто сказал, что сейчас нет колдовства и древних культов? Все гонимое становится острее от гонения, и немногие ворожеи стали еще сильнее, чем прежде». Это были не мысли даже, а ощущение странного и пронзительного взгляда, который шел с далеких холмов и за несколько верст мог разглядеть каждую складку его лица.
7
Август, скоро Успение, а жара все не спадает. Пожухла трава, душно даже в тени старых лип, а когда он вышел из тени и пошел по мощеной соборной площади, горячим камнем дохнуло в лицо, он прищурился от кремниевого блеска. Жарко и скучно, бессмыслица… Только что он в десятый раз растолковывал судейским то дело–спор с Чарторыйским, по которому опять пришлось приехать сюда, во Владимир–Волынский. А они еще одно дело припутали – Ивана Келемета, который посадил каких‑то торгашей–евреев в долговую яму с водой и пиявками и не выпускал, пока не заплатят, а судьи говорят, что те евреи – свободные люди и теперь надо будет платить за них по новому делу и в казну, и самим потерпевшим. Курбский не выдержал и ушел, ударив дверью, но на жаре гнев пропал, истек потной марью, стало просто тошно, и никуда не хотелось идти. «Уеду! – решил он внезапно и окончательно. – Пусть Иван сам с ними судится!»
Он расстегнул ворот, замедлил шаг, отдуваясь; зря он оставил коня у Ивана – хоть и близко идти, а тяжко по пеклу. Навстречу шли люди – впереди женщина, стройная, невысокая, за ней юноша и еще женщина, и Курбскому захотелось почему‑то свернуть и уйти прочь, но сворачивать было некуда и незачем, и он шел, вглядываясь все тревожней, удивляясь волнению, подкатившему неведомо отчего, а когда сблизились, его словно толкнуло в грудь, и он остановился: это была она, Мария Козинская. Она совсем не изменилась, такая же тонкая, как девушка, в короне волос вспыхивали блики, светлые глаза смотрели прямо, непонятно, чуть приподнялась верхняя короткая губа. Он поклонился и что‑то сказал, и она ответила что‑то, и так они стояли и смотрели друг на друга на краю пустой раскаленной площади.
– Если князь не спешит, может быть, он проводит нас? – услышал Курбский и еще раз поклонился.
Они пошли вперед, а другая женщина, служанка, и юноша – ее брат? – сзади. Курбский молчал и сердился на себя за это, но в голову ничего не шло.
– Ты так же красива, панна, как и раньше, – сказал он.
Она посмотрела искоса.
– И ты тоже не изменился, князь Андрей, – ответила она. – Я видела тебя в Варшаве в прошлом году, но ты меня не заметил в толпе.
Я думал о тебе, – сказал он.
– Когда? – быстро спросила она.
– Две недели назад. Вечером.
– А где это было?
– За моим домом. Я смотрел на костер далеко в лесу, там…
Он взглянул на нее, но она шла ровно, плавно, прямая, невозмутимая. «Нет, это Мария Козинская, богатая вдова, и – все».
Но он не мог отделаться от какого‑то суеверного страха.
– Вот мы пришли, князь, – сказала она и остановилась. Они стояли перед воротами старинного каменного дома с окнами–амбразурами и резной дубовой дверью. – Это дом моего первого мужа, здесь живет мой сын – Ян Монтолт [145]. Подойди, Ян. Это князь Курбский, мой друг.
Юноша смотрел на Курбского; у него были холодные светлые глаза и сросшиеся брови, и от этого он казался старше своих лет. Курбский удивленно переводил взгляд с него на мать – он никогда бы не поверил, что у нее такой взрослый сын.
– Я думал, это твой брат, – сказал он, качая головой, а она улыбнулась и повторила:
– Князь Курбский мой друг, Ян.
– Я слышал кое‑чтоо князе Курбском, – растягивая слова и усмехаясь, сказал юноша.
Курбский пристально взглянул на него, но тот не отвел взгляда. Он стоял, отставив ногу, играя концом шелкового кушака. Он был одет богато, рукоять его сабли горела самоцветами. Курбский вспомнил, что где‑то слышал это имя: Ян Монтолт. Где? Но Мария Козинская кивнула ему и пошла в ворота, сын и служанка за ней, и он понял, что его не пригласили зайти. Поднимаясь на ступеньки входа, она оглянулась, он смотрел ей вслед пристально, нахмурясь, щеки его горели. «Надеюсь, мы не встретимся больше», – хотел он сказать, но она уже скрылась за дверью. Курбский повернулся на каблуках и пошел обратно на площадь. Он старался выкинуть ее из головы, но бледное лицо плыло перед ним в мареве над булыжной мостовой и потом, вечером, когда с двумя слугами, не доделав ни одного дела, он поднялся и, несмотря на ночь, поскакал в Миляновичи.
Он ехал по пустынной песчаной дороге под жестким лунным светом, а ее лицо все плыло впереди, обращенное к нему, непонятное, светлоглазое, и ему становилось тяжело, как от затаившейся опасности, и он оглядывал темные кущи деревьев на лунных полянах, точно ждал вражеской засады. Он вспомнил, где слышал имя ее сына: это было в прошлом году на обеде у городского бургомистра – говорили, что несколько юношей из знатных фамилий, возможно, грабят на главном шляхе из Львова во Владимир. Правда, самих фамилий не называли, но имя Ян называли. Что ж, с таким взглядом все возможно. Не думал он, что у нее такой сын. Но что ему за дело и до него, и до нее самой?
Глухо ступали кони по проселку, спадал дневной жар, в пыльном ночном небе прохладно искрились мелкие звезды. Курбский ехал, бросив поводья, расслабив тело, ему все равно было, когда он доедет и что будет завтра, – он словно вновь въезжал в свое привычное одиночество, в котором жил в этой чужой стране.
Двадцать первого мая, в день равноапостольных царя Константина Великого и матери его Елены, в имении Константина Острожского под городом Острогом чествовали именинника все православные фамилии Волыни. Собирались они все вместе, чтобы обменяться мыслями о положении государства и церкви, о новых веяниях с Запада и с Востока, обо всем, что объединяло или разъединяло их с судьбою Речи Посполитой. Князя Константина Острожского любили за его терпимость и добродушие самые разные люди, поэтому в его доме почти все споры решались мирно, а вспыхивающие иногда стычки тут же гасились ради спокойствия хозяина и хозяйки. В мае тысяча пятьсот семьдесят первого года собрались здесь князья и Корецкий, и Чарторыйский, и Андрей Курбский, приехал из Вильно сам старый гетман Григорий Ходкевич с сыновьями, а с Ним русские изгнанники – печатники Иван Федоров и Петр Мстиславец, бывший троицкий игумен Артемий [146], князь Семен Бельский, Заболоцкие и другие дворяне русско–польского происхождения, знакомые и друзья Острожского по походам.
Утром двадцать первого мая была обедня в домовой церкви, потом обед, а вечером – бал и пир. Пировали до рассвета. Двадцать второго встали поэтому чуть ли не в полдень и собрались один за другим в зале с окнами на галерею, где были накрыты столы с закусками и винами. Это был не то завтрак, не то полдник, а для сильно выпивших накануне – пред лог опохмелиться и прийти в себя перед вечерними развлечениями.
Вошли дамы, и все шумно и радостно встали, приветствуя их, отодвигая стулья. Слуги внесли блюда с горячим мясом, соусы и вина, ранние овощи и привезенные с юга фрукты и орехи. Пестрый рой женщин рассаживался, болтая и смеясь, как стая птиц на сжатое поле. Лицо Константина Острожского выражало полное блаженство: споры кончились и ссоры тоже. «Я заслужил, чтобы сегодня больше никто не заикался о войнах или иезуитах – всему свое время». И он призвал к молчанию и провозгласил тост за «цариц нашей скучной жизни».
Чуть наискось от Курбского сидела за столом Мария Козинская, невозмутимая и прекрасная. Он смотрел на нее такими же глазами, как вчера ночью во время бала, но она ни разу не взглянула на него почему‑то. «Она просто не заметила, что я сижу напротив. А вчера? Вчера она раза два взглянула, но там было так много людей и шума, и я не подошел. Да и зачем бы я к ней подошел?»
Он опустил взгляд и стал тянуть сквозь зубы терпкое старое вино из тяжелого серебряного кубка. «Надо думать о другом. Вот сидит Иван Федоров, искуснейший печатник и книжник, спасибо ему за подарок – как прекрасно напечатал он и переплел свое новое изделие – Евангелие! Ходкевич говорил, что он еще напечатал Псалтырь с Часословом. И все это могло бы быть и на Руси, это и все, о чем мы мечтали с несчастным Алексеем, с Максимом Греком, упокой, Господи, их души!» Он смотрел в окно на молодую свежую листву, на крону старой липы, усыпанную мелкими медовыми соцветиями; по голубому просвету с юга на север нехотя шли прозрачные облачка, их тени еле заметно скользили по песку аллеи, по каменным ступеням террасы. А вчера он спустился по этим ступеням в сад в смятении, и лицо его горело, а сердце стучало тоскливо и глухо. Кого он искал в ночном цветении черных лип? В лунных дорожках, холодных, как обнаженный меч, в себе самом?
Накануне вечером в самой большой зале замка горели сотни свечей и толпа нарядных мужчин и женщин, прохаживаясь и переговариваясь, наполняла каменную гулкость сводов непрерывным беззаботным жужжанием. Курбский стоял у стены, позади кресел, где сидели старые и пожилые дамы, а также несколько родовитых стариков. Он никого не искал глазами и ни о ком особенно не думал, а просто скучал. Но и беспокоило что‑то его исподтишка, точно некто наблюдал за ним тайно, неотступно, а зачем – неизвестно.
Все ждали танцев – нововведения, привезенного из Варшавы молодежью, не старых – с саблями и свистом в кругу бьющих в бубны и цимбалы, а новых – королевских танцев. На хорах настраивали инструменты музыканты, выписанные из столицы.
Ожидание затянулось, было жарко, у Курбского устали ноги, хотелось спеть. Он стал вспоминать, кого видел за день, сбился, начал рассматривать прическу сидящей спиной к нему старухи… От удара смычков вздрогнули язычки свечей, вздрогнуло нечто в груди и запело, заликовало, повело куда‑то торжественно и гордо–печально. Это был новый бальный танец – полонез.
В первой паре, выступая легко и надменно, заскользили на середину залы высокий старик с седыми кудрями и смуглым горбоносым лицом и тонкая гибкая женщина с осанкой королевы. Старик вел ее за кончики пальцев вокруг себя, вдоль залы, сходясь и расходясь с изящными поклонами, и веял шелковый трен ее платья, вспыхивали алмазики в высокой прическе, а у него отлегал седой завиток с высокого лба, щурился под лохматой бровью мудрый и задорный глаз. Это были великий гетман литовский Григорий Ходкевич и Мария Козинская, урожденная княжна Гольшанская. А за ними двигались в шествии–танце остальные пары: молодежь во французском платье, шляхтичи постарше, сверкающие самоцветами пряжек, и дамы, белокурые и черноволосые, все упоенные музыкой, ароматами духов и близостью взглядов, тел, дыханий.
Раскланиваясь с кавалером напротив Курбского, она взглянула на него, а сидя в другом конце зала меж танцами, оглянулась. Но он не подошел к ней – он не умел танцевать эти западные танцы, они казались дикими ему, русскому, который посчитал бы непристойным обнимать на людях чужую жену с полуголыми плечами и руками. Но втайне желать этого ему никто не мог запретить.
Он был застигнут врасплох: он не знал, что Мария Козинская тоже приглашена с сыновьями в гости в этот дом. Желать ее и смотреть в жару свечей на ее тело, послушное руке кавалера и прекрасной, как колдовство, музыке, желать и стоять у стены на глазах у толпы, которая может разгадать его мысли, – все это было невозможно длить, и он вышел в сад. Свет квадратами лился из окон на темную аллею, а он уходил в ночь, в сырой запах цветущих лип, в стальные перекрестья лунных просветов. А полонез гремел и настигал его, и он плыл в его торжестве и гордыне к лунным полям над парком, над всей землей. Он не понимал, что с ним, и не хотел ничего понимать.
Так он провел ночь. И вот он сидит здесь, а она напротив и не смотрит на него.
– Так нельзя, князь! – сказал рыжеусый толстый шляхтич. – В одиночку пьют только пропащие пьяницы, а шляхтичи пьют за дам!
Курбский посмотрел на него пристально, голубые глаза его потемнели.
– Ты обещал, Андрей, рассказать что‑то еще о Новгороде, – сказал беспокойно Острожский.
– Все знают о Новгороде не меньше меня, – ответил Курбский, продолжая смотреть на рыжеусого. «Я убью его при первой же стычке, – подумал он беспощадно. – Или велю Келемету его убить!» Он чувствовал, что сделает так. – Это бессмысленно: князь Московский разрушает собственное государство хуже татар!
– Я не защищаю князя Иоанна, – вдруг сказала Мария Козинская бесстрастно и четко, – но здесь он прав: так поступил бы каждый государь – говорят, нашли грамоту, по которой видно, что Новгород хотел ему изменить.
– Это подложная грамота, – возразил Курбский, изумляясь и теряясь: что она хочет этим дать понять?
– Нет, говорят, что посадник и другие знатные фамилии признали свои подписи, – заговорил юноша, сидящий рядом с Козинской.
Это был ее сын Ян Монтолт. Он смотрел на Курбского нагло.
– А ты видел эту грамоту? – насмешливо спросил у юноши Богуш Корецкий. – Александр Полубенский говорит, что ее подделали, он называл имя человека, который из мести подложил эту грамоту в собор святой Софии, а потом сам донес Иоанну. А царь всегда рад поводу для пролития крови!
Все слушали этот спор, Мария Козинская не отрывала взгляда от Курбского, и верхняя губа ее чуть морщилась, как от улыбки.