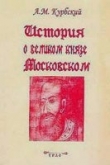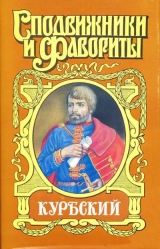
Текст книги "Андрей Курбский"
Автор книги: Николай Платонов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Шел конец сентября, но дни стояли солнечные, золотистые рощи сквозили синевой неба, тихо шуршали сухие травы – бабье лето.
После полуденного сна Курбский сидел и растирал виски, когда доложили, что привезли письмо из Вербского Троицкого монастыря от игумена Иоасафа. Письмо привез иеромонах Александр – настоятель деревянной церковки святого Николая. Он сидел против Курбского на краешке дубового стула, сложив руки на коленях, и с любопытством осматривал полки с книгами, дорогое оружие и мраморные головы античных философов. Курбский прочел письмо и сложил его пополам. Иоасаф просил в долг много денег и приглашал навестить монастырь, отдохнуть, полечиться тишиной и молитвой. Но денег он просил слишком много.
– Денег я отцу настоятелю пошлю, но не столько – нет у меня столько… Как у вас там дела, отец Александр?
– А? Дела‑то? Ничего, как и везде, – грешим да каемся, живем…
Он отвечал рассеянно, все посматривал на корешки книг.
– Это философы и риторы латинские и греческие, – сказал Курбский. – А вот там Иоанн Златоуст, Василий Великий, Дамаскин и другие отцы церкви.
Он был горд своей библиотекой. «Ничего ты, попик милый, не читал; верно – малограмотно наше православное духовенство, не то что у латинян…»
– Иоанна Дамаскина и я читал. По–гречески, – смущаясь чего‑то, сказал монах, и Курбский удивился. – Сподобил Бог грамоте, вот на пути в обрат буду, так не дашь ли мне творения Златоуста? Я сберегу, не попорчу. Слышал я, княже, перевел ты и «Нового Маргарита»?
Круглолицый курносый отец Александр смотрел просительно, сквозь седую бороду просвечивали обветренные щеки, руки на коленях работящие, потрескавшиеся; крутил пальцами. Курбский скрыл удивление, кивнул, подумал: «Откуда знает столько? Кто он был в молодости? Не боярский ли сын? А с виду прост, как деревенский пасечник какой‑нибудь…»
– Дам, заезжай. А куда ж ты едешь? Служить в храме кто будет?
– Служить буду после праздника преставления преподобного Сергия Радонежского с двадцать пятого сентября дня, если отец Иоасаф допустит.
– Как – допустит?
Голос и взгляд были спокойно–добродушны, даже чуточку веселы:
– Наказал он меня, епитимью наложил на месяц – не служить.
– За что ж так?
– За дело, князюшка, за дело! – Александр улыбнулся, покачал головой. – Еще мало меня наказал. Вот съезжу в Ковель за солью – отец келарь послал, – вернусь, а там как Бог даст. Да ты, князюшка, приезжай к нам, у нас дух сосновый, песчаный – все хвори пройдут. Ну пойду, пора ехать.
– Погоди, – сказал Курбский, и монах снова сел. Они помолчали. – Дошла ли до вас в монастырь весть, что король взял Великие Луки? [217]
– Дошла, как же, знаем…
– Там были слуги мои – вот я записал, – помяните их за упокой. Воины, на поле брани павшие: Сергий, Петр и Гавриил. Таврила Кайсаров – соратник мой во многие годы, прострелили его на штурме. Да ты его, отец, знавал.
– Помянем. Знавал я Гаврилу, вечная ему память…
Они опять помолчали.
– А дошло ли до вас, что при штурме Великих Лук мадьяры почитай всех вырезали – только двое воевод спаслись, – потому как и полон избили, а всего более двух тысяч? Имена же их ты, Господи, веси.
– О том нет, не наслышаны, – ответил Александр.
Курбский поколебался.
– Хочу я, – начал он медленно, всматриваясь в глаза монаха, – просить тебя и по этим убиенным отслужить панихиду. Если не можешь, скажи сразу.
– Могу, – ответил иеромонах, поднимаясь. – Отслужу. Да ты сам, княже, приезжай. Приедешь? А теперь пора мне. – Он пошел к двери, на пороге приостановился, сказал: – О панихиде не говори никому, а дело это – Божье, доброе дело.
Октябрь–листопад тоже был теплый, почти не дождило. Пришло письмо от Богуша Корецкого, где он описывал подробности взятия Великих Лук, а также Торопца и Озерища. Письмо его дышало радостью, ликованием даже, странно почему‑то было читать такое письмо. Может быть, дома и под стенами крепости разные у людей натуры и мысли.
Писал также Богуш, что канцлер Ян Замойский не верит в болезнь князя Курбского и говорил о том королю, но Григорий Ходкевич написал королю еще после взятия Дерпта и потом спорил при короле с Замойским – защищал Курбского, и потому король сменил гнев на милость, но Курбскому надо бы появиться в войске, как только Бог здоровья даст, а то враги его сильны и Радзивиллы, родственники его бывшей жены Марии, всюду его поносят.
Курбский читал все это без гнева, ему не хотелось Ничего никому доказывать – все дела его казались теперь почти ничтожными рядом с ночными ужасами. По ночам он просыпался иногда весь в поту, но что видел – не мог припомнить. Каждый вечер и каждое утро он читал от слова до слова все молитвенное правило, но как‑то тоже безразлично, по привычке. Лишь раз его словно толкнуло под грудь от слов: «…И избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий…» Он повторил их дважды, а до этого повторял ежедневно много лет подряд и не замечал ничего особенного.
Дни стали короче, ночи – темнее и длиннее. Просыпаясь, он подолгу смотрел на крохотный язычок огня за зеленым стеклом, ждал, когда рассосется спазма в затылке. Он мечтал о сне без сновидений, но, видно, Бог перестал его слышать.
…Алешка спал в сгибе его локтя – растрепанная головенка, теплая, нетяжелая, закрытые глаза, ровное детское дыхание. Иногда по лицу проходила изнутри еле заметная волна – какой‑то сон видел Алешка, хороший, наверное, потому что губы его чуть вздрагивали в намеке улыбки. Они спали на сеновале, и уже рассвело – под застреху светило все яснее розоватым восходом, стали видны сухие смятые стебли трав и цветов; от сенной сладковатой трухи першило в носу, но он боялся чихнуть, чтоб не разбудить Алешку. Он смотрел на него, и все теплее, радостнее, спокойнее становилось в середине груди, словно там таял долголетний заледеневший ком снега, грязного и кровавого, и горячие ручьи выносили из тела ил и мусор, вымывали, очищали, освобождали, и он сам улыбался неудержимо, потому что Алешка оказался жив и вот они навеки теперь вместе на этом знакомом сеновале… Он не заметил, как Алешка исчез: был сеновал, была вмятина в сене от детского тельца, до каждой травинки все было ясно, достоверно, а вот Алешки не было. И тут опять извне из какой‑то злой и слепой страны донесло отчаянный мальчишеский плач–зов, и он вскочил на ноги в поту и ужасе.
Он стоял в зеленом полумраке своей спальни, а за стеной продолжался этот плач–зов, но уже наяву. Он одевался лихорадочно, потом разбудил слугу, собрал деньги, бумаги, велел запрягать спешно и в третьем часу ночи бежал молча, бессмысленно по дороге на Ковель.
Двадцать верст до Ковеля, осенние грибные запахи опушек, стаи грачей и дроздов, собиравшихся к отлету, багровые осинники и сжатые поля – все это немного успокоило его, но возвращаться он и думать не хотел. Кирилл Зубцовский принял своего князя с почетом и заботой, только по недогадке отвел ему ту самую комнату, в которой Курбский последний раз встречался с Марией, и поэтому уже на второй день опять увязывали телегу, запрягали коляску – князь приказал ехать на богомолье в Вербский Троицкий монастырь.
Деревянную церковку святого Николая на островке, заросшем вдоль реки густым ивняком, Курбский навещал не раз. На островок попадали по мостику через протоку, который сносило каждое половодье. Церковка и изба–келья – все это стояло по колено в сухой траве, в ромашках, уже увядших, а за церковкой на погосте – кресты, седые от лишаев, холмики, поросшие густо земляничным листом; на слеге ограды сидела, дергая хвостом, бело–черная беспокойная сорока. Она снялась и полетела через протоку, когда Курбский подошел ближе.
Он только что отстоял обедню, которую служил отец Александр. На обедне было пять послушников и несколько старух из соседней деревни: остальной народ ходил в каменный собор монастыря, где пел монашеский хор. Иеромонах Александр жил при своей церковке и сам ее чинил и украшал: он был не только прекрасный плотник, но и искусный резчик по дереву. Курбский давно приглядывался к нему, но понять не мог. Он уже пятый день жил в монастыре. Не очень жаловал настоятель ни эту церковку, ни отца Александра, и весь этот островок жил на отшибе, как бы немного отлученный от монастыря, своей тихой скромной жизнью среди диких трав и разросшегося ивняка.
Курбский разглядывал могилки на погосте, когда его позвали перекусить. Они сидели друг против друга в крохотной избушке–келье, чисто выскобленной, сосновой, и ели кашу с конопляным маслом из резных деревянных чашек. Курбскому было около старичка монаха как‑то просто и покойно, и ел он с охотой, запивая с удовольствием киселем из черники, который сам же отец Александр и варил. Тучи разнесло, и за оконцем мирно сияла речка в высоких темных камышах.
Поели, помолились, вышли на завалинку. Монах снял шапочку–скуфейку, отер лысину, блаженно прищурился на реку, на отраженные бело–серые тучки, втянул носом травный горьковатый ветерок осени.
– Благодать! – сказал он и вздохнул, – Вот она где – повсюду!
Курбский присматривался к нему сбоку: прост, курнос, ни о чем премудром, философском никогда не рассуждает, снять с него рясу – мужичок–старичок, и все. Улыбается, даже вроде шутит иногда, что монаху не положено. Правда, в храме он весь другим становится – серьезен и глубок, а выйдет – опять иной, прежний, простодушный, по–русски даже растрепанный какой‑то, что ли, и на все улыбчивый.
– Какая разница, – медленно заговорил Курбский, – между сном и видением?
Отец Александр удивлённо на него глянул: не вопрос его удивил, а оттенок голоса – изменившегося, глуховатого.
– Не знаю, княже, но святые отцы заповедали, что сон даже и про светлых мужей может быть от лукавого.
– Это я читал… Но другое мне важно: если от сна ли, от видения ли жить не хочется, то от кого оно?
Монах долго молчал, смотрел в землю, покачивал лысиной.
– Не отвечу тебе, княже, ибо не знаю твоего сна, – сказал наконец он.
Курбский не мог ему сейчас ничего рассказать, его незаметно передернуло, он пожал плечом.
– Сон этот был как явь и повторяется часто, язвит меня ужасом, и оттого жить невмоготу… – вырвалось у него совсем приглушенно; сошлись брови, пальцы затеребили кушак.
– Жить человеку лишь от одного невмоготу – любви нет.
– Как это?
– Так. Суха душа. Да, княже, чадо мое, любви нет. Кош любил, их уже нет, а кого имеешь – не любишь. Сушь. Я так‑то десять годов тоже жил…
– Не мог ты, как я, жить, отец… Не хочу я ничего, нет жизни мне…
– Нет, а ведь живешь. И там, – он кивнул головой на тучи, – тоже жить будешь. Только плохо ли, хорошо ли – о том не ведает никто… Людей не любишь потому, княже, что ты в Христа почти не веруешь.
– Я? Не верую? Да ты что, отец! – Курбский начал сердиться, но старик все так же покойно смотрел в речные серо–голубые дали, тихонько поглаживал редкую седую бороду. Глаза его смотрели чисто и прямо.
– Кабы ты в Него верил, то не мог бы не любить Его. А кабы ты Его любил, то и людей любил бы, жалел бы до слез, и прошла бы твоя сушь, и жил бы ты вечно. – Он смотрел на Курбского с сочувствием. – Ты, княже, любовь потерял. А веровать – так и бесы веруют и трепещут…
– Потерял? – повторил Курбский. Еще никто ему такого не говорил.
– Потерял. Теперь тебе заново искать Бога придется, княже. Уж ты поверь мне: я тоже десять годов как на солончаке жил. Ох!
– Если ты думаешь, что я Бога потерял, то… – с ожесточением выговорил Курбский. Ему хотелось встать и уйти. – Все правила, посты – всё я, как заповедано, исполняю, и церковь нашу чту, и…
– И так бывает – все человек исполнил, а любви не имеет и – помнишь ли Писание, послание апостола Павла? Не имеет – и все напрасно…
– Помню, – сказал Курбский. – Но у меня не от этого… Может быть, Бог мне и простит, но я сам себе никогда не прощу! Одного своего греха окаянного.
Монах посмотрел на него еще раз покойно, задумчиво.
– Вот это и добро, что сам себе не простишь – и не надо самого себя миловать. Это к добру в тебе, княже, перемелется – мука будет, верь мне. Ведь я кто был? А сейчас во мне мир, слава Богу, надеюсь, и отойду в мире… А ты: «Не хочу жить! Не прошу себе!» Да и не надо. Гляди на реку‑то – видишь?
– Что?
– Красу ее, осень, тучи–облака, храм наш старый, рябины, погост… На том погосте лежит мой любезный друг, в миру атаман Наконечный, а в постриге отец Афанасий. Так‑то!
Он встал, обветренное лицо его морщинилось улыбкой серых глаз, ветерок развевал седые волосы на затылке, теплая рука опустилась на голову Курбского, полежала чуть–чуть, благословила его тихонько, и отец Александр ушел в свою избушку–келью.
Курбский встал. Он хотел рассердиться, но не мог почему‑то, шел по мосту, глубоко размышляя. Но мысли его были бессвязны, угловаты, они сталкивались, западали и всплывали, как расколотый на реке лед, кружились мутно, ни на что не давали ответа. Он был весь как бы разбит, ему хотелось уехать, но он боялся уезжать, он ничего не понимал.
Вечером в монастырских гостевых покоях, где Курбский жил, он расспросил прислуживающего послушника об отце Александре. Оказалось, отец Александр – в миру Василий – был беглый человек московского князя Курлятева–Оболенского, служил в Запорожской Сечи, сидел в полоне у крымчаков, бежал и оттуда и ушел в Литву с гетманом Вишневецким, а постригся в Киево–Печерском монастыре и там же посвящен в иеромонахи.
«Так и он беглец, – думал Курбский. – И еще неизвестно, сколько он душ загубил до того, как бросил казачество и постригся. Нет, я бы не мог никогда себя в келье замуровать!»
В монастыре Курбскому стало тоже неустроенно как‑то: скреблась подспудно обида на отца Александра, – но и в Миляновичи не хотелось, и поэтому, сделав крюк по дороге домой, он заехал в Ковель. В городе было полупусто: еще не вернулись с войны жители – воины шляхетского ополчения, по рыночной площади бродила запаршивевшая собака, светились серые лужи, моросил дождь, небо нависало низко; монах–бенедиктинец глянул из‑под капюшона, прошлепал мимо. Кирилл Зубцовский оказался дома, он был рад, но чем‑то озабочен. После ужина Кирилл стал одеваться, собираться куда‑то, несмотря на ночь.
– На розыск надо, – сказал он с досадой. – Беглого поймали, из Торжка сам, в Полоцке сдался с другими, дали им в Гродненском воеводстве земли по наделу, а лошадей не дали всем, вот он, говорит, и сбежал от этого…
– А тебе самому‑то зачем туда?
– Да вот вчера он признался под кнутом, что поджег господина своего за жену, что ли, а сегодня с утра от всего отрекся. – Кирилл помолчал, шмыгнул с досады носом, – Пытать придется – не отпускать же его за так. А он заладил одно: «Отпустите сынишку повидать!»
– Какого сынишку?
– Да в Торжке семья у него. Вишь! У всех там сынишки!..
– В Гродно с запросом погодите посылать, – сказал вдруг Курбский. – Приведи его завтра ко мне.
На другой день после обедни двое стражников привели беглого Степку Кулижского [218]. На Степке был драный кафтан и худые сапоги, а руки стянуты в запястьях веревкой. Курбский отослал стражников из комнаты и сказал по–русски, глядя в мучнисто–бледное лицо со стиснутым наглухо ртом:
– Степан! Я – князь Андрей Курбский. Я тоже с Руси сюда ушел.
Сжатый рот от изумления полуоткрылся, но глаза одичали сильнее: Степка Кулижский слыхал, что от своих перебежчиков пощады не жди, и Курбский его мысль понял.
– Если б я смерти твоей хотел, то не стал бы тебя в дом приводить, – сказал он строго. – Опомнись, Бога благодари и отвечай мне как на духу. Дети у тебя есть?
– Есть… – ответил Степка, вглядываясь, не доверяя.
– Где они?
– В Торжке.
– Мальчик?
– Мальчик и девчонка…
– Куда ж ты хотел бежать? В Торжке б тебя схватили.
– На Дон…
– На Дон… – повторил Курбский. – Не дойти тебе до Дона. А если я тебя от смерти спасу, будешь служить мне верно?
Не слова, а голос князя – тоскливый, просящий чего‑то при всей своей власти – точно толкнул беглого в грудь, и внезапно его дыхание участилось, щеки пошли пятнами, зрачки забегали растерянно.
– Будешь? – спросил Курбский еще тише, и лицо Степки словно раскололось на части, затряслось, задергалось, и, рухнув на колени, он заколотился о половицы от больных рыданий.
Курбский не поднимал его, долго молча ждал. Когда спазмы стали реже, сказал властно:
– Встань!
Степка встал, веки и губы его набрякли, лицо было красно, мокро, глаза ничего не видели.
– Будешь мне на том целовать крест? – спросил Курбский.
– Буду…
Курбский крикнул стражников и Кирилла Зубцовского.
– Скажи им, – приказал он Кириллу, – что холоп этот побудет пока здесь под твоей охраной – он мне нужен.
Кирилл проводил стражников до дверей и вернулся.
– Отцеди его, руки развяжите, накормите. Не запирай – никуда не уйдет. Мне будет служить в имении.
Кирилл молча увел Степку, но скоро вернулся.
– Не боишься, князь, что сворует или еще хуже? – спросил он. – Кто знает, из каких он бегов, а озлоблен сильно. Мне‑то он не нужен, сколько таких‑то перевешали…
– Хочу расспросить его о Руси, – сказал Курбский, глядя в оконце на мокрую землю, усыпанную листвой. – Завтра после утрени поеду, а сейчас надо мне письма писать.
Он посмотрел на Кирилла – рослого, раздобревшего, в дорогом кунтуше и желтых сапогах. Лоб у Кирилла чистый, высокий, глаз смелый, усы подстрижены, надушены. «Хорошего кастеляна дал я Ковелю», – подумал Курбский и отвернулся к окну. А Кирилл Зубцовский смотрел на князя и думал: «Пожалел беглого… Почему? Себя, что ли, вспомнил? Все мы беглые, да живем слава Богу, другим так на Руси не жить, нечего это и вспоминать. Сдал князь Андрей Михайлович, не узнать – раньше бы за бегство да за поджог никого не помиловал бы. Видно, правда сглазила его эта змея, жаль, я тогда не послал ее задавить где‑нибудь в овраге, когда она из Миляновичей съехала. А что, если ее сынка–разбойника, этого Яна Монтолта, словить да и обменять на те грамоты, что она у князя украла?» И Кирилл стал прикидывать, кого и куца можно было бы послать на такое лихое дело, но тут Курбский сказал:
– Присмотри, чтобы не выспрашивали этого Степку, не обижали. Да и сам чтобы он никому ничего не говорил попусту.
– Присмотрю. Иди, князь, отдыхай, я тут за всем присмотрю.
«Я этого Степку из‑под земли достану, ежели князя обманет!» – думал Кирилл, направляясь в людскую, где Степка Кулижский жадно хлебал щи со свининой, а дворовые люди и стряпуха рассматривали его с любопытством.
– Когда поест, приведите его ко мне, – приказал он и вышел.
У себя на половине он строго осмотрел накормленного и умытого Степку и сказал:
– Поедешь с князем в Миляновичи, в имение его, и, что его милость прикажет, все будешь исполнять. Ты знаешь, что кабы не он, то уже к этому часу тебя бы повесили?
– Знаю…
– Так и служи ему верой – таких, как он, обманывать великий грех. А нарушишь свою клятву, я тебя, видит Бог, везде достану и кожу велю содрать! – И Кирилл поднес здоровенный кулак к самому носу Степки.
– Не нарушу! – сказал тот хрипло, истово глянул в глаза.
Второго декабря в ночь выпал первый снег, тонко, чисто припорошило грязь, палый лист, увядшую траву. Раньше Курбский поехал бы в отъезжее поле с собаками травить зайцев, а теперь надел полушубок, теплые сапоги и пошел прогуляться к опушке. Он шел один, не спеша, с удовольствием втягивая носом морозный осенний дух, прислушиваясь к похрустыванию под ногами. Вспорхнул с елки серый рябчик, в облетевшей роще далеко был виден его трескучий полет. Там, где когда‑то стрелял в князя из чащи пан Мыльский – муж жениной сестры, – Курбский постоял, глядя на серое жнивье, пестрое от первоснежья, на серо–белые тучи, неподвижные, многоярусные. «Быть к ночи снегопаду, – подумал он, – надо велеть Степке натопить с вечера в спальне…»
Степка Кулижский прижился в имении, ходил за больным князем, охранял дом, помогал по двору или в конюшне. По вечерам, когда он топил в библиотеке, Курбский расспрашивал его про Торжок, про жену и детей, про обозы с хлебом, которые Степка провожал до Новгорода, про село Красное на реке Осуге, где Степка родился, – князю все было интересно, он с удовольствием слушал про разную мужицкую мелочь, о которой раньше ни с холопом, ни с кем вообще не стал бы и заговаривать. Но, расспрашивая, особенно когда Степка поминал деток, сынка Гришу, Курбский, сам не замечая, как бы подбирался к чему‑то важному, болезненному в себе самом. Подбирался, но так и не смог спросить, потому что и сам не понимал, что ему от Степки нужно. А Степка, когда вопросы князя приближались к чему‑то неясному, но страшновато–больному, замыкался.
Курбский стоял, щурясь на выпуклый закрай поля, на далекого всадника, который рысил куда‑то, ведя в поводу заводного коня под седлом, на снежные тучи, когда сзади его позвали. Он обернулся. Хлопчик из челяди бежал от дома, махая шапкой. Подбежал, зачастил, задыхаясь:
– Пан, пан! Пан Мошинский велел звать тебя скорее, приехал пан, и еще один, черный, и гайдуки, и рыжий – кричит, а другой пан нет, а я бежал бегом, кричал, а пан не слышит!..
– Беги обратно, скажи управителю, что скоро приду. Сюда больше не прибегайте, не мешайте мне!
Хлопчик убежал, а Курбский постоял еще, вдыхая первозданную чистоту тихой опушки, поля, неба в тучах. Куда‑то все спешили людишки по своим злым делишкам, а здесь дремала дымчатая тишина, и рябчик, которого он спугнул, сидит где‑нибудь на елке, возле самого ствола, и чутко прислушивается, ушел человек или нет, чтобы перепорхнуть на другую елку и тонко, чисто просвистать в три колена призыв к подруге: «Пи–и пи–и пить!» – подождать ее ответа и опять: «Пи–и пи–и пить!» Редкие снежинки опускались на рукав, на плечо из серой тишины, одна–две сели на лицо, на губу, и захотелось, как в детстве, поймать их на язык, ощутить талый привкус во рту. Как в детстве… Он сморщился и пошел к дому все скорее, отгоняя что‑то всплывшее, чуждое молчанию этой серо–лиловатой вечереющей опушки.
Во дворе у коновязи стояли чужие кони, рослые усатые гайдуки сидели у крыльца, некоторые неуверенно встали, когда он проходил мимо на свою половину. В библиотеке–спальне к нему тотчас вошел Иван Мошинский.
– Приехал возный Владимирского повета с каким‑то шляхтичем по розыску, а кого – мне не говорят, но боюсь – не Степки ли?
– А где он?
– А его точно ветром сдуло, как они появились.
– Ну и ладно… – Курбский вспомнил всадника с заводным конем, – Зови их сюда. Лишь бы наш судья Мышловецкий не наговорил им чего в Ковеле. Но я Кирилла предупредил, чтобы не болтали… Зови!
Судебный исполнитель Владимирского повета был рыжеватый сухопарый поляк лет сорока с горбатым носом и пепельными глазками, неприятными, прилипающими к лицу того, на кого он смотрел. Его звали Генрих Быковский [219]. «Уж не посла ли Быковского родня, которого Иван Васильевич велел задержать прошлый раз и целый год мытарил в Москве?» – подумал Курбский. Второй был полный холеный шляхтич, черноусый, черноглазый, в дорогом лиловом камзоле. Его тщательно расчесанные волосы лежали на вороте, на белых пальцах играли перстни.
– Пан Казимир Хмелевский, – представился он, согнувшись в изящном поклоне.
Курбский предложил им сесть, велел принести вина и, когда слуги вышли, спросил:
– Что привело вас, панове, ко мне в имение?
Судебный исполнитель Генрих Быковский приклеил ко лбу Курбского свои серые глазки, спросил равнодушно, чуть гнусаво:
– Что ты можешь сказать, князь, о настоятеле Вербского Троицкого монастыря Иоасафе?
– А что интересует пана?
– Нам известно, что ты часто навещал Иоасафа, ссужал его деньгами, завещал ему земли и деревни.
– Кроме последнего, всё так. И что дальше?
– Нам известно, что настоятель Иоасаф в беседах с тобой порицал нашего законного короля Сигизмунда–Августа, а теперь и Стефана Батория за якобы гонение на греческую церковь. Нам известно, что ты тоже это делал при встречах с Иоасафом, который укрывает беглых русских под видом монахов, как говорят сведущие люди.
– Или лучше сказать – поганые доносчики. – Курбский усмехнулся. – Я не вижу причины вести с тобой беседу, милостивый пан, если ты не представишь мне полномочия от самого короля: ему одному я даю отчет в своих словах и поступках!
– Тебя тоже подозревают в укрывательстве беглых. – Голос Быковского стал выше и гнусавее. – А именно Степана Кулижского, бежавшего из имения пана Домбровского в Гродно. Ты знаешь, что говорит закон об укрывательстве преступников?
Черноусый роскошный пан Хмелевский слушал все это, приподняв бровь, будто легкий светский разговор.
– У тебя есть решение королевского суда о розыске в моем имении? – тихо спросил Курбский у Генриха Быковского, владимирского возного. – Ты знаешь, что я сделаю с тобой, если у тебя нет грамоты короля? – Он чувствовал в себе полузабытое радостное ощущение, прилив гневной крови, от которого становился всегда сильнее, бесстрашнее и свободнее. Это было как возвращение молодости. – Ты знаешь, кто я, пан возный? Отвечай!
Рыжеватое узкое лицо возного побурело, серые глазки злобно округлились.
– У меня нет такой грамоты, – сказал он, – но по закону я могу приказать обыскать твой дом, а в случае сопротивления взять тебя под стражу!
Курбский усмехнулся ему в лицо.
– Дурак! – четко и громко выговорил он. – Дурак ты, пан Быковский. Неужели ты не слышал, что было не с владимирским, а с королевским посланцем, который осмелился предъявлять мне какие‑то листы в моем доме? Его проводили отсюда дрекольем, потому что он угрожал мне и вел себя так же неучтиво, как и ты. Если твои гайдуки сделают хоть шаг, их перестреляют прямо во дворе. Ну прикажи им взять меня под стражу! Что ж ты молчишь? Трижды дурак!
Наступило долгое молчание. Курбский весело и презрительно улыбался, его забавляло побуревшее горбоносое лицо Быковского, который то открывал, то закрывал рот, но не произносил ни звука. Второй гость – Казимир Хмелевский – пошевелился и откашлялся.
– Ясновельможный пан! – сказал он мягким баритоном. – Забудем, что сказал тебе пан Быковский и что вызвало твой гнев. Я приехал сюда, в Ковельский старостат, по поручению примаса Речи Посполитой – епископа Краковского и Варшавского, а также имею полномочия самого милостивого государя нашего короля Стефана Батория.
– Какое же дело у тебя ко мне? – спросил Курбский враждебно.
– Только одно: предупредить тебя, что вопросы пана Быковского о настоятеле Иоасафе касаются не церковного розыска, а государственного и потому являются государственной тайной, которую ты, вассал короля Стефана, обязан хранить, о чем прошу тебя, пан Курбский!
Этот шляхтич – тайный агент иезуитов и короля – вызывал в Курбском отвращение, в его зловещей любезности таилась смертоносная опасность, но, чтобы понять, в чем она заключается, Курбский заставил себя сдержаться. Чернью глаза пана Хмелевского задумчиво читали его мысли:
– Я ничего не хочу узнать от тебя, князь, о настоятеле Иоасафе, потому что не могу насиловать твою совесть – ведь это твой единоверец и, может быть, друг. Но так как пан Быковский открыл тебе часть нашего дела в этих местах, я еще раз прошу тебя клятвенно подтвердить, что ты никому, – он поднял палец, – никому не разгласишь эту тайну. А вот мои полномочия. – Он вытащил из кармана и развернул открытый лист ко всем воеводам, наместникам, войтам, возным, ратманам, бургомистрам и другим должностным лицам государства с просьбой оказывать содействие пану Казимиру Хмелевскому, выполняющему особое задание короля и сената на благо Речи Посполитой. Лист был подписан коронным гетманом и канцлером Яном Замойским. – Итак, милостивый князь, ты в присутствии свидетеля, пана возного Генриха Быковского, даешь слово не разглашать цель нашего приезда никому и нигде?
Черные глаза Хмелевского смотрели все так же любезно, но изнутри словно открылась в них на миг могильная пустота. Курбский медлил, кусая губы.
– Да, даю! – сказал он, хмурясь и думая со злой радостью: «Ночью же пошлю гонца к Иоасафу!»
Но Хмелевский опять прочитал его мысли:
– А сейчас, пан, нам надо немедля ехать в монастырь, как ни приятно твое общество. Я еду один, если пан возный не кончил здесь свои дела.
Он встал, и возный тоже. Рыжеватое лицо его заострилось, пепельные глазки ненавистно впились в Курбского.
– Так ты не дашь допросить своих слуг, князь? Беру в свидетели пана Хмелевского в твоем самоуправстве! Не дашь?
– Не дам!
– Я вернусь еще сюда с целым региментом, если понадобится! – гнусаво воскликнул возный и стремительно вышел.
Роскошный агент примаса задержался у двери, улыбаясь, сказал негромко:
– Тебе, князь, шлет свой привет служитель Христа Никола Феллини. Помнишь ли его? Он оказал сегодня тебе большую услугу, хотя ты и враждебен нашей римско–католической церкви. Я уезжаю, хотя мне точно известно, что беглый холоп Степан Кулижский находится в твоем имении. Но просьба Николы Феллини для меня важнее, чем это!
И он вышел тоже, а Курбский стоял и слушал, как во дворе прозвучала команда, заскрипели ворота, зацокали подковы. В комнате темнело, смеркалось рано, он смотрел на серый квадрат окна и, потирая ноющие виски, вспоминал и иезуита Николу Феллини, и лютеранина–еретика Радзивилла Черного, и беглого казака – иеромонаха Александра, и литовского магната Григория Ходкевича, и других, чьи пути пересеклись с его путем. А все пут эта – паутинки над бездной, не имеющей ни дна, ни названия… Кто может понять все это? В комнате стемнело. Где сейчас Степка Кулижский? Не он ли проскакал одвуконь полями? Нет, ничего не понять – пути Господни неисповедимы. Он вспомнил растерянное, побуревшее лицо пана Быковского и улыбнулся: давно не было ему так весело, как сегодня.
«Трудно будет Степке добраться отсюда до Дона, но от польского суда он хоть на день, да ушел! Беглый. Не мне его судить: он, как дикий гусь, рвется домой, к родному, не удержать никому… Смерти не боится. Дай ему Бог добраться, Дон увидеть. А может, и сыночка… Хотя, говорят, Иван побывавших в полоне на смертные работы ссылает, но вдруг да проскользнет… Только мне некуда бежать. Не к кому…»
Отчуждение опять охватило его холодно, бесчувственно, и он оглянулся с удивлением: стало ненужным на миг все, во что он, казалось, врос нутром – ведь он не только говорил, но часто даже думал по–польски. Может быть, он и спас Степку только для того, чтобы иногда послушать его торжокский говорок. А может, чтобы хоть мысленно проследить его путь на Русь через лесные рубежи и реки?
«Да, но все это – пустые мечтания, потому что Степка уже далеко, навсегда исчез он из моей жизни, а я так и останусь на этойземле, а потом в этойземле. Сорок дней и ночей будет душа моя бродить среди людей чужеземных или ополячившихся до корня, равнодушных к милому детству русскому, к родному селу и погосту, где рдеют рябины, где лежат любимые родичи. Может ли душа посетить их там? Нет, она сорок ночей не сможет покинуть мое тело. Почему? Зачем? И что потом, после сорока дней? Католики говорят – Чистилище. Зачем Чистилище? Разве ответит кто на это? Счастливы простодушные вроде Мишки Шибанова. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю…» Такие, как иеромонах Александр».