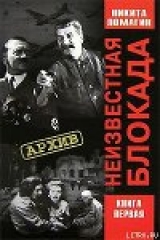
Текст книги "Неизвестная блокада"
Автор книги: Никита Ломагин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 76 страниц)
По мнению С. Коткина, слабостью работ М. Левина49 было то, что, развивая «социальные основы» формирования политического режима при Сталине и показывая, как происходило «окрестьянивание» городов, он недооценивал степень проникновения государства во все сферы жизни общества. Главный вывод, к которому пришел Левин, определяется следующим образом: «Чем быстрее и радикальнее осуществляются перемены, тем дальше назад отбрасывается общество»50. Общим в подходах сторонников Фитцпатрик и Левина было внимание к социальной истории в рамках тоталитарной парадигмы. Они сходились во мнении, что государство испытывало на себе влияние социальных сил, тем самым значительно расширяя поле для дальнейших исследований истории советского общества.В дальнейшем Г. Суни показал, что Сталину удалось в довоенное время создать советский средний класс с собственными представлениями и ценностями. Стахановцы, начальники цехов, директора заводов, а также их жены составляли социальную опору режима.В связи с этим Суни сделал вывод о том, что Сталин сам создал сталинизм, его личное участие в формировании этого феномена было исключительным. Таким образом, Суни отстаивает «интенциональный» подход к объяснению сталинизма в противовес структуралистскому (или «функциональному»). В этом контексте ведутся дебаты и по поводу роли Гитлера в нацистской Германии51. Однако, отправной точкой является наличие общего по существу в двух или более обществах, которые анализируются как часть некоего целого.
Помимо вопросов собственно методологического характера относительно сущности сталинизма, выделим также те, которые важны для понимания проводимого нами исследования. Одна из таких тем относится к выяснению сущности власти накануне войны и той роли, которую играли в ней органы НКВД. Фэйнсод в своей работе отмечал, что различные формы контроля, а не легитимное политическое представительство были сутью сталинизма. Однако монополия режима на власть сопровождалась его неэффективностью52. Коткин подверг критике характеристику режима, данную Фэйнсодом, по следующим причинам: во-первых, у Фэйнсода отсутствует объяснение дублирования партийных и государственных структур управления. Во-вторых, анализ «большого террора» 1937—1938 гг. подменен описанием событий того времени, наконец, он не ответил на вопрос о сущности политической системы при Сталине.
Определенные противоречия имеются в работах другого известного советолога Т. Ригби. Его характеристика СССР как «моноорганизованного общества» завершается выводом о том, что «почти вся социальная деятельность осуществлялась кланом чиновников, находившимся под единым руководством», что советское общество на практике было «единой, огромной и внутренне сложной организацией», объединенной властью коммунистической партии53. Однако сам Ригби позднее отмечал, что параллельно существовали два центра власти – партия и правительство, хотя первая сохраняла свое доминирование. Почему же диктатура партии не дошла до своего логического завершения – уничтожения правительства – остается неясным. Именно проблема объяснения феномена дублирования государственных и партийных структур в наибольшей степени требует, по мнению Коткина, специального изучения54.
Еще одной проблемой остается объяснение террора. В историографии по-прежнему доминирует точка зрения Р. Конквеста55, согласно которой, террор, хотя и коренился в природе партии, созданной Лениным, являл собой последовательное и методичное уничтожение диктатором элиты страны. Таким образом, Конквест свел террор к проблеме объяснения мотивов Сталина (жажда власти, паранойя и т. п.). Другие же проблемы (язык обвинения и защиты, проблемы управления режима, включая изменение настроений населения, влияние террора на развитие институтов, международный контекст процессов и др.) остались без внимания, и сам террор, таким образом, показан как результат, а не процесс.
А. Гетти, также опираясь на Смоленский архив, обращает внимание на хаос, неэффективность сталинизма, но идет дальше Фэйнсода, утверждая, что террор был ничем иным, как проявлением серии «конфликтов» на основе «естественной» борьбы центра и периферии56. Гетти отчасти преодолел статизм версии Конквеста, но, по мнению Коткина, его интерпретация страдает отсутствием логики и достаточных и убедительных источников, поскольку к своим выводам он пришел на основе анализа документов партийных архивов, в то время как архивы НКВД остаются для него (да и для других зарубежных исследователей) недоступными.
Г. Риттерспорн объясняет террор тем, что партия оказалась не в состоянии обеспечить руководство всеми сферами жизни и в попытке выйти из кризиса прибегла к террору – т. е. гражданской войне внутри аппарата. Он подчеркивает, что террор во многом носил хаотичный характер, что у него не было единого и четкого плана57 .
С. Коткин предлагает на время («пока не будут доступны архивы НКВД») отложить спор о причинах террора и обратить внимание на то, как международная обстановка влияла на современников, как развивались институциональные взаимоотношения партии и НКВД, обращая особое внимание на их политический язык (терминологию). Во введении к своей книге Коткин определил другие задачи своего исследования следующим образом: «Показать, как народ жил и как воспринимал свою жизнь». Поэтому, по его мнению, «необходимо дать возможность народу, наконец, говорить»58.
Проблема протеста у С. Коткина исследуется по-новому, а именно и как пассивное поведение. Коткин использует методологии М. Фуко, который считал сопротивление важнейшим элементом формирования субъективности, но никогда не занимался соответствующими эмпирическими исследованиями. Коткин же во главу угла поставил именно эмпирическое исследование сопротивления населения сталинскому режиму, распространяя его, в том числе, и на повседневную жизнь советских людей.
Фуко показал, что изучение власти на микроуровне вовсе не означает игнорирование государства. В то же время он демонстрировал, что власть не находится в центральном аппарате. Это верно даже тогда, когда кажется, что не существует разделения «государства» и «общества», как это было в СССР, где все было частью государства59. В СССР при Сталине в не меньшей степени, чем в новое время во Франции, государство осознавало, что власть основывается на поведении народа60 . Действительно, сталинизм не был просто политической системой. Это была система ценностей, определенная социальная идентичность, способ жизни. Объясняя природу власти Сталина, упоминавшийся уже нами Г. Суни отказался от объяснения ее лишь через проведение террора и пропаганды, доказывая, что сам по себе террор опирался на широкую поддержку народа. Суни обратил внимание на стремление Сталина к централизации власти, монополизации принятия решений. Это привело, однако, к необходимости передачи власти на местах «маленьким сталиным», зависимым от него не только в связи с их карьерными устремлениями, но и даже в смысле физического существования.
Нет необходимости полностью приводить аргументы сторон в дискуссии о сталинизме, кроме вопросов, относящихся к проблеме изучения собственно настроений. Подытоживая сказанное, отметим, что сторонники «тоталитарной» модели практически не уделяют внимания обществу как таковому, которое они рассматривают как нечто единое, находившееся под полным контролем Советского государства. Они подчеркивают использование им пропаганды и принуждения, подразумевая, что «массы» были настроены конформистски под влиянием «промывки мозгов» или ненавидели режим молча, боясь репрессий. Напротив, «ревизионисты» представляют общество в качестве активной и автономной силы, отнюдь не подчиненной абсолютно государству. В споре со сторонниками «тоталитарной» модели некоторые «ревизионисты» пытаются показать наличие социальной базы для поддержки Сталина среди различных социальных групп – выдвиженцев, членов комсомола, стахановцев и др. Эту точку зрения поддерживает Р. Суни, который считает, что Сталину удалось создать себе опору в лице «среднего класса» и тем самым обеспечить стабильность режима61. Эту же точку зрения разделяют и несколько авторитетных российских историков, полагающих, что именно в довоенное время возникли десятки тысяч вакансий, которые заполнились новыми людьми. «Долго не засиживаясь на одном месте, они быстро прыгали с одной ступеньки номенклатурной лестницы на другую... Не все сумели пробежать эту дистанцию, многие оступались и падали. Ну а те, кому удалось остаться невредимым, затем всю жизнь вспоминали о том лихолетии как о самом светлом периоде своей жизни и славили того, кто расчищал им дорогу на Олимп. Именно с этой новой элитой вождь, партия, государство вошли в новое десятилетие, прошли войну 1941 – 1945 годов»62. Как вели себя эта элита и новый «средний класс» в условиях блокады?
Наше мнение относительно споров по поводу концепции тоталитаризма заключается не в выборе одной из позиций, а в попытке использования рациональных составляющих как теории тоталитаризма, так и концепции Бурдье и его последователей. Мы используем теорию тоталитаризма как веберовский идеальный тип, но одновременно исходим из того, что в период войны общество как социальный организм претерпевало существенные изменения, что социальная и политическая активность населения СССР (в том числе и направленная против существующего режима) имела место. Теория тоталитаризма, лишенная своего идеологического подтекста, по-прежнему объективно способствует лучшему пониманию сути того политического режима, который сложился в СССР63.
Habitus ленинградцев накануне войны
На настроения населения в период ленинградской эпопеи влияло множество факторов – военный, социально-экономический, политический (пропаганда сторон), психологический. С чем пришли ленинградцы к тяжелейшему испытанию, коим явилась для них блокада? Каков был их habitus («воплощенная история, ставшая второй натурой и, таким образом, забытая как история»(Бурдье)? Дюркгейм отмечал, что «в каждом из нас в различной степени есть тот, кем мы были вчера и, на самом деле, ... верно даже то, что наша прошлая личность преобладает, т. к. настоящее всегда менее значимо по сравнению с длительным периодом прошлого, благодаря которому мы такие, какие мы теперь». С другой стороны, исторический феномен никогда не может быть объяснен вне его времени. «Люди больше походят на свое время, чем на своих отцов»64.
Говоря о психологических особенностях людей, живущих в авторитарном обществе, во-первых, необходимо учитывать предрасположенность (традиция монархизма) и желание «убежать от свободы» к тому, чтобы подчиниться «революции сверху». Февраль и Октябрь проходили под знаком поиска реальной свободы (не только свободы «от», но и свободы «для»), свободы в позитивном смысле слова – крестьяне хотели стать собственниками земли, рабочие хотели принимать участие в управлении через советы и т. п. Однако, эта свобода «для» не была закреплена ни институционально, ни продолжительностью своего существования во времени, хотя НЭП был наиболее радостным (за исключением рабочих) периодом в послеоктябрьской истории.1929 г. знаменовал собой начало революции «сверху», начало культурной революции в плане закрепления «авторитарного типа». Первая мировая война и гражданская война во многом подготовили этот переход, приучив народ к насилию. Можно сказать, что к началу второй мировой войны этот «тип» окончательно сформировался. Анализируя проблемы развития общественного сознания в годы войны, нужно учитывать, что habitus – «авторитарный тип» у значительной части населения уже существовал65.
Принцип историзма предопределяет необходимость выделить основные характеристики политических настроений советских людей в довоенный период. По этому вопросу в историографии также нет единства. Последние исследования западных специалистов привели к взаимоисключающим результатам. Так, Р. Серстон утверждает, что к началу войны подавляющее большинство советских людей поддерживало режим, имело возможности влиять на своих руководителей на заводах, хотя рабочие как класс были весьма слабы. С. Дэвис, напротив, считает, что ужесточение рабочего законодательства в 1938—1940 гг. привело к серьезным политическим конфликтам.
«Террор и страх – ядро любого исследования, которое основано на использовании концепции тоталитаризма, – пишет Р. Серстон. – Возможно, что страх государства присутствовал в настроениях значительного числа немцев и русских, но не был определяющим. Было множество ограничений свободы слова, многие возможности были закрыты для народа, степень принуждения и контроля со стороны правительства и правящей партии была значительной. Но были и те, кто не боялся государства, было огромное количество тех, кто поддерживал режим в Германии и СССР. В современных исследованиях Третьего рейха принуждению отводится малая роль. Добровольная поддержка была намного важнее...» (курсив наш – Н.Л.)
По мнению Серстона, «до сих пор мы попросту мало знаем о таких сферах советской жизни периода «зрелого сталинизма», как возможности рабочих критиковать местные условия (жизни), отношение народа к режиму и террору, настроения солдат в начальный период войны с Германией...»66. При этом Серстон не задается вопросом о том, каковы были представления советских людей о предстоящей войне, а то, что она не за горами, было ясно всем. Итогом исследования Серстона является утверждение, что без лояльности народа к власти «трудно объяснить готовность народа добровольно вступать в армию в 1941 г., уровень советской военной экономики, достигнутый в экстремальных условиях, саму победу в целом»67.
Той же проблеме посвящена книга С. Дэвис. Ее цель – «освободить» содержащиеся доселе в закрытых архивах секретные документы о настроениях советских людей в 1934—1941 гг68. С. Дэвис не согласна с теми, кто пришел к выводу о лояльности большинства рабочих режиму69 и отмечает, что « недавние исследования, посвященные рабочим и крестьянам, показывают, что они на самом деле ощущали на себе давление государства и боролись с ним, используя различные способы пассивного сопротивления»70. «Очевидно, – пишет С. Дэвис, – ... между активной поддержкой режима и активным сопротивлением ему была значительная группа гетерогенных настроений. Чистых сторонников и противников режима было мало. На самом деле настроения людей были неопределенными и подчас противоречивыми: осуждение одних действий властей или какой-либо черты режима вполне сосуществовала с поддержкой других его проявлений, что в целом весьма характерно для других авторитарных обществ71.
С. Коткин в одной из наиболее популярных ныне на Западе книг о советской истории отказался от дихотомии «тоталитаризм – ревизионизм», «поддержка режима – оппозиция режиму», и уделил особое внимание «тактическому использованию языка обычных людей». Как уже отмечалось, по мнению Коткина, «для подавляющего большинства тех, кто пережил сталинизм и для большинства его противников, он ... , тем не менее, оставался прогресивной перпективой»72, более того, в то время «мало кто мог представить альтернативу» режиму73. Эту точку зрения разделяет П. Кенец. В частности, он утверждает, что «режим преуспел в предотвращении формирования и проявления альтернативных точек зрения. Советский народ, в конце концов, не столько разделял большевистское мировоззрение, сколько принял его на веру. Не осталось никого, кто бы указывал на противоречия и даже бессмысленность лозунгов режима»74.
Дэвис ставит под сомнение верность высказанных Коткиным и Кенецем тезисов, ссылаясь на «новые источники». Информация о слухах, личные письма, листовки, надписи – все это дает основания говорить о наличии «значительного количества» оппозиционных настроений, включая национализм, антисемитизм и популизм75. Главная задача Дэвис – показать «альтернативные» настроения в советском обществе76 в 1934—1941 гг. Дэвис, по-видимому, права, отмечая, что достаточно трудно говорить о гипотетической «политической культуре русского народа». Зачастую ценности, выраженные советскими людьми, противоречили друг другу, не подходили к традиционным социалистическим, анархистским, консервативным, либеральным и др. системам. Однако часто отмечались враждебность и антипатия к государству и официозу в целом. Вместе с тем, были широко распространены мнения, что государство должно заботиться о народе. Патерналистский стиль поведения руководства страны ценился очень высоко.
Другими характерными чертами были материализм и эгалитаризм, «социализм с его классовым подходом, а также социальный консерватизм. Отношение к политике и праву было различным: многие были безразличны к ним, хотя некоторые относились к ним серьезно. В целом же, настроения населения были гетерогенными, зависели от сущности проводимой в данный момент политики, а также конкретных проблем»77. Это относилось как ко внутренней, так и внешней политике советского государства. Если большинство населения по разным причинам поддерживало сталинский внешнеполитический курс (одни полностью находились в плену официальной пропаганды относительно «освободительной» и «благородной» миссии Красной Армии по оказанию братской помощи украинцам и белорусам в Польше и верили в необходимость смены внешнеполитической команды Литвинова78, другие принимали на веру заявления советской пропаганды о вероломстве «белофиннов» и необходимости оказания помощи в создании народного правительства в Финляндии, третьи были уверены в праве сильных мира сего распоряжаться судьбами «картофельных республик» и т. д.), то все же были и те, кто с этим курсом не соглашались, высказывая сомнения в прочности альянса с Германией, а также обоснованности разрыва с демократическими государствами79.
Опыт финской кампании был весом для ленинградцев, обретших самый разнообразный опыт жизни в прифронтовом городе – необходимый антураж в условиях войны (затемнение, очереди, изъятие вкладов из сберкасс)80; невероятное распространение всевозможных слухов; большие ожидания легкой победы в начале кампании, сменившиеся разочарованием в силе собственной армии; свидетельства очевидцев о многочисленных потерях среди красноармейцев не были тайной для горожан. Наличие близких и знакомых в армии, транзитный характер города, главным образом Финляндского вокзала, работа добровольцев в госпиталях, информация с фабрики по изготовлению ортопедической обуви и, конечно, общение с военными существенным образом выделяли население Ленинграда – ленинградцы в большей степени, чем другие жители СССР, знали, что такое война и каково состояние армии81.
Анализ содержания тысяч писем, которые направлялись в Смольный накануне войны, подтверждает, что «квартирный вопрос» и материальные условия в целом были основными темами, волновавшими горожан82. Ленинградцы жили тяжело, их письма свидетельствуют о «гапоновских» настроениях – добрый и мудрый «местный царь» восстановит справедливость, накормит и напоит. Собственно внутрипартийные вопросы в корреспонденции занимают в количественном отношении второстепенное место. Примечательно, что в декабре 1939 г. на имя А. Жданова пошли письма с фронта – о положении в частях (6 писем), о положении в госпиталях (1 письмо), патриотического содержания (20). С октября 1939 г. стали поступать письма о поездках на Западную Украину и Западную Белоруссию (октябрь – 16, ноябрь – 4, декабрь – 5). Большинство писем обрабатывалось в течение месяца. Затем они переправлялись по инстанциям. В довоенные месяцы 1941 г. общение с властью посредством писем сохранялось на стабильно высоком уровне. Тематика писем в целом сохранилась та же, что и в 1939 г. с доминирующим местом вопросов обеспечения жильем, материальной помощи. На третьем месте, тем не менее, находились просьбы о пересмотре решений судов. Очевидно, население понимало, что суды не являются независимым институтом, а в своей деятельности руководствуются решениями партийных органов. Среди писем ленинградцев было много ходатайств об отмене высылки за принадлежность к оппозиции.
Дэвис отмечает, что дисциплина на предприятиях упала в 1937 г. На отдельных предприятиях до 400 рабочих не выходили на работу, особенно летом. В ответ на это правительство издало закон 28 декабря 1938 г. , предусматривавший строгое наказание за прогулы и другие нарушения дисциплины. Были введены рабочие книжки для контроля за дисциплиной. По данным УНКВД, объявление о принятии этого закона вызвало «значительное число негативных настроений», особенно в той его части, где речь шла об увольнениях прогульщиков и опоздавших на работу. Закон, по мнению рабочих, нарушал их права, завоевания революции, а также свободы, закрепленные в Конституции»83. Закон 26 июня 1940 г. в еще большей степени вызвал недовольство рабочих. Прогул и опоздание на работу на 20 минут и более влекли за собой уголовную ответственнность. Кроме того, вводился 8-часовой рабочий день.
В сентябре 1940 г. партийные информаторы сообщали о нездоровых настроениях в связи с этим указом. В частности, рабочие заявляли, что «в Германии безработные живут лучше», «Прибалтийские республики скоро поймут, что такое советская власть», «в случае войны в СССР будет большая измена, так как существующими новыми законами недовольны все, но пока ждут удобного случая» (курсив мой – Н.Л.), «в старое время против таких законов народ бы бастовал», «не того ждали от революции»84. Доклад НКВД от 21 октября 1940 г. сообщает о том, что «большинство рабочих с энтузиазмом отнеслось к новому закону. Антисоветские проявления имели место только среди квалифицированных рабочих». Тем не менее с 26 июня 1940 г. по 1 марта 1941 г. в Ленинграде 142738 человек было осуждено к исправительным работам сроком до 6 месяцев. Среди них: 3 961 коммунист и 7 812 комсомольцев. Суды и тюрьмы были переполнены. В предвоенные месяцы 1941 г. обком и горком ВКП(б) несколько раз обращались к вопросам деятельности УНКВД, прокуратуры и органов юстиции. В частности, 30 мая 1941 г. было принято постановление «О мероприятиях по разгрузке тюрем г.Ленинграда и Ленинградской области», а 13 июня 1941 г. – «Об извращениях в системе лагерей и колоний УИТЛК НКВД ЛО и ГУЛАГ НКВД СССР».
В одном из писем Жданову осужденный призвал обратить внимание на положение в тюрьмах города: «Тов. Жданов, дайте воздуха в тюрьмы г. Ленинграда»85. Это письмо было переадресовано из Секретариата Жданова начальнику УНКВД Лагунову, который направил соответствующую записку в Смольный.86 В ней сообщалось, что по вине органов прокуратуры и суда тюрьмы Ленинграда и области оказались переполнены в 3—4 раза против установленных нормативов. Причинами такого положения были нарушения, допущенные следственными органами УПК, несвоевременное рассмотрение в судах уголовных и кассационных дел, «перегибы» в привлечении к уголовной ответствености со стороны органов милиции и чрезмерная суровость судов87.
Весьма важной является констатация того, что в самом преддверии войны правоохранительные органы не справлялись с возложенными на них задачами, будучи не в состоянии совладать с реальной и мнимой преступностью. В условиях мирного времени понадобилось вмешательство партийного руководства в разрешение проблемы «разгрузки тюрем». Занимаясь «загрузкой», а затем «разгрузкой» тюрем Ленинграда, правоохранительные органы не обеспечивали общественную безопасность горожан. Настроения неблагополучных подростков накануне войны были немаловажным фактором стабильности «внутреннего фронта».
С осени 1939 г. в редакцию «Ленинградской правды» и в Смольный непрерывным потоком шли письма, в которых говорилось об усилении хулиганства, драках, росте числа изнасилований, поножовщине, нападениях на прохожих и т. п. и бездействии органов милиции. Эти письма переправлялись начальнику Управления милиции Грушко88. Авторы одного из коллективных писем призывали создать общества содействия милиции, организовать дежурства на улицах города, поскольку «милиция совершенно не справляется с создавшимся положением». К бандидам и хулиганам предлагалось применять «самые жестокие меры, вплоть до высшей меры социальной защиты», т. е. расстрела89. Депутат Фрунзенского районного совета профессор Августинин после одной из встреч с избирателями в сердцах написал письмо в «Ленинградскую правду», указав, что он как депутат ничего не мог ответить на вопрос о борьбе с возрастающей уличной преступностью:
«Что я мог ответить, ведь я тоже вижу, как год от году количество преступлений возрастает, как втягиваются в хулиганство и бандитизм все большие и большие массы ребят, как у милиции опустились руки, как безнаказанно орудуют нарушители, начиная от вскакивающего на ходу в трамвай, и кончая школьником-бандитом, втыкающим «финку» в бок товарищу... Ведь все мы знаем, что дело дошло до того, что родители не знают, куда уже идти жаловаться на своих детей, идут в милицию, идут в райсовет, плачут и проклинают своих ребят. Пойдите, товарищи, в любой райсовет и загляните в дела секции по борьбе с детской беспризорностью – ведь это ужас, что делается среди детей – воровство, насилование, пьянство, не говоря уже о таких «обыденностях», как курение табака и похабщина»90.
Даже начавшаяся война с Финляндией не изменила ситуации с хулиганством в городе. 10 декабря 1939 г. секретарям горкома вновь была направлена информационная сводка, в которой говорилось, что «за последнее время на улицах Ленинграда участились случаи хулиганства деклассированных и антиобщественных элементов». Среди подвергшихся нападению были начальник цеха одного из номерных заводов и его сын, сотрудник института прикладной химии, работница одного из райкомов партии и многие другие. Работники милиции «до последних дней не предприняли решительных мер по борьбе с хулиганством», а «в ряде случаев из-за попустительства милици хулиганы чувствуют себя безнаказанно», – говорилось в сводке 91. Подчас происходили вполне анекдотичные случаи, показывавшие бессилие власти обеспечить безопасность даже наиболее важных политических мероприятий. Например, 7 декабря 1939 г. в клуб завода «Ильич» (Красногвардейский пер., д.23), где происходило собрание избирателей заводов имени К. Маркса, «Светлана» и «Ильич», «ворвалась шайка хулиганов, опрокинула бак с водой, погасила свет и воспользовавшись темнотой, закрыла всех находившихся в зале. Милиция, несмотря на вызовы, не явилась» 92. По информации в горком, рабочие Кировского завода, проживавшие в районе Автово-Стрельня, боялись вечером возвращаться домой. Многие из них обращались в партком завода с просьбой походатайствовать перед Ленсоветом принять эффективные меры по борьбе с хулиганством, так как милиция бездействовала. Более того, агитаторы Кировского, Володарского и ряда других районов боялись ходить на этот участок93 .
Кроме того, накануне войны проявилась еще одна важная особенность системы – состязательность (а иногда и конфликтность) органов НКВД, с одной стороны, и прокуратуры и суда, – с другой. Если инициатором постановления ОК ВКП(б) о перегрузке тюрем был начальник УНКВД (действовавший, как отмечалось, по указанию Смольного, который, в свою очередь, счел необходимым отреагировать на анонимное послание из «Крестов»), то в случае с нарушением законности в системе лагерей в этой роли выступил облпрокурор Балясников, представивший секретарям ОК перечень вопиющих фактов о случаях массовых нарушений законности в обеспечении режима и содержания заключенных. В справке ОК ВКП(б) отмечалось, что избиения, незаконные аресты, взяточничество за освобождение от работы, выведение больных, отказавшихся от работы, в «воспитательных целях» на мороз, обвешивание при выдаче пайков, воровство, игнорирование правил техники безопасности, предательство интересов службы (помощь в совершении побегов из лагерей) – «порождало ... антисоветские настроения и контрреволюционные разговоры не только среди политических и уголовных преступников, но и среди бытовиков и указников». И далее, желая подчеркнуть всю серьезность сложившегося положения и большой вред, наносимый практикой лагерей и колоний УИТЛК УНКВД ЛО и ГУЛАГа НКВД СССР, указывалось, что «через родственников, приходящих к заключенным на свидание и освобождающихся из заключения после отбытия срока, о положении в местах заключения становится известным населению, среди которого бывшие заключенные распространяют антисоветские разговоры» (курсив наш – Н.Л.)94.
Реакция населения на непопулярные мероприятия правительства накануне войны – ужесточение рабочего законодательства и проведение займов – отчасти уже приведена нами со ссылкой на работы С. Дэвис и Р. Серстона. Добавим, что нездоровые настроения в связи с реализацией займа практически накануне войны с Германией захватили самые различные категории трудящихся – от привлеченных к ответственности по указу 20 июня 1940 г. до стахановцев, включая членов комсомола и ВКП(б). Нежелание подписываться на значительные суммы рабочие объясняли тяжелыми условиями жизни, ее удорожанием, нецелевым использованием полученных средств («стотысячные премии артистам»), выражали недовольство его принудительным характером. На предприятиях машиностроительной, текстильной, пищевой промышленности охват был около 50%, а в резиново-химической – всего 35%. При этом на лучших предприятиях не более чем 60% рабочих подписывалось на трехнедельный заработок. С огромным трудом, в конце концов, удалось разместить заем на предприятиях Ленинского района95. В целом по городу, несмотря на весьма активную работу администраций предприятий и учреждений, а также широкую пропагандистскую кампанию, развернутую партийными организациями, на 8-й день план подписки на заем третьей пятилетки в Ленинском, Выборгском, Петроградском, Смольнинском, Красногвардейском и Московском районах выполнен не был. Сумма подписки на целом ряде предприятий, включая «Красный треугольник», завод им. Карла Маркса, фабрику «Работница», составлял в среднем менее недельного фонда заработной платы, что втрое было ниже «контрольных цифр»96. Партийные функционеры были не в состоянии разъяснить рабочим обоснованность сумм подписки, а встретив резонные аргументы с их стороны, сразу же информировали горком ВКП(б) о «фактах антисоветской агитации». Например, плотник судоремонтного завода Драницын подписался на 180 руб. при заработке в 670 руб., заявив: «Заем выпущен на сумму в 6 млрд руб. Население СССР – 170 млн. Если разделить, то на каждого жителя приходится только 35 руб. У меня семья 5 человек. Поэтому я подписываюсь на 180 руб. и тем самым выполняю свой долг...». Авторы информационной сводки секретарям Ленинградского ГК в связи с этим весьма цинично указали, что «Драницын малограмотный и самостоятельно не мог произвести такой расчет». На заводе «Красная Вагранка» грузчик Чеканов подсчитал, что если 100 миллионов человек подпишутся каждый на 100 руб., будет собрано 10 млрд руб. «При этом, – отмечалось в партийной сводке, – он нагло заявил: «Почему же вы с меня требуете 2—3-недельный заработок?»97. Фрезеровщик Кировского завода Серов с надетой веревкой на шее пришел к мастеру участка Миневичу и демонстративно на глазах у рабочих порвал подписной лист, заявив, что если его будут принуждать подписаться на заем больше, чем он хочет – «у него веревка приготовлена». Рабочий одного из номерных заводов 4 августа 1939 г. открыто распевал сочиненный им куплет: «Налоги, налоги, налоги давай, а осень придет – штаны продавай»98 . «Антисоветские и нездоровые» настроения были зафиксированы на многих предприятиях Ленинграда («правительство поступает по-гитлеровски»; «советская власть обдирает рабочих»; «советские займы хуже царских»; «меня и так правительство раздело», «не видно никакого улучшения в жизни, хожу без ботинок и штанов» и т. п. 99 )








