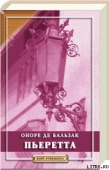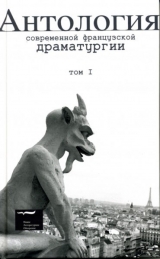
Текст книги "Антология современной французской драматургии.Том 1"
Автор книги: Натали Саррот
Соавторы: Мишель Винавер,Ролан Дюбийар,Робер Пенже,,Катеб Ясин,Жак Одиберти
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
КАМОЭНС. Кран! Вдохновение дышит, а не капает. Spirilus sanctusне в раковине. Сейчас у меня будет приступ астмы, тут так мало воздуха. Откуда бы тут взяться «вдохновению»?
МИЛЬТОН. Снаружи, само собой. «Бочка», нет, не уверен. Бочка, подбитая красным бархатом, нет. Легкое, да, если хотите, да, в крайнем случае, нелегкое, которому не хватает воздуха.
КАМОЭНС. С того момента, когда мы перестали ехать, мне кажется, что мы плывем. Мне трудно дышать. Интересно, не потонули ли мы. Может, этот футляр от скрипки на самом деле – подводная лодка.
МИЛЬТОН. Подводное легкое? Вы шутите, Камоэнс.
КАМОЭНС. Да тут не до шуток.
МИЛЬТОН. И, что ли, теперь наша подлодка остановилась? Внутри моря? На дне?
КАМОЭНС. Так что вдохновение, понимаете ли…
МИЛЬТОН. Ни дна, ни покрышки. Но что касается музыки, на воздухе в ней тоже мало радости.
КАМОЭНС. Ну почему же! В Оверни можно тянуть волынку под открытым небом. По лесам, по долам.
МИЛЬТОН. Только не орган. С пленэром даже органу не справиться. Это проблема вместилища: нечто, что можно заполнить. Бидон? Кафедральный собор? Но есть вещи, которые никогда не заполнятся, – пленэр, например.
КАМОЭНС. Волынка в соборе…
МИЛЬТОН. Пустое. Волынка ничего не заполнит. Волынку саму надувать надо, как велосипедную камеру. Пока она сама не заполнится. Не раздуется.
КАМОЭНС. Дуть в соборе…
МИЛЬТОН. Его не надуть. Собор не надуешь. Скорее он нас надует. Вот возьмите Клоделя. Собор построен как контрабас, благодаря мастерству и материалу. А не брением и дуновением.
КАМОЭНС. Соборы крайне редко уходят в пучину морскую, дорогой Мильтон. Им нужно небо, чистый воздух.
МИЛЬТОН. Соборы, Камоэнс, надувают небо. Впрочем, не поручусь. «Возможно».
Сверху доносится музыка.
КАМОЭНС. «Собор». Мильтон, вы верите в небеса? В смысле – для Великих. Бетховен! Какой великий покойник. Он не поместится в футляр. «Соборы». Вселенная, вот что ему нужно. И созвездия в нем. Иногда я себе представляю его, Мильтон. Но огромного. Похожего, разумеется, на свой бюст, чье волнующее присутствие мы ощущаем тут, на этом комоде – наше-вам! – но не заключенного в бюст. Это Бетховен, заполняющий всю вселенную. И я представляю, как мы летим на космическом корабле, похожем на наш футляр, Мильтон, он весь красный внутри, а снаружи – вылитая торпеда, которая вынесет нас вон из атмосферы, в открытый космос, нас, малых звезд во Вселенной Бетховена! И он примет нас как подобает, в своем лоне, нас, исполнявших его музыку, в скромном футляре для скрипки, и, взяв нас за ручку, засунет себе под мышку…
МИЛЬТОН. Вы что, Камоэнс, сожрали целую банку облаток?
КАМОЭНС. Не говорите глупостей. Вспомните наши гастроли в Бизерте. И бедняжку Веронику.
МИЛЬТОН. Вот кто умел управляться с альтом. Я очень люблю Бетховена, Камоэнс. Не знаю, полюбил бы он меня, наш великий человечище. Меня еще никогда никто великий не любил. Мы с вами невелики. Тут, в подлунном мире, нет ничего великого.
КАМОЭНС. Вы вздохнули. Волынка покоя не дает.
МИЛЬТОН. Волынка? Волынка к музыке не имеет отношения. Волынка это воздушная остановка между вдуваемым и выдуваемым воздухом. Чтобы вам стало яснее, рассмотрим губку, это то же самое. Губка тоже не имеет отношения к музыке. Так же, как волынка – это просто прямая ей противоположность.
КАМОЭНС. Ну нет! Только не говорите мне о воде, прошу вас, Мильтон, вода и воздух, это просто прямые противоположности. «Губка», «легкое»!
МИЛЬТОН. А что! Вода тоже входит и выходит.
КАМОЭНС. Вдохновение, Мильтон…
МИЛЬТОН. Ну, вот возьмите для примера свой мочевой пузырь, Камоэнс. Прилив вдохновения выливается в желание отлить. Ты пьешь, значит, творишь.
КАМОЭНС. Я не живу в своем мочевом пузыре, Мильтон. Мне бы не хватило там воздуха. Там его еще меньше, чем в волынке. А знаете что, Мильтон, возьмите для примера свой собственный мочевой пузырь. Из этого материала изготавливают кисеты, допустим, но ваш пузырь не закончит жизнь волынкой. Дуньте слегка здесь, вдохните тут, посмотрим, что воздух из него извлечет.
МИЛЬТОН. Мой пузырь – волынка? Зачем же мелочиться, почему бы моему пузырю, если уж на то пошло, не стать воздушным шаром? Эй, шар! Взлетай! В тот день, когда Пармантье изобрел монгольфьер, он поднял палец в воздух и воскликнул: «Можно выйти?» – «Валяйте!» – ответил ему учитель, веривший только в мочеиспускание. Но Пармантье уже выдирал из земли свои картошки фри и летел в Панаму, где он когда-то забыл головной убор. «Шары! Шары! Вон шары!» – кричали американцы, еще слегка краснокожие в то время. «Нам нужны красные шары! – Другой бы спорил – вот мой патент».
Но, с другой стороны, и Бисмарк не дремал – что он сделал? А все! Чтобы приобрести драгоценный патент на этот патент, чего он только не делал по настоятельной просьбе Крейцера, который решил уже, что соната у него в кармане – святая простота! – в то время как умники из маленькой деревушки в Восточной Пруссии, некие братья Цеппелины степенно ждали своего часа, растирая друг другу надувные модельки и ревниво лелея их славное военное будущее сквозь потайные ходы в штанишках без пуговиц, зато с запахом, как у моряков, вроде тех, что были у их дядюшки Хренахера, по совместительству знаменитого дедушки малышки Берты, той самой малышки Берты, что стала большой Бертой благодаря бомбардировкам – «Большая Берта, дедуль!» – как бабахнет по морде – нам, не им, пока мы неторопливо совершенствовали использование в мирных целях картофельной запеканки Пармантье, украшенной безвоздушной кровяной колбасой, и извлекали свеклу из тростникового сахара. Наивность? Предательство? Папа римский, евреи, франкмасоны? Какая разница. Все это чистая правда. Мне так сказали. Я читал. Получил четверку.
И вообще, плевать я хотел. Мама предпочла, чтобы я предпочел скрипку. Я бы предпочел, чтобы она предпочла, чтобы я предпочел бойскаутов – из-за турпоходов. Но, хорошенько подумав, я все же предпочел предпочесть, чтобы мамочка предпочла, чтобы я предпочел скрипку – из-за скрипки. И я добился успеха. Знаете, что я теперь предпочитаю? Скрипку. Из-за мамы. И я получил четверку с плюсом.
Когда-нибудь я куплю себе «бугатти».
Ему никто не отвечает.
Соседский квартет заиграл снова.
Мильтонвстает и заявляет, вплотную подойдя к Анжелике:
Как бы то ни было, Беттина, ваш Бетховен на Бетховена не похож.
ГИЙОМ( оборачиваясь).А он сам? Бетховен? Он-то, Бетховен, был похож на Бетховена? Дайте мне закончить. Я никогда не был похож на Бетховена, ясное дело. Я бы и хотел, да не вышло.
АНЖЕЛИКА. Гийом.
ГИЙОМ. Лишний довод в пользу необходимости быть им, Бетховеном. То, что со мной происходит, это не сходство с Бетховеном, я и есть Бетховен. Такое случается реже. Можно сказать, это уникальный случай. Так судьба стучится в дверь. «Па-па-па-пам».
КАМОЭНС. Понятно. Мильтона зовут не Бетховен.
МИЛЬТОН. Камоэнса тоже.
КАМОЭНС. Да.
ГИЙОМ. Я несчастен, что со мной?
МИЛЬТОН. У вас зуб болит, Гийом.
ГИЙОМ. Пить хочу. И сейчас выпью. А что касается несходства с Бетховеном, то сам Бетховен тоже сам на себя уже не был похож, когда лежал тут и пил, и пил, и постепенно раздулся от воды, прям как бочка, как волынка, это была водянка, сказали доктора, у моего Бетховена, и пункция, пункция, пункция. Не могу больше. Меня проткнули, как пузырь с водой. (Садится в кресло и делает вид, что умирает.)
МИЛЬТОН( Тиррибуйенборгу).Ну. Вы слышали?
КАМОЭНС. Вытащите у него кляп. Я ему проткну уши смычком.
МИЛЬТОН. В воде, да? Мы в воде?
КАМОЭНС. Мы в нутре у муря, я те пояснирен. Отданные на милость твоей хреновины в желудочном соку обрызгшего брюшка, так что, если не ты нам не отвечайзинг, сам и тям, пойдут кулачки по закоулочкам. Мы тебя нараз угробим в этой тутробе.
Тиррибуйенборг, избавленный от кляпа Мильтоном, ужасе.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Молный прак! Темаформозный заворот! Мы есть в миноре. Намололи дров. Я щас чмокнусь! Во-во! Чмокнусь! Не мотиварю вовсем что несу, что блотаю. Не вырубаюсь в мой ангельски, ду ю ду? Ни в мой фрарусский. Франглел, франглел не по сути, козни фан тутте, закосил, нафинтил. (Делает движение.)Моя! Позвольните прумыкнутца. (Утирает пот со лба.)
КАМОЭНС. Как вы считаете, Мильтон, он заговорит когда-нибудь?
МИЛЬТОН. Да. Только о чем?
КАМОЭНС. Надо ему подсказать.
МИЛЬТОН. О чем говорить…
КАМОЭНС. Да. И даже что именно он должен об этом сказать.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Меня волновает. Тут черти в чем творится.
Гром.
На дню мирском ломняет, я прям в шоке.
Плюх, плюх и бух. Угроза громыхает, что и турбовалось закодать. ( Переходит на шепот.)Шатапьте!
АНЖЕЛИКА. Гийом.
МИЛЬТОН (встревоженно).Камоэнс…
ГИЙОМ (на одном дыхании).У меня зуб болит.
МИЛЬТОН (так же).«На дню мирском…»
КАМОЭНС (Мильтону).Что происходит?
Квартет по соседству исполняет четыре тревожных такта из бетховенского Квартета № 13 (ор. 130, часть 5, с такта 40 и далее).
Слышно, как кто-то спускается по лестнице. Слышен также глухой звон тяжелого бронзового колокола.
Тишина, неподвижность.
АНЖЕЛИКА (в ужасе, шепотом).Камоэнс.
КАМОЭНС (так же).А?
АНЖЕЛИКА (так же).Бюст.
ГИЙОМ (шепотом).Какой бюст? Мой?
Пауза.
Такое впечатление, что чьи-то шаги замерли прямо перед дверью. Все смотрят по сторонам.
АНЖЕЛИКА (шепотом).Где он?
ГИЙОМ (так же).Я потерял свой бюст.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ (тихо, тревожно, пока затихает глухой звон колокола).Ничего не скажу. «Слышьте колокол? Перемена декораций».
Молчание.
КАМОЭНС (кричит).А-а!
МИЛЬТОН (кричит).А-а!
Непонятно, почему они вдруг закричали.
Потом дверь-вертушка медленно и бесшумно совершает полный оборот. Непонятно, кто вошел.
Никто.
ГИЙОМ( встает, улыбаясь.)Сейчас я вам его покажу. Бетховена. Он входил, но был так глух, что его не слышали. И близорук – об этом часто забывают, он был близорук. Глаза карие, но мутные, все в густом тумане, его в двух шагах не было видно. Он входил, глухим невидимкой, ноги в трио призраков и дурного настроения, с всезатопляющей водянкой через плечо – сейчас я вам его покажу. (Садится за фортепиано.)Присев на одну ягодицу – есть письменные свидетельства, Беттина, – Гёте, словно большой Шварц, отсутствующий в кресле, читал твои письма, и ты говорила: на краешек табурета приседал он и, словно машинально ввинчиваясь в замочную скважину, в дерево (любому человеку я предпочту дерево), он взмахивал левой рукой и слегка пробегал пальцами по клавишам, брал аккорд и связывал его с другим… (Сопровождает свои слова игрой на немом пианино.)И вдруг… словно «ломния» ударяла его, как когда-то Франклина… и вот уже на фортепиано, внутри фортепиано бушевала гроза, мгновенность мимолетного мгновенья (публика готова была зарыдать, публике перевернули все внутренности этим фортепиано снаружи, в котором столько всего внутри), а теперь смотрите, я вам покажу. (Пропевает две ноты с закрытым ртом, поднимает глаза вверх и внезапно начинает страстно и виртуозно играть сонату, которую мы не слышим. Вскоре ему это надоедает, и он останавливается. В тишине.)
Беттина…
Ox…
Она сбежала. Далекая возлюбленная.
Я помню. Тишина… Сколько я ни бил себя по лбу кулаками, чтобы бум-бум проник мне в уши, в этот бум-бум я не верил. Шум шел изнутри. Не от цветов, коров, лугов. Бум-бум. Внутри еще раздавался стук сердца. Его угадывали в каватине Тринадцатого квартета. Бубум-бубум. Доктор Мендель в тысяча восемьсот тридцать девятом году нашел в моей каватине доказательство того, что я умер от грудной жабы. Сколько врачей, столько диагнозов. Иные уверяли, что я подох от непростительного заболевания печенки. Доктор Ваврух, пока я был жив, запретил мне пить красное вино. Мое любимое красное вино. Кто, по его мнению, мог бы еще составить мне компанию, кроме красного вина? Красное вино можно слушать. Нет ничего глуше красного вина, с ним заодно погружаешься в глухоту, в ушах стучит папим-папим, папим и уф… Да, тишину я помню. Тишина стала безумной, как безумное лето, такой сильной и мощной, что от нее повсюду прорастали, все быстрее и быстрее, маленькие и большие, как листья на стенах, по углам потолков, и по ту сторону стен и потолков, – огромные и невидимые, и такие внимательные – уши! Уши повсюду! Ни шагу! Ни жеста! Немеет сердце, грудь замыкается в ужасе от этих внимающих мне ушей, внимающих ему, и ни одно даже мимолетное дыхание страха не ускользнет от самого наимельчайшего листика в гроздьях ушей. Но все уши, вся вселенная, вся природа, о боже мой, населенная ушами, слушала, слышала, прослушивала стук моего сердца. Всем ушам настенным и наружным в пространстве принадлежало мое сердце, они держали его в лапах и в зубах, – что ж поделать, сердце мне больше не принадлежит, его у меня отняли, ах, берите, уносите, притягивайте его за уши у себя дома, в своих ушных берлогах, внемлите ему засушенными ушами с острыми зубами, зубами ловкими и симпатичными, как собака, которая может взять клыками яйцо, не разбив его, унесите мое сердце, унесите его, чтобы, по крайней мере, я больше не слушал свое сердце – вдрызг заслушанное и знающее, что его слушают, чтобы больше я его не слышал. Умереть.
И тогда разразилась гроза. Я был глух, и все же я ощутил гром, увидел молнию. Я погрозил молнии кулаком, это отмечено во всех моих биографиях. Ударил кулаком по грому, который не предпринимал ради меня никаких усилий, не соблаговолил ради меня издать хоть какой-то звук. Я ударил по грому кулаком, как по своей голове, чтобы он зазвучал. Все напрасно. Гром оглох. Я умер. Мой друг Шиндлер, а может, это был Хольц, не помню, нет! это был Ансельм Хюттенбреннер; ну что ж, он вам скажет сам, Ансельм. Я умер. Умер от удара кулаком по грому, который не издал ни единого звука.
(Поворачивается на своем табурете и смотрит на присутствующих странным взглядом.)
На минуту все замирают, ничего не говоря.
АНЖЕЛИКА. Может, если бы ты не принимал себя все время за Бетховена, тебе удавалось бы иногда заниматься музыкой.
ГИЙОМ. А зачем? Если я не Бетховен, я умолкаю. Какая без этого музыка?
АНЖЕЛИКА. Ох! Наверное, он тебе даже мешает.
ГИЙОМ. Бетховен? Мешает мне? Потому что меня так зовут? Ему, что ли, имя Бетховена мешало исполнять музыку? Как раз наоборот. Бебик Бебеттина, не говори такие чудовищно чудовищные вещи.
АНЖЕЛИКА. Как мне грустно. С ним было все не так. Он, бедный мой Люлик, я уверена, умел на свой манер быть Бетховеном, и это не имеет ничего общего с твоей манерой быть Бетховеном.
ГИЙОМ. Да, я знаю. Меня слишком много. Мне иногда самому кажется, что меня слишком много. Я устал. Я сыт музыкой по ушки, те, что на макушке. Беттина! «Бетховен»! Это я, что это? Это имя, это то, что я хочу, чтобы этим было, ясно! Я дарю тебе его.
Но скажи мне, если я действительно устал, кем еще я могу быть, по-твоему?
АНЖЕЛИКА. Никем! О, прошу тебя, никем! У тебя не получается, и потом зачем? Уверяю тебя, очень хорошо быть никем. Никем, как все. Как безымянные люди. Они спят без имени, когда им хочется спать, они позволяют сну уносить их имена, как младенца в черной соломенной корзинке по течению реки. Есть ли у имени ребенок? Прокричит ли ребенок свое собственное имя, когда у него заболят зубы?
ГИЙОМ. Я не ребенок.
АНЖЕЛИКА. Иди ко мне, поспи.
МИЛЬТОН. Шизебзиг, ты не ребенок, но это тебе не помешало его сделать!
АНЖЕЛИКА. Мильтон! ( Угрожает ему альтом.)
МИЛЬТОН. Спокойствие! Милашка моя! Я тоже не ребенок! ( Хватает контрабас.)
ГИЙОМ. Я, ребенка? От кого, кому? От кого, кому, от кого, кому…
Так он и продолжает.
МИЛЬТОН. Камоэнс!
КАМОЭНС. Да, а что! Это не он, а я!
МИЛЬТОН. Ты что ты?
КАМОЭНС. Ребенок – это я его. (Гийому.)Хватит!
Гийомумолкает.
МИЛЬТОН. Я не то хотел сказать.
Слышишь, тут, в этой штуковине (трясет контрабас, заглядывая внутрь),твоя черная скрипка. Слышишь? Сейчас увидишь. ( Открывает контрабас и вынимает скрипку.)Вот она, держи. ( Протягивает ему скрипку. Гийому.)Ребенок, да! (Анжелике.)Ты полагаешь, что детей можно делать с кем ни попадя? Чем ни попадя? ( Забирает у нее альт.)Существуют инструменты, ими можно исполнять музыку, но… Его бабушка была контрабасом? Папа виолончелью, да? А потом они рожают квартеты, залетев от сочинителей-младенцев.
КАМОЭНС. Это не он, а я.
МИЛЬТОН. Это не ты, а он, рогатый ты мой, как в Бизерте.
АНЖЕЛИКА. Что произошло в Бизерте?
ГИЙОМ. Моя фамилия Бетховен, и ноги моей не было в Бизерте.
КАМОЭНС. Вероника…
АНЖЕЛИКА (кричит).Меня зовут Анжелика!
КАМОЭНС. Не ори! Вот я и говорю, это совсем не то.
ГИЙОМ. А кому, говорят, я сделал ребенка, в Бизерте!
МИЛЬТОН. Речь идет о Веронике.
ГИЙОМ. Это вы, Мильтон, сделали ребенка Веронике в Бизерте.
КАМОЭНС. Нет, я.
ГИЙОМ. И прошу вас немедленно вернуть альт моей альтистке. Альтистка моя, потому что у меня все дома.
МИЛЬТОН. Держи свой альт.
КАМОЭНС. С Вероникой это не он, а я.
МИЛЬТОН. А он?
КАМОЭНС. Одно другому не мешает. Я совершенно с вами согласен, Мильтон.
МИЛЬТОН (Гийому).Ну? А ты?
ГИЙОМ. Я умер в тысяча восемьсот двадцать седьмом году, так что…
МИЛЬТОН. А ты что сделал, когда она умерла?
КАМОЭНС. А она?
МИЛЬТОН. Вероника? Когда она умерла? Что она могла сделать?
ГИЙОМ. А я?
КАМОЭНС. Альтистка в футляре!
МИЛЬТОН. В гробу…
КАМОЭНС. Из дерева ее труп, как альт? С альтом мортале. Что он сказал?
МИЛЬТОН. Не что «сказал»! А что «сделал»!
КАМОЭНС. Кто «сказал», она? В своем ящике?
МИЛЬТОН. Не «она»: «он», что он…
КАМОЭНС. Кто? «Сделал ли он» что?
МИЛЬТОН( показывая на Гийома).«Кто»? Он!
КАМОЭНС. И что сделал?
МИЛЬТОН. Ей…
КАМОЭНС (Гийому).Так что сделал?
АНЖЕЛИКА (Мильтону).Скажи, если знаешь!
ГИЙОМ. Скажи!
МИЛЬТОН. Ох. Она, значит, умерла. Мне, сами понимаете, ни горячо, ни холодно…
КАМОЭНС. Ну и.
МИЛЬТОН (спокойно).Мне плевать. Наплевать и растереть. (Громко, остальным.)Что? Что? Что? (Чуть не плача.)Мне все надоело, ясно вам? (Громко.)Валите отсюда, а?
АНЖЕЛИКА. Что?
Мильтонсадится в углу и одиноко плачет.
ГИЙОМ. Ладно. Если хочешь андерстендить, я с тобой вмиг сведу все твои счеты. Что, господин граф, награфоманил график? (Теряется и поворачивается к остальным.)
Где эта штучка моя, скажи-ка, дядя, вам все шуточки, она всегда была внутри моей скрипки, как ее там… ну понятно… та, что у меня была внутри скрипки.
КАМОЭНС. Держи. (Протягивает ему черную скрипку.)
ГИЙОМ (гневно).Нет! Это не моя скрипка! Скрипка моя, забери у меня эту какую-то другую скрипку, она заразная, убери ее, лучше уж на катафалке играть, гроб с музыкой звучнее будет.
КАМОЭНС (наседая).Ты куда свою скрипку подевал, а?
ГИЙОМ (защищаясь).Я?
МИЛЬТОН (тана в углу).Мне надоела ваша музыка! Надоела. Мама! Мне надоела музыка.
ГИЙОМ (холодно, Камоэнсу).Я не виноват, что забыл ее. «Забыл»! Нет, я ее потерял, скрипку свою, вот и все.
Анжеликацелует его в губы и потихоньку отбирает у него свой альт.
КАМОЭНС. Ну.
АНЖЕЛИКА. Не осталась же она там внутри.
ГИЙОМ. Кто?
АНЖЕЛИКА. Вероника, далекая возлюбленная…
КАМОЭНС. Шварц!
МИЛЬТОН (выныривая из своего отчаяния).Вот именно: Шварц!
ГИЙОМ. Со Шварцем швах.
АНЖЕЛИКА. Шварц! (Показывая на Тиррибуйенборга.)Спросите у него, где Шварц.
ГИЙОМ. Оставьте в покое Гийома. У него Шварц, спросите где.
КАМОЭНС. Это мы и собираемся сделать.
МИЛЬТОН. Вдвоем, он и я.
КАМОЭНС. Вот именно. (Тиррибуйенборгу.)Где Шварц?
МИЛЬТОН. Где Шварц?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Шварц! Шварц и Шварц! Фашизмус! Я замолчаюсь. Стыд. Я повязанный, как мой гросс мутер на том коздре! Филипп Эммануэль!
Раздаются три удара. Филиппу Эммануэлю.
Я в Стыду!
Я замолчаю.
МИЛЬТОН. Он замолчает.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Я себя замочаю. На дню мирском. Протяните ноги! Среди осьминогов.
КАМОЭНС. «Он себя замечает», слышали? Мушье себя замочает. Ну что ж, клянусь тебе, что твоя себя не замочает. Передайте мне волынку, Мильтон.
МИЛЬТОН. На дне мирском! Какие еще осьминоги! Говорите по-людски.
АНЖЕЛИКА. По-людски! Он умеет говорить по-людски.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Бульк! Бульк и Бульк! (Успокаивается.)Я прекрасно умею говорить по-блюдски. Мне просто надо за собой следить. Я боялся, что слишком пристальное слежение лишит меня натюрельности, но поскольку вам, судя по всему, плевать на мою натюрельность, я отныне за собой прослежу. Правда, в позументе, в который вы меня позиционировали, моей натюрельности не представится случая сохранить свою сигнификацию. Моей натюрельности, в настоящее мементо, вынужден признать, самой недостает натюрельности.
Судя по всему, ему противно.
КАМОЭНС. Развяжите его, Мильтон.
МИЛЬТОН. Есть, шеф. (Развязывает его.)
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Для начала верните мне мой навигальный перебор.
МИЛЬТОН. Верните ему перебор, Камоэнс.
ГИЙОМ. Шварц! Мы задыхаемся, мушье!
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Потерпите четверть часика, вы поймете, что такое действительно задыхаться. Воздух разрежен. Время не терпит, господа. Но поскольку вы, по-видимому, нуждаетесь в разъяснениях, я готов их вам предоставить. Задавайте вопросы. Потом вы позволите мне сесть туда, за мой клавирабль.
КАМОЭНС. Фортепиано.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Клавирабль. А не фортепиано.
КАМОЭНС. Если мы на дне морском, вы должны нам об этом сказать.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Мы на дне мирском. А в остальном уже какое-то время мне вот сюда каплет. Где-то протечка.
МИЛЬТОН. Если мы в футляре для скрипки, даже на дне морском, вы должны нам об этом сказать.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Футляр для скрипки, в котором мы находимся, не футляр для скрипки, а летальный препарат.
АНЖЕЛИКА. А вы?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. А я пилот летального препарата, маземуадиль.
ГИЙОМ. Какой такой препарат?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Летальный. Вот его модель. Вот тут вот содержаемся мы. Вон там по-над перегородкой – турбины.
ГИЙОМ. Значит, мы в летальном аппарате, пусть так. А он сам в чем?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. На дне мирском, на пусковой площадке. И фюиить! Вот мы и тронулись, со мной в смысле пилота за пультом клавирабля.
МИЛЬТОН. И куда же это мы?
КАМОЭНС. Шварц! Где Шварц?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Мы туда, где Шварц! Вот именно, мушье, маземуадиль. Туда, где Шварц откроет, делай как я, этот футляр, и бах! Потолок и крышка.
Шварц – великий коадъютор Княжества, коего моя служает летуном: за клавираблем летального препарата.
МИЛЬТОН. Хорошо, на летательном аппарате мы направляемся туда, где Шварц. Значит ли это, что мы направляемся в какое-то определенное место, и что это за место?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Место на острове, мушье, маземуадиль! Мокрое место на воздушном острове! Воздушный пузырь, окруженный со всех сторон неразлейводой. Я пояснирен. Посмотрите на этот струмент.
ГИЙОМ. Моя скрипка!
КАМОЭНС. Это контрабас.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Это скрипка, мушье. Мы направляемся к бессмертным смертным, в пучину океанов. Там, где обитают великие люди. А это, месье Камоэнс, не контрабас для маленького человека, а скрипка для великого. Потому что великие люди очень велики. Чтобы сыграть на этой культовой скрипке, месье Мильтон, вам придется залезть на плечи месье Камоэнса, и тогда месье Шизебзиг, забравшись на ваши плечи, сможет прижать ее подбородком, хотя, принимая во внимание тот факт, что потолок тут слишком низкий, придется просверлить дыру. Ну что ж, бессмертные играют на этой культуральной скрипке.
И вы увидите Шварца, уже скоро, огромного и черного. Он наклоняется. Хватает вас за ручку и уносит! – в зал культоварного Фестиваля, где вас ждет сам Людвиг ван Бетховен… Да! Да! Я пояснирен. Вы не могайте не замечуваты, как всемогаще ощущуетца сюдою наличание Бетховена. Бетховен тат и тум, среди свеклабухов и на гребенках волн, и вот.
МИЛЬТОН. Спокойно.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Спокойно. А жаль.
По соседству квартет исполняет 2-ю часть Квартета № 16 (ор. 135), с такта 60 и далее.
МИЛЬТОН. А это что такое?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Это Бетховен. Чем я весьма доволен. Лишнее доказательство, что они все еще здесь.
КАМОЭНС. Где?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. На дне мирском, с нами.
МИЛЬТОН. Кто?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Мой двоюродный брат, Филипп Эммануэль.
КАМОЭНС. Что тут забыл ваш двоюродный брат Филипп Эммануэль?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Его фамилие тоже Тиррибуйенборг. Как мое. Слышаете? Квартет Паркинсона. Цим, цим, пуцим.
МИЛЬТОН. Паркинсона? Он пустил себе пулю в скрипку, Паркинсон, еще недели не прошло.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Его жена заменила.
КАМОЭНС. На дне мирском!
ГИЙОМ. Ха! Ха! Ха! Смешно. Лола Паркинсон! Где моя палка! (Стучит в потолок.)
Музыка смолкает.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Соло! Алло! Вы б лучше порепетировали!
Вы выбирания удостоились, а Паркинсонов таких хоть отбавляй. В других футлярах, разбросанных по дну мирскому, заключены Руппендорфы, Коперники, Берришоны, Стампонерги и другие уважаемые Квартеты.
На Фестивельном Культурале, в присутствии Бетховена лично, выигрывает сильнейший. Телевизионский конкурс!
МИЛЬТОН. И что же он выигрывает, ваш сильнейший?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Бронзовый бюст Бетховена. Тот самый пресловутый бюст, о котором мы столько говорили, с подлинной головой Бетховена внутри. И с нагрузкой в виде классной заначки с бессмертными бабками.
МИЛЬТОН. Все это достаточно невероятно.
Квартет Паркинсона приступает к «Большой Фуге» (ор. 133).
ГИЙОМ. Лола Паркинсон! Давно я так не смеялся. КАМОЭНС. Бессмертные бабки, мечта моей жизни. Вперед, ребята, они им не достанутся.
МИЛЬТОН. Давай, Гийом, догоним их!
Они исполняют то же произведение, что и Паркинсоны.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. В путь! Смотрите, мушье, вот мой клавирабль, я нажимаю на кнопки, и в путь! Я те пояснирен. Вот тут включаю зажигание. Сидаюсь. Засим клавитирую левой рукой, котролируя мощность турбин. Слышите шум? Мы стартуем на до мажоре. До мажор – это сольный вперед. Взлетайзинг на сольный вперед с подводной пусковой площадки, прямиком к прицели, как надо – на «до». Хочу повернуть, модулирую. Налево, при помощи фа-диез, взятого наугад, вот этого, к примеру, модулирую на соль, а если надо сделать поворот на середине дороги, добавляю до-диез, даже иногда соль-диез, ре мажор, ля мажор. На «ми» слышно, как скрипят шины, если, конечно, у летального препарата есть шины, а на «си» мы рисканем перевернуться. Науправу, оставляю диезы и берусь за бемоли. Вот си-бемоль, вот ми-бемоль, модулируем на фа, и даешь науправо. Мы сматуваемся, господа, сматуваемся! И вот мы уже попали в зупырь Свеклового Сада. Бетховен. И вот он тут как тут великий Шварц. Шварц, слушьте! Шварц.
Квартет продолжает играть, несмотря на нарастающую тревогу, и мы слышим, как приближаются шаги великана. Потолок с треском раскалывается, и декорация совершает четверть оборота вокруг горизонтальной оси.
Занавес
Перевод Марии ЗонинойRoland DubillardLE JARDIN AUX BETTERAVES© Gallimard, Paris, 1969