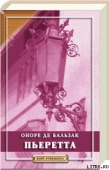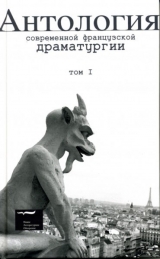
Текст книги "Антология современной французской драматургии.Том 1"
Автор книги: Натали Саррот
Соавторы: Мишель Винавер,Ролан Дюбийар,Робер Пенже,,Катеб Ясин,Жак Одиберти
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
КАМОЭНС. Говорят – исполнятьмузыку. Исполнять, вот в чем суть. И так решительно все – приходится исполнять. Восемьсот километров. Из Эдинбурга. Пароход. Порт. Поезд. Промокшие сапоги. Я привез копченого лосося. Приехал первым. Вот он я. Вот они мы. Исполнять музыку. Исполнять. В двадцать лет я служил боцманом на пароме. На всех парах. (Словно услышав чей-то вопрос.)Что? ( Продолжает.)Боцман на судне по отношению к капитану и коку все равно что виолончель в квартете. В двадцать лет. На пароме! Что ж, сравним. ( Встает, делаem несколько шагов с виолончелью в руке.)Сравним! В сорок лет. Легкие трио на волнах, звучные квартеты под парусами, мощные квинтеты в шторм, кто на пару, кто на мазуте. Суда ходили из одного пункта в другой! На нотоносце по морям по волнам к органному пункту порта – я просто сравниваю способ передвижения. Струнный квартет – это наверняка то же самое. Он тоже перемещается, а вот паром не так быстро, и наверняка реже, чем мы, к тому же монотонно, – что он делает? Ходит в Англию и обратно, взад-вперед, совсем как наши смычки, господа, туда-сюда, туда-сюда. Из-за этой монотонности я и ушел из флота, понимая, что на виолончели поплыву быстрее, туда-сюда, а главное, эксклюзивные туры. И бабки на руки! Я знал, что побываю везде, как только примажусь к какому-нибудь сносному квартету, международное признание, и все дела, вот мы в него и попали, мы с виолончелью, да, примазались, само собой! на долгоиграющих волнах струнного квартета. Мы с ней виолончели квартета Шизебзига. Ибо так нас назвали, в честь Шизебзига, нашей первой скрипки. Нашего отца-основателя. А сейчас, Шизебзиг, слушай меня внимательно.
Гийомпрекращает барабанить по скрипке.
ГИЙОМ. Гийом.
КАМОЭНС. Гийом. Слушайте меня внимательно, Гийом Шизебзиг.
Гийомвстает и неторопливо направляется к пианино.
Свой контракт…
МИЛЬТОН. Твой контракт…
КАМОЭНС. Я чуть было не подписал с Брюхерфлоттом!
МИЛЬТОН. Ой!
КАМОЭНС. С Брюхерфлоттом! Брюхерфлотт это вам не баран чихал, хоть и не квартет, и в трио, чтоб вы понимали, бабки делят на три части, а не на четыре. Что? Что у нас? Гийом? Я? Если мы не сыграем завтра вечером, то что? Растоптать виолончель? Я готов! Любите ли вы музыку, как люблю ее я…
Гийомсадится за пианино.
(Мильтону, который так и стоит, вперив глаза в потолок.)
Что такое, Мильтон?
МИЛЬТОН. Странно, что гром прекратился.
КАМОЭНС (Тиррибуйенборгу).Что такое?
АНЖЕЛИКА. Отстаньте от Гийома.
МИЛЬТОН. Сейчас, «отстаньте»! Вы видели мои сандалии? По-вашему, публика соберется завтра в час прилива? Во сколько завтра прилив? Кто будет заниматься промокшими зрителями, кто, я вас спрашиваю? И кому из нас уже приходилось, это я так, для справки, играть на скрипке при помощи скрипки, полной воды? Кто может сказать, какой звук издает скрипка, полная воды? «Отстаньте»! Где, когда, как, что и для кого мы будем играть? И где прохладительные напитки?
ГИЙОМ. Не следует меня упрекать в том, что моя фамилия Шизебзиг. ( Начинает играть на фортепиано, которое не издает ни единого звука.)
МИЛЬТОН. А есть ли где-нибудь кто-нибудь, кого можно было бы упрекнуть в том, что его фамилия Шварц?
КАМОЭНС. Будьте так любезны, Мильтон, подержите виолончель.
Мильтонподчиняется.
АНЖЕЛИКА( пока Камоэнс направляется к Тиррибуйенборгу). Ялично вернулась из Будапешта.
МИЛЬТОН. Садись, пять! Правильный ответ.
Камоэнсзастывает за спиной Тиррибуйенборга, который как раз снимает наушники.
КАМОЭНС. Прошу прощения, месье.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ( его внимание привлекает немое музицирование Гийома).Ах!
КАМОЭНС. Вот именно, все как-то так. Сами мы не местные. В связи с чем ищем – и очень бы хотели найти – кого-нибудь из туземцев. Вас, например. Если вы, конечно, не иностранец.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Ах! ( Встает и подходит к Гийому, который продолжает играть внемую.)Ох! Мушье исчо лабухает! Мало иму скрипать, он исчо лабухает! ( Оборачивается к остальным.)Слушьте. ( Задумчиво смотрит на Гиойма; прислушивается. Напевает мелодию, которую, судя по всему, играет Гийом.)На на на на ни на ну… На ни ну но ну ни на…
Гийомпрекращает играть и оборачивается к Тиррибуйенборгу.
Не, не! Не вообращайте на меня внемления! Спокухай-те! Бьютишейн мужикален! Зе Бестховен. Соната.
Все непонимающе смотрят на Тиррибуйенборга. Он снова напевает:
На на на на ни на ну… На ни ну но ну ни на…
Смущенное молчание.
Зер гут клавирабль. Бум-бум.
Только без рук! «Оно» не форте пьяное. Этот клавирабль ист майн.
Пауза.
КАМОЭНС (решив всех познакомить).Месье Тиррибуйенборг. Эмиль Тиррибуйенборг. Беттина Анжелика, альтистка. Гийом Шизебзиг, наш всеобщий командир. «Скрипун». Первый скрипун.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ (неожиданно).Бетховен.
КАМОЭНС. Нет, нет… Скрипун. А это Мильтон. Исчо айн скрипун, видите ли, вторая скрипка. Моя фамилия Камоэнс. Куда я дел виолончель?
Все, кроме Анжелики, которая остается сидеть, в полной растерянности хаотично перемещаются в пространстве.
ГИЙОМ (энергично, но почти шепотом).Давайте! Давайте! Репетируем.
МИЛЬТОН (Камоэнсу).Забирай. Свою даму. (Вручает ему виолончель и берет свою скрипку.)
АНЖЕЛИКА. Неплохо бы начать сначала.
ГИЙОМ (нервно).Да… да… все равно. Отсюда. (Тыкает смычком в какую-то ноту. Скрипку при этом он забыл на пианино.)
Все рассаживаются.
МИЛЬТОН. Откуда?
АНЖЕЛИКА. Отсюда.
КАМОЭНС. Где мой смычок… (Ищет.)
МИЛЬТОН. Ну что еще такое…
Его смычок соединен со смычком Камоэнса.
Что за мешанина?
КАМОЭНС. Отдай.
МИЛЬТОН. Держи свои вещи в порядке.
ГИЙОМ (тем же энергичным шепотом).Поехали! Раз, два, три, четыре.
Все, кроме него, играют 2-ю часть опуса 127.
Я скрипку забыл…
МИЛЬТОН (с горечью).Очень остроумно. Обхохочешься.
Анжеликавстает, идет к пианино, но сталкивается с Тиррибуйенборгом, который уже успел завладеть скрипкой Гийома.
КАМОЭНС (пока Анжелика движется к пианино).Как будто нам без этого парадоксов мало! Играть в таких условиях! А тысячи голландцев, павших смертью храбрых на Лазурном берегу?!
ТИРРИБУЙЕНБОРГ (заигрывая).А-а! (Прячет скрипку.)
АНЖЕЛИКА (кокетливо).А-а! (Прячет альт.)Будьте добры, отдайте скрипку…
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Ха! Ха! Милая муя миземуадиль!… Онли уан пыцалуй.
АНЖЕЛИКА. Это мы успеем.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Ах! Ах! Диньдинь! (Щекочет струны альта.)
АНЖЕЛИКА. Вы из какой страны?
ГИЙОМ (издалека).Скрипку…
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Какая чьудная парижаночка. Тем лучше, где нас нет, восемь бед в один обед. Свекла ин зе чресло. В шварцевском чресле! Позвольте, миземуадиль. (Отдает ей скрипку, идет за свеклой.) Ясейчас вам скажу кое-что важное, пуся моя. ( Чуть расстегивает, но тут же застегивает платье Анжелики.)Что есть голая женчина, пуся моя, маземуадилька? Это женчина минус трусчики и блефчик. Вот она обнаженка для живописуна. Не живописящего живописуна, а, о да, живописуна живописсущего. Non sumus.
АНЖЕЛИКА. Мы вас так просто не отпустим.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Радуйся, Мария, бретелек полная. И на голой вашей груди как протест я ставлю крест. (Опускает свеклу в вазу, стоящую рядом с бюстом Бетховена.)
АНЖЕЛИКА. Гийом, куда ты дел мой гамак?
ГИЙОМ. Камоэнс, дайте Мильтону высказаться. Репетируем. Мильтон, помолчите же немножко, мы репетируем. Анжелика, прошу тебя.
МИЛЬТОН. Анжелика.
КАМОЭНС. К тебе обращаются. Давай сядем на стульчик. Приходится, месье Тиррибуйенборг…
МИЛЬТОН. Он вышел.
КАМОЭНС. Через перегородку.
МИЛЬТОН. Хотел бы я знать, что там, за этой перегородкой.
ГИЙОМ. Это вас не касается.
Анжеликапротягивает Гийомускрипку.
Вот и моя скрипка.
КАМОЭНС. А я знаю.
МИЛЬТОН. Что?
КАМОЭНС. Ничего. Ой, да ничего особенного. Но смотреть противно. Лучше поиграть. Давай, для разнообразия, первую часть шестнадцатого, опус сто тридцать пять.
МИЛЬТОН. Для разнообразия? То есть все остальное у нас уже от зубов отскакивает.
КАМОЭНС. Честно говоря, я не понял, что это было. Но смотреть противно.
МИЛЬТОН. «Мы репетируем». У меня такое ощущение, что мы совсем зарапортовались с этими репетициями. За такие-то деньги.
АНЖЕЛИКА. С шестьдесят третьей цифры.
ГИЙОМ. Только не это… Ну ладно. Очень хорошо.
Играют какое-то время. Мильтоностанавливается.
КАМОЭНС (тоже прекращая играть).Нам нужен дирижер.
МИЛЬТОН. Я хочу есть. Я хочу есть, в конце концов. Нет! Свои ноты я все сыграл. Я их знаю, вот они, здесь и дальше, а нотная бумага, я считаю, просто обертка для музыки, больше ничего, а музыка, я-то знаю, она тут… (Хлопает себя полбу.)Нет – тут! (Хлопает по скрипке.)Тут. Просто надо сыграть. Не в ящик, не считайте меня идиотом. Музыка тут, в фибрах скрипки, она тут передо мной как лист перед травой, она тут для этого, моя скрипка, моя елочка, в лесу она росла, вот из нее музыка и вылупится. Кто изобрел скрипку, не Бетховен же. А кто изобрел Бетховена? Скрипка, а если не скрипка, то фортепиано, какая разница. Вон там. Он и мы, и фортепиано, все в сборе. Мы не репетируем. Посмотрим завтра, вырастет или нет. Какие проблемы. Так уж повелось, чему суждено проклюнуться, проклюнется. А у тебя альт, так дай ему наклюкаться. Черт. Совесть моя спокойна. Но я хочу есть. Гийом, я хочу есть. Господин Квартет Шизебзиг, я хочу есть. Вот я и жру. Не есть, а жрать, вот точное слово. Так, что тут можно сожрать? Можно и перекусить, если на то пошло, давайте перекусим. Но чтобы перекусить, нужен кусок чего-нибудь. Где мой кусок?
АНЖЕЛИКА (зло). Яприготовила закуску.
КАМОЭНС (так же зло).А ночью я сплю! Сплю. Мне нужно где-то поспать. Соснуть. Уснуть. В детстве я съедал бутерброд и засыпал в виолончели. Наверное, это сказки. В мои годы голод не тетка, но на нее можно закрыть глаза и выспаться на ней. Только где взять эту тетку? Или на худой конец кровать, спальный мешок, спальню с удобствами. В Камбре у меня был гамак перед концертом, а после концерта я в нем уснул, он был весь завален цветами, честное слово. Ну, допустим, пожру я, а где это все? Кровать, гамак, спальня, ванная в ванной комнате? Где, я вас спрашиваю?
МИЛЬТОН. А я вас спрашиваю – когда. (Идет к креслу, садится.)А тут еще сандалии!
Анжелика!
КАМОЭНС. Ох, не судите нашу ударницу, старается как может.
АНЖЕЛИКА. Я никогда ни от кого ничего не скрывала.
КАМОЭНС (ласково).Мы прекрасно знаем, что в Будапеште есть первоклассные квартеты. Два. Как минимум.
МИЛЬТОН. Гийом…
КАМОЭНС. У него зуб болит.
АНЖЕЛИКА. У них и квинтеты есть.
КАМОЭНС. И клиентура. Не в самом Будапеште. На гастролях. Майами. Новая Зеландия.
ГИЙОМ. Я кое-что забыл.
КАМОЭНС. У меня этого нет.
АНЖЕЛИКА (яростно).Играть будем?
МИЛЬТОН. Будем!
КАМОЭНС. Шварц.
Исступленно играют, но их прерывают четыре удара в потолок, раскаты грома, лай собаки, плач младенца.
МИЛЬТОН (прекращает играть).А что вы хотите, у квартета, состоящего из одного альта и трех рогоносцев, ничего не получится.
АНЖЕЛИКА. Думаете, легко играть на альте с тремя рогоносцами?
ГИЙОМ (мрачно).У меня зуб! (Встает, идет к стене и стоит, упершись в нее взглядом.)
КАМОЭНС. Мы просто говорили о передовиках, которые превышают норму, вот и все.
АНЖЕЛИКА. В Будапеште?
ГИЙОМ. Я?
МИЛЬТОН. Он все отлично знал!
АНЖЕЛИКА. Он, во всяком случае, приехал меня встречать на машине в аэропорт. Гийом.
КАМОЭНС. И что?
МИЛЬТОН. Сюда можно добраться только на поезде.
АНЖЕЛИКА. А где садятся в поезд? В аэропорту.
КАМОЭНС. На вокзале.
АНЖЕЛИКА. На вокзале.
МИЛЬТОН. Там, где порт?
АНЖЕЛИКА. Там, где порт.
КАМОЭНС. Ну да, а что? Там, в трехстах километрах.
АНЖЕЛИКА. Ну да.
МИЛЬТОН. Хорошо. Ну да. Все согласны. Итак?
АНЖЕЛИКА. Итак, что?
МИЛЬТОН. Итак, я больше ничего не скажу.
АНЖЕЛИКА. Что касается Будапешта и моего альта, то лучше помолчите, я там даже не играла. Там даже не квартет был, а октет, так-то, и даже не струнный, а октет из деревяшек, банок, бидонов и всяких прочих заморочек – современная музыка во всей своей красе.
ГИЙОМ. Я знаю, дорогая.
МИЛЬТОН. Он все отлично знал.
КАМОЭНС. Гийом! Не делай вид, что смотришь наружу. Мы все давно знаем, что тут нет окна.
Начинается сильный ливень.
ГИЙОМ (по-прежнему глядя в стену).Дождь пошел.
КАМОЭНС. Дождь пошел.
МИЛЬТОН. Дождь пошел. Скажи-ка, Гийом…
Дождь прекращается.
Скажи-ка, Гийом, ты мне деньжат не подкинешь?
Пауза.
Ты же знаешь, что мне не платили с Дунь Плюня.
ГИЙОМ (оборачиваясь).Хватит! Хватит! Хватит! Все всегда из-за меня, все и всегда! И дождь, и вообще. Я не виноват. Ясно! В Дунь Плюне, если хотите знать, мне заплатили в будах. У них там бабки такие, буды.
КАМОЭНС. Одна буда равнялась тысяче тяжелых франков, шести полулегким, девяноста пяти тысячам деревянных. В чем ты еще не виноват, Гийом?
МИЛЬТОН. Вы сейчас услышите, Камоэнс, что буду, оказывается, девальвировали.
ГИЙОМ. Буду не девальвировали. Куда ей. Она не обеспечена золотым стандартом.
КАМОЭНС. Так чем же она обеспечена?
ГИЙОМ. Обеспечена! И все! Она обеспечена будами. От нее не убудет. Буда – это структурно-религиозная валюта. Вот придумали. И к несчастью, местного разлива.
КАМОЭНС. В каком смысле?
ГИЙОМ. В том смысле, что она не экспортируется. Я этого не знал, но я не виноват.
КАМОЭНС. В итоге наши буды остались там.
МИЛЬТОН. А мы, как дураки, вернулись сюда.
КАМОЭНС. Буды там…
МИЛЬТОН. А мы тут – четверка Шизебзигов.
Пауза.
КАМОЭНС. Когда-нибудь франк отомстит за себя.
МИЛЬТОН. Нашу буду не забуду.
КАМОЭНС. Да здравствуют бабки.
МИЛЬТОН. «Религиозная валюта!»
Пауза.
А в Шотландии нам чем заплатили?
ГИЙОМ. Ну… Нам не заплатили.
АНЖЕЛИКА. Гийом…
ГИЙОМ. Да!
АНЖЕЛИКА. Шварц. Бабки.
ГИЙОМ. А, ну да, Шварц, «Бабки». Ну что ж, господа, я понимаю, как трудности с деньгами портят вам настроение. Я думал об этом. У меня тоже есть настроение, не забывайте. Ну да что уж там. Я думал о вас. О будущем. Так вот. Насчет этих гастролей. Я предлагаю вам нечто необычное, и хоть данное нововведение и покажется вам относительно скромным, помните, что это только первый шаг: я предложил месье Шварцу включить в программу, между сто двадцать седьмым опусом Бетховена и его сто тридцатым опусом, одно современное произведение.
КАМОЭНС. Современное? Не наш профиль!
АНЖЕЛИКА. Подождите, Камоэнс! Гийом решил, что мы поделим авторские на четверых, никого не выделяя.
МИЛЬТОН. А автор? Автор… Кто автор? Что! Вашквартет! Ваш, да, Гийом?
КАМОЭНС. В котором виолончель выводит всегда одну и ту же ноту?
Гийом, произнеся последние слова: «современное произведение», – застывает, побледнев.
Потом вертится в разные стороны на табурете. У него явно сильно бьется сердце. Наконец, он снова замирает. Внезапно впадает в ярость, но говорит совершенно больным голосом – астматическим, сиплым.
ГИЙОМ. Ну и ладно! Мы не будем его играть! Вам же хуже! Мы не будем исполнять мой квартет! (Садится в кресло.)
Пауза.
Все удивленно наблюдают за ним. Он с трудом поворачивается к Анжеликеи смотрит на нее с отчаянием в глазах.
Наконец произносит почти угасшим голосом.
Мне его и не хватало, когда я сказал сейчас, что кое-что забыл. Я его потерял. Мой опус номер два.
Пауза. Анжеликаотвернулась. Мильтонсмущен, он не понимает, что говорить и что делать. Молчаливое движение.
Только Камоэнс, не спуская глаз с Гийома, внезапно добродушно восклицает.
КАМОЭНС. А, ну тем лучше. Тем лучше. Как камень с души свалился. Тяжелый, тяжелый камень. Прямо целая виолончель. Вот уж точно. Я доволен. Ах, как я доволен.
По молчаливому согласию снова принимаются играть 1-ю часть 12-го квартета (ор.127). Прерываются.
ВСЕ. Тише.
МИЛЬТОН. Кто тише?
КАМОЭНС. Ты.
АНЖЕЛИКА. Он!
МИЛЬТОН. Я?
КАМОЭНС. Я?
ГИЙОМ. Я? А она?
АНЖЕЛИКА. Я?
КАМОЭНС. Хорошо. Вот начнем сначала, и посмотрим. Два, три, четыре.
Играют. Прекращают играть. Молчат. Мильтончихает.
АНЖЕЛИКА. Тут не так уж холодно.
КАМОЭНС. Огонь бы нам не помешал.
ГИЙОМ. Чтобы да, так нет.
КАМОЭНС. Камин. Тут можно где-нибудь устроить камин?
МИЛЬТОН. И что мы там будем жечь?
КАМОЭНС( простодушно приподнимает виолончель).Дрова. (Идет к комоду, на котором стоит бюст Бетховена, приседает перед ним и говорит.)Вот. ( Поднимает глаза на бюст.)
Странно, в его биографиях упоминают, что у него были карие глаза и очень тонкие волосы, но никогда не пишут, была ли у него собака.
АНЖЕЛИКА. Зачем заводить собаку, когда сам отлично можешь быть собакой.
КАМОЭНС. Или кошка, которая согрела бы нас вместо огня в этом ящике.
МИЛЬТОН. Зато о лошади пишут.
ГИЙОМ. У меня от вас зубы болят. (Отходит и съеживается.)
МИЛЬТОН. У Бетховена была лошадь.
КАМОЭНС. Лошадью не согреешься.
МИЛЬТОН. Знаете, Камоэнс, я так чихнул, для вида.
КАМОЭНС. Тремя кошками в камине, всего тремя, ну пятью, в крайнем случае, если мамаша кошка входит в их число, можно обогреть целую квартиру.
ГИЙОМ. Я тоже знал одну лошадь, я тоже.
АНЖЕЛИКА. И я.
МИЛЬТОН. И я.
КАМОЭНС. И я.
ГИЙОМ. Почему вы вечно сводите меня на нет?
МИЛЬТОН. А что… Может, это была та же самая.
КАМОЭНС. Лошадь.
МИЛЬТОН. Что тут такого?
АНЖЕЛИКА. Он ею не пользовался.
ГИЙОМ. Кто?
МИЛЬТОН. Бетховен?
КАМОЭНС. Лошадью?
АНЖЕЛИКА. Да.
ГИЙОМ. И что дальше?
АНЖЕЛИКА. У меня была лошадка, но она оказалась мне мала. Мне было двенадцать лет, а ей два года, я из нее выросла. Кошки слишком маленькие. Моя лошадка была величиной с трех котят. (Может, чтобы самой согреться?) И я ждала. Она росла. Я тоже, но не так быстро. Все медленнее и медленнее, но тем не менее не настолько, чтобы снова стать совсем маленькой. (Я говорю совсем, потому что «маленький» не поясняет, до какой степени мелкоты остаешься маленьким – мне иногда кажется, я могла бы уместиться на собственной ладони, такая я была маленькая, «уместиться».) А она, на четырех ногах, не двигаясь, далеко обогнав меня по росту, стояла на зеленеющем лугу, так вот она, эта лошадка, в общем-то, почти сразу, тут же, благодаря траве, наверняка которую она поедала, превратилась в драгунского коня. В дракона с драгуном в седле. Это было еще во времена кавалерии. А потом уже танки пошли и прогресс. Конь вернулся с войны один, другана драгуна потерял. В тот день, когда я села на него верхом, он уже состарился. И не двигался с места. Дело было все на том же лугу. Стоял на четырех ногах, но не двигался. Не мог. Казалось, конь растет, до такой степени он не мог двинуться с места. А я все же оседлала своего конька. Но не могла я его ударить. И спустилась. Папа купил мне рожок. Ну, рожок. Потом моего коня съели, продав заблаговременно в мясную лавчонку на Монмартре, красную с золотом.
Отец схоронился почти сразу после. В наше время у детей нет лошадей.
КАМОЭНС. Ни лошадей, ни навоза. Даже шарики и ролики свои они теряют. У меня имелись кошки, но никогда не было лошадей. Даже одной лошади. Имелись – очень громкое слово. «Имелись»! Лошадь заиметь сложнее, чем кошку, наверное, потому что она больше. Как правило, больше самого глагола «иметь», судя по всему. Водились у меня вши, бывало. Бывало, болтали, и чего только люди не придумают, что у меня наличествовали и гонококки.
Смущенное молчание.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ( возвращается, частично переодетый в пшюта).Дерзайте ушки на мушке, мушье, маземуадиль. Слушьте не ушом, а душом. Мьюзик прежде всего. Скрипки держайте слива, а не сбраво. На сердцевине, что так сильно стукает – слышьте вы? – сердцевина и струна (латинизмус) soursoum cordae,под скрипками из натюрельного дерева, ваша сердцевина или струна, душка скрипки, приструните малюсский кусачек древа, и он встрепещнет заедино с вашим сердцом, и струна его тоже трепещнет. И малый по малый, человек интимально трансформанется во что же? В скрипуна, мушье, маземуадиль. Ваша скрипка, вонзая струну вам прямо в сердцевину, воротит душу и метаморфует вас в скрипунов, целиком с ногов до зубей. И всяк, кто хоть раз скрипанет, так и помрает скрипуном в своей скрипке.
Мильтонразворачивает закуску.
КАМОЭНС. Закуска! Анжелика!
МИЛЬТОН. Одни банки, банки и ноты, а где банкноты…
ТИРРИБУЙЕНБОРГ( показывая на бюст).Пример! Бетховен! Людвиг ван Бетховен.
МИЛЬТОН (берет бюст Бетховена).Это бронза. Тоже банка. Знаете, что говорят? Бронзовых бюстов Бетховена наделали очень много. Так вот, считается, что в одном из них замуровали голову Бетховена, настоящую голову Бетховена, которая, кстати, отсутствует в его усыпальнице в Вене, что неподалеку от могилы Шуберта. Там все проверили, откупорили крышки, у Шуберта голова на плечах, а у Бетховена нет. Остается понять, в каком именно бюсте. Может, в этом. Уж больно он тяжелый.
КАМОЭНС. Но звучит глухо.
МИЛЬТОН. С тысяча восемьсот двадцать седьмого года! Глухо, как в яйце. В Японии мне посчастливилось познакомиться с одним яйцом, являвшимся полной противоположностью свежему яйцу. Впрочем, то яйцо на поверку оказалось китайским, ему было больше ста лет, там они выдерживают яйца веками, и сто лет спустя, когда оно превращается в изысканное угощение, какой-нибудь юный мандарин, кому есть на что, ведь стоит оно недешево, покупает такое яйцо и разбивает его. А в нем ничего нет, одна мелкая пыль. Яйцо практически пустое. Пыль является утонченным кушаньем, как говорят, – не знаю, глотают ли ее или нюхают, это не важно, а главное в этой истории – то, что невыеденное яйцо опустошилось само собой. Можно постучать по нему. (Стучит по бронзовому бюсту.)Звучит глухо. Голова, извините за выражение, иссякла внутри яйца. И заметьте, не выходя оттуда.
КАМОЭНС. Сказки. Гайдн говорил, что у него было несколько голов, сердец и душ.
ГИЙОМ. Это правда.
МИЛЬТОН. Наши головы, сердца и души.
КАМОЭНС. Сто тридцать второй!
ГИЙОМ. Часть третья.
АНЖЕЛИКА. Цифра?
МИЛЬТОН. Сто семьдесят.
ГИЙОМ. О нет, только не это… Ну ладно! Очень хорошо.
Играют. Потом один за другим прекращают играть.
Их собственная музыка доносится откуда-то сверху. Смотрят в потолок.
Кто это?
Потом их внимание привлекает другой шум, идущий снизу: это звук, который мы слышим обычно, находясь внутри идущего поезда.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Вы слышьте ухами? Все! Пойыхало! Мы пойыхалы! По лерьсам, по шпарам! Мушье, миземуадиль, вы едите, мы едим, я едю, мы едем, пойыхалы! Поскоку, я вам пояснирен, мы не плываем, это-то ендура, любой бурак может, плюх-блюх по свекле, когда тудою сюдою прилив, отнюдь. Мы идем-едем, Шварцевским мудем, это его дрочки. Пардонайте, дрючки. По лерьсам. По шпарам. Тук-тук. Тук-тук. Ферштейте, френды мои? Шварцевские штучки-дрочки.
Квартет смотрит в пол, потом в потолок, снова в пол, и, наконец, все переглядываются.
Гийомубольно, он встает. Все смотрят на него. Свет постепенно гаснет. Бюст Бетховена и голова Гийомаисчезают, но их образ еще долго остается на сетчатке зрителей, в наступившей кромешной тьме. 15-й квартет (ор. 132) звучит до конца и на протяжении всего антракта.