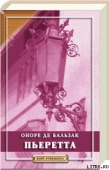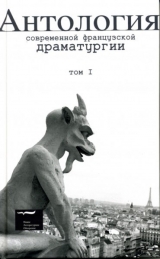
Текст книги "Антология современной французской драматургии.Том 1"
Автор книги: Натали Саррот
Соавторы: Мишель Винавер,Ролан Дюбийар,Робер Пенже,,Катеб Ясин,Жак Одиберти
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Бюст Бетховена исчез. Музыкальные инструменты валяются по углам.
По-прежнему слышен шум идущего поезда. Этажом выше струнный квартет исполняет 3-ю часть 12-го квартета (ор. 127), с такта 150 и дальше.
Слева Мильтони Камоэнс, сидя друг против друга, вроде бы играют в шахматы, но на самом деле передвигают вместо фигур консервные банки.
В кресле Шварца, в профиль к залу, сидит Гийом, исполненный благородства и печали. Анжелика, лицом к публике, вяжет у его ног. Она в халате. Тиррибуйенборг, по-прежнему в костюме пилота, суетится вокруг. Такое впечатление, что он что-то потерял.
Иногда он улыбается.
В процессе поисков он хватает валяющуюся здесь же рукоятку. Но искал он не ее.
Квартет наверху прекращает играть.
КАМОЭНС (жуя, смотрит в потолок).У них перерыв.
МИЛЬТОН. А у нас и гром пропал. Что это такое? (Вертит в руках консервную банку.)
КАМОЭНС. А почему бы погоде вдруг не исправиться? Чем дальше едешь, тем больше надежды на перемену климата.
МИЛЬТОН. Милый мой Камоэнс, могу ли я попробовать камбалы из вашей банки?
КАМОЭНС. Угощайтесь, Мильтон. Воспользуйтесь этим инструментом – цимбалами в консервах; сверхплоской виолой да камба.
МИЛЬТОН. Ну да, банка сверхплоской камбалы, то есть расплющенной цимбалы или плотных пластинок камбалалайки, долгоиграющий стереопаштет.
КАМОЭНС. Камбала закабалит. Вы ее едите, но костей вам не скостят – срок – тюрьма, но – ура, свобода! Переверните ее, будет рыба-соль, фасоль.
МИЛЬТОН. Досоли.
КАМОЭНС. Фасоль?
МИЛЬТОН (на мотив «Марсельезы»),Па-па-па пам. Пам-пам. Досол на спине. Соль без фа. Соль соль соль до, вот вам и кварта. Квартет плавает в гуще музыки, милый мой Камоэнс.
КАМОЭНС. Да. Отдайте мне ключ от соли. Должен вас огорчить, у Шекспира, милый мой Мильтон, каламбуры такого уровня цветут пышным цветом в устах второстепенных персонажей.
МИЛЬТОН. Второстепенная скрипка к вашим услугам. А что в других банках?
КАМОЭНС. Вот банка пива: Анжелика обо всем позаботилась.
МИЛЬТОН. «Беттина».
КАМОЭНС. Умоляю, не подыгрывайте им.
МИЛЬТОН. Я рогат.
КАМОЭНС. Не огорчайтесь. Если он и впредь будет называть ее Беттиной…
МИЛЬТОН. Если она и впредь будет называть его Бетховеном…
КАМОЭНС…я ему скажу, как называю его я, Камоэнс, его, Бетховена, когда слышу, как он, Гийом, играет на скрипке, Шизебзиг.
МИЛЬТОН. Да? И как же вы его называете?
КАМОЭНС. Поживет – услышит.
МИЛЬТОН. Не тяните, Камоэнс, он все-таки глухой. Его приступы длятся недолго.
КАМОЭНС. Как когда. Они случаются, когда он уже выпил рому, но еще не поел креветок либо вследствие душевного потрясения. Плавали – знаем. Но продолжительность их нам неведома, это как когда, зависит от количества рома, числа креветок и силы потрясения.
МИЛЬТОН. Если вы ему ничего не говорите, когда он глохнет, вы ничего ему не скажете, когда он будет играть на скрипке.
КАМОЭНС. Это зависит также от ответственности, которую вы, Мильтон, взваливаете на его плечи, да и я тоже.
ГИЙОМ. Беттина.
КАМОЭНС. Пиво в банке. Как будто можно извлечь музыку из жестяной виолончели. И законсервировать ее там.
МИЛЬТОН. Нас же маринуют в деревянном футляре для скрипки.
КАМОЭНС( мечтательно).Моя виолончель тоже была подбита красным бархатом. Но музыки в ней не было. Ее там нет, внутри, мне ее не вынуть наружу консервным ножом-смычком. Она меня питает, заполняя пространство вокруг, и я погружаюсь и плаваю в ней как эмбрион, музыка. Ни меня в ней, ни ее в виолончели, музыки в смысле. Прозит.
МИЛЬТОН. Он сказал «прозит». И глотнул.
ГИЙОМ. Беттина!
АНЖЕЛИКА. Да.
КАМОЭНС. Почему ты не даешь ему спать?
МИЛЬТОН. Анжелика! Ему надо выспаться.
АНЖЕЛИКА. Но ведь он проснется?
МИЛЬТОН. И что?
АНЖЕЛИКА. И то.
ГИЙОМ. Жозефина!
АНЖЕЛИКА. Да, Люлик, спи спокойно.
ГИЙОМ. Не зови меня Люликом, ты чего.
АНЖЕЛИКА. Конечно, Людвиг ван. Спи.
ГИЙОМ. Я работаю.
АНЖЕЛИКА. Вы его не любите. И все. Вот он проснется, Гийом, тогда и полощите ему мозги.
МИЛЬТОН. Я? А если произойдет утечка?
АНЖЕЛИКА. Второй скрипки.
КАМОЭНС. При чем тут утечки и мозги. Но если ты хочешь сказать, что нам на Гийома, косящего под Гийома, наплевать ровно так же, как на твоего ублюдвига, косящего под Шизебзига в вольтеровском кресле, то да! Ты, возможно, не совсем неправа. Мозгами надо шевелить! А тут, как и там, один сплошной студень.
АНЖЕЛИКА. Мне бы еще хотелось знать, куда мы едем.
КАМОЭНС. Трудно с тобой не согласиться.
АНЖЕЛИКА. Мне говорили о фестивале.
МИЛЬТОН. Мне говорили о гонорарах.
Все смотрят на Гийома.
КАМОЭНС. О гонораре.
МИЛЬТОН. Мне никогда не удавалось пообщаться с человеком, который «должен был бы» быть в курсе.
КАМОЭНС. Анжелика, ты с ним так сжилась, попробуй, разговори его. Когда он соблаговолит выйти из образа Бетховена.
МИЛЬТОН. Либо надо обращаться к кому-то другому… А никакого другого нет кроме того другого нет. Он где?
АНЖЕЛИКА. Его зовут не Шварц.
Тиррибуйенборгпоет.
КАМОЭНС. Вот заливается.
МИЛЬТОН. А что он нам заливает, не ясно.
АНЖЕЛИКА. Хоп!
ВСЕ ТРОЕ ВМЕСТЕ. Хоп!
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Соло! Голо. В этом посмещении пословное заражение голосит: «Майн френд, иф у тебя в башмуке свекла, назначит и башку сношает». Башку или башню? По-фрусски как? Замапятовал.
КАМОЭНС. Видели, что вы сотворили с нашим приятелем? Вот у него с башкой просто бреда. Бреда!
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Пардонте, мушье, маземуадиль, но как у вас говорят сантухники: «Засор, засор»! (Смеется и, не выпуская рукоятки, почти ложится на пианино.)
МИЛЬТОН. Вы думаете, нам следует оставить его на свободе?
КАМОЭНС. Если бы мы понимали, что он мелет, я бы рекомендовал посадить его под замок. И бум по башке, пусть колется. Но овчинка выделки не стоит, будет нести свою ахинею, да и визжать к тому же. Но вообще-то смотреть противно, как он тут снует.
Слышно, как соседи-музыканты начинают играть 4-ю часть Квартета № 13 (ор. 130).
Гийомвстает и хватает гигантский смычок, которого до сих пор никто не замечал.
ГИЙОМ. Беттина!
АНЖЕЛИКА. Бетховен, Люлик мой.
ГИЙОМ. Сейчас увидишь, как я их заткну! (Стучит четыре раза в потолок.)
АНЖЕЛИКА. Конечно, Люлик дорогой.
ГИЙОМ. Замолкли!
Снова стучит четыре раза.
Гремит гром.
Квартет наверху продолжает играть.
Видишь? Ты только послушай, как они молчат.
АНЖЕЛИКА. Тебе-то что, ты ж глухой.
ГИЙОМ. Их не касается, глухой я или нет. Откуда им знать.
Пауза.
Ты меня слушаешь?
АНЖЕЛИКА. Хочешь, я пойду скажу им, чтобы они заткнулись.
ГИЙОМ. Ты! В такое время! В ночной рубашке! Они же! Сексуальные маньяки! Останься здесь, Беттина. Это приказ.
АНЖЕЛИКА. Да я и не собиралась.
ГИЙОМ. Ты их слушаешь. Слышишь. Твои уши, вот одно ухо, голова два уха, я их прекрасно вижу. Равно как и нос посреди лица. Ты слышишь, как они играют. Лицо похоже на мое, и нос посередине – я его узнаю. Он тебе от меня достался, и уши свои ты кое-как скопировала с моих. Целуя меня, ты не можешь произнести ни одной фразы, которая не была бы моей. Иногда я плачу в полном одиночестве! В надежде не выплакать твоих слез. А ты своими ушами слышишь, что они играют, там, на потолке – и почему ты не отвечаешь им? Ну-ка! Где моя палка?..
АНЖЕЛИКА. Возле кресла.
ГИЙОМ. Вот увидишь, как я им отвечу. (Стучит четыре раза в потолок.)
АНЖЕЛИКА. Это тоже Бетховен, а он вряд ли их смутит.
ГИЙОМ. Им хватит ума сообразить, что это другое произведение. (Снова стучит.)
Свет гаснет.
Соседний квартет явно слегка растерялся, но свет постепенно зажигается, и они снова начинают играть.
Беттина.
Пауза.
Беттина.
Пауза. Беттина зевает.
Беттина, ты меня слышишь?
АНЖЕЛИКА. Нет.
ГИЙОМ. Как так «нет»?
АНЖЕЛИКА. Да, мой Людвиг. Спи.
ГИЙОМ. Я не могу спать. Я слушаю. Вспоминаешь?
АНЖЕЛИКА. Что?
ГИЙОМ. Что они играют.
АНЖЕЛИКА. Зачем мне вспоминать? Они и так достаточно громко играют.
ГИЙОМ. Когда я это написал, мне было…
АНЖЕЛИКА. Столько лет, сколько сейчас.
ГИЙОМ. Около того. Пятьдесят три-пятьдесят четыре.
АНЖЕЛИКА. В тысяча восемьсот двадцать четвертом.
ГИЙОМ. Да.
АНЖЕЛИКА. Ты уже оглох к тому времени.
ГИЙОМ. А то. Я глух с тех пор, как…
АНЖЕЛИКА…как я тебя знаю.
ГИЙОМ. Да, вроде того.
АНЖЕЛИКА. «Бетховен!»
ГИЙОМ. Я сочинил это в Вене. Мой приятель князь Голицын заказал мне несколько квартетов. Голицын был приличным скрипачом. Но мало что во мне смыслил. Поэтому, получив от меня опус сто двадцать седьмой, он скорчил недовольную гримасу.
АНЖЕЛИКА. Ты знаешь, какой на дворе год?
ГИЙОМ. Нет. Голицын писал мне письма. Он заказал мне четыре квартета [46]46
Князь Голицын играл на виолончели и заказал Бетховену три квартета.
[Закрыть]. Но ты ж меня знаешь.
АНЖЕЛИКА. Если бы ты, милый Люлик, был на самом деле Бетховеном, тебе бы не пришлось заглядывать в шпаргалки, чтобы рассказать свою жизнь.
Пауза.
ГИЙОМ. Мне жаль тебя.
АНЖЕЛИКА. Тогда лучше спи. Не надо будет меня жалеть.
ГИЙОМ. Когда ты так со мной говоришь, мне хочется заткнуть уши, только и всего.
АНЖЕЛИКА. Так ты глухой или нет?
ГИЙОМ. Глухой. Я никогда не притворялся неглухим. Я слишком горд, чтобы стыдиться своих недугов. Я глух. На оба уха. Только ты не понимаешь, что, поскольку я глух, то, заткнув уши, начинаю что-то слышать. То, чего ты как раз не слышишь, так-то. Передай мне затычки, будь добра.
АНЖЕЛИКА. Вот твои затычки!
ГИЙОМ. Спасибо.
АНЖЕЛИКА. Напоминаю тебе, что ты должен поспать.
ГИЙОМ. Не ори! Я затыкаю уши! Не ори!
Квартет прекращает играть.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ( протягивает Гийому таблетку).Возьмите, мушье. Это пулюля. Пулюля на проглот. Дабы слипинг. Ин дер интерьер дель пулюлюля имаешь барби-дур. Ты ее проглатуешь, и она, подобно мухонькой супмурене, вплувает в интерьер твоего буза-прюха, мушье. И отныне, стоит ей дезинтеграре, чу… барбидур из растаевшой пулюли экспансируется в инсайдном море буза-прюха. Внутренность внутри обнаружается. И отныне ты уже ин зе интерьер сона. Ин зе бед в нутре сона. Соны тебя окутуют как гигант-бидон. Диалектика! – я исчо о том поразмовляю. Примай мою пулюлю еслихош слипать.
АНЖЕЛИКА. Положите свою пулюлю обратно в коробку и оставьте Гийома в покое.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. «Воздержание…» (Снует туда-сюда, стучит в потолок, поднимает крышку немого пианино.)
Соседний квартет берет аккорд, который длится слишком долго, потом захлебывается.
КАМОЭНС (Мильтону).Что?
МИЛЬТОН. Я почти все понял…
КАМОЭНС. Я тоже. Он прогрессирует.
МИЛЬТОН. Бьюсь об заклад, что это квартет завода Рено.
КАМОЭНС. Ту-ту-ту.
МИЛЬТОН. Я узнал его по турку, который держит не саму вторую скрипку, а смычок от второй скрипки, потому как другая его рука попала в брусопильный станок, если точнее – прямо в рожу брата юной брусочницы, той, что трудилась в секторе брусничных консервов недалеко от Бийанкура, а поскольку она все время посылала ему бруснику, именно ему, а не турку, о господи! в результате вышло то, что вы сейчас слышали.
КАМОЭНС. Не хотел бы с вами спорить, у вас еще есть время изменить свою точку зрения. Ешьте.
Квартет снова начинает играть где-то по соседству (ор. 127, 2-я часть, с такта 40 и далее).
Снова здорово.
ГИЙОМ (заткнув уши, выходит на авансцену).Вот.
Беттина! Можешь орать! Она может орать, я ничего не слышу, больше ничего не слышу! Вот так. Теперь ты оглохла. Так тебе и надо.
Свет гаснет. Квартет умолкает. Шум поезда, который уже некоторое время замедляет ход. Он вот-вот остановится.
Ох! Можешь погасить свет! Мне все равно. У меня закрыты глаза.
В полной тишине зажигается свет.
Какой странный голос, когда говоришь с заткнутыми ушами. Как из бронзы. Бронзовый бюст Бетховена – они их стали изготовлять после моей смерти – вещал бы именно так. Значит, я из бронзы. Бим! Бом! Правда, бронзовый бюст не говорит с открытым ртом. Жалко, я не могу изъясняться только носом, подбородком и ушами и бронзовыми волосами. А то бы я, правда, был бы похож на Бетховена. Эй, Беттина!
Не отвечает, не расслышала. Глас глухого в пустыне. Ноги. У меня шевелятся пальцы ног. Спокойно! Ну и шума от ног, когда они скребут пальцами ковер, ногтями то есть. Что твое метро. Я вам спою. (Напевает одно из своих адажио для фортепиано.)
Красиво как.
Но я же не бюст. Доказательство: у бюста ни разу не возникало желания пописать. У меня возникало. Затыкаешь, что можешь, чем имеешь. Рот – бетховенской гримасой, уши – воском… А все остальное! А ноги! Хорошо бы сделать с ногами то, что я произвел с ушами: заткнуть их. Ну-ка! Заткнитесь, ноги мои!
Все впустую. Сейчас я их усыплю, вот что. Гипнотическими пассами. Спите! Спите!.. Глаза, уши, я был бы в полном порядке, если бы не пальцы ног, словно огоньки свободы, загребающие бахрому на ковре… Спите, я так хочу. Когда они уснут… Что такое глухота ноги? Сомнамбулизм – вот что такое глухота ног. Глухой слепой лунатик – мне скоро станет совсем хорошо. Спите!
КАМОЭНС. Ему станет хорошо!
По соседству снова звучит музыка.
ГИЙОМ. Как только мои ноги заснут, мы с ними отправимся на прогулку. А также с глазами и ушами. По-моему, все. Готово! В путь! Беттина, мы пойдем пройдемся! Слышишь, Беттина? Ничего нет лучше затычек в ушах, если хочешь, чтобы жена оглохла. В юности, прежде чем сесть за стол с пером в руке, я долго кружил по городу. (Направляется к двери-вертушке и пытается повернуть ее.)
Кружил. Кружил. (Ощупывает дверь и перегородку.)
Тут все глухо.
Музыка смолкает. Он робко стучит согнутым указательным пальцем.
Глухо.
(Спиной к залу, руки по швам, слабым голосом.)
Будьте добры! Нет, глухо. Не открывается. Жозефина!.. «Жозефина?» Мария! Тереза! Джульетта! Как ее там. Эй! Ау! Бессмертная моя… Что?.. «Что»… «Что» тоже звучит глухо: «что». Не открывается. Все заткнуто.
АНЖЕЛИКА. Гийом! Гийом! Гийом!..
(Такое впечатление, что он на самом деле оглох. Он снова садится в кресло, в профиль к залу.)
Анжелика, с вечерним платьем в руке, подходит к Тиррибуйенборгу. Она в ярости.
Эй вы, послушайте! Дверь не открывается. Мы несемся по рельсам со скоростью сто километров в час. Я взяла платье. Мы все тут не в себе. ( Внезапно спохватывается.)Мы больше не едем. Что значит, месье Шварц: «мы остановились», месье Шварц, месье Тиррибуйенборг. У меня вот платье на завтрашний вечер. Я должна работать профессионально! Музыка. Мы продаем музыку, причем хорошую музыку, со знаком качества – лейблом – вашего бюста! Платье у меня тоже фирменное. И я надену его. А теперь, месье Тиррибуйенборг, откройте, наконец, рот. (Замахивается на него смычком.)Может, теперь, раз уж мы стоим, вы скажете, куда мы едем?
КАМОЭНС (с упреком).Анжелика!
МИЛЬТОН( так же).Беттина!
АНЖЕЛИКА. Что?
КАМОЭНС. Выпей с нами стаканчик божоле из банки, это Бетховен разлива тысяча восемьсот двадцать пятого года.
АНЖЕЛИКА. Сейчас платье надену. (Исчезает за перегородкой.)
А в это время:
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Я нипричему! Нипричему! Я бы предпочтирен утканутца нусом в свеклу и вы туда-сюда носоми в свеклу и в кляксоть! Блювать! Блювать я хутел на Шварца! Мы же едаем! Едаем! Отвечатсвенность! Отвечатсвенность на майн плеч. Черт побирай, да слушьте же! Разуньте уши! Наша херновина уже не марширен, и не шпарит отсель по шпарам, а стопстендинг и алла погружалла в протоки муря. Плюх! Может, пакбыт? Пак же быть, я вас аскинг. Вот рукоять.
КАМОЭНС. Мильтон… Яйцо хотите?
МИЛЬТОН. Из банки?
КАМОЭНС. Из банки, взгляните. «Яйцо с гарантией живости, сваренное в собственном соку внутри своей личной курицы».
МИЛЬТОН. Яйцо.
КАМОЭНС. Вкрутую.
МИЛЬТОН. Куда же я дел омара?
КАМОЭНС. Круто закручено, не открыть. Надо разбить целехонькую скорлупу, но сначала разрезать курицу, а до курицы – открыть банку. Это с понтом крутое яйцо. Раскрученный выкрутас.
МИЛЬТОН. Позвольте предложить вам в обмен банку с омаром в форме омара – своеобразная застежка-молния, приводимая в действие ключом, снимает с омара банку, а потом при помощи щипцов для колки орехов, упакованных в отдельный футлярчик, вам не возбраняется избавить его от панциря и обнажить омара, как белую женщину. Ура, свобода.
Анжеликавозвращается в вечернем платье.
КАМОЭНС. У меня была черная скрипка, где она? Из кости белого кита. Вы сменили платье и теперь черным-черны, Беттина. Как имя поменяли, да, Бетти-Анж?
АНЖЕЛИКА. Гийом! Люлик!
КАМОЭНС (вертит в руках яйцо).Яйцо. Что-то мне это напоминает. Нет ничего тревожнее яйца, и знаете почему?
МИЛЬТОН. Нет.
КАМОЭНС. Это существо знает, что главное ему еще предстоит совершить. Ой, да ведь мы вам не сказали, Мильтон!
МИЛЬТОН. Что?
КАМОЭНС(с яйцом).Вы выходили. В дверь, которая не открывается. Вы вышли.
МИЛЬТОН. Я всегда выхожу, когда не могу выйти. А так нет.
КАМОЭНС. Вход. Выход. И будьте уверены, вы оставляете внутри следы!
МИЛЬТОН. «Мне же не сказали». Что?
КАМОЭНС. Просто Беттина тоже. Ну не то чтобы яйцо, но у нее есть некое предвкушение цыпленка, внутри.
МИЛЬТОН. Платья?
КАМОЭНС. Ну, платья, допустим, семь одежек и все без застежек.
МИЛЬТОН. Ну, понятно, кожи, а дальше что! Какие еще застежки?
КАМОЭНС. В одном потайном месте. Догадайтесь.
В полной тишине.
ГИЙОМ. Беттина!
МИЛЬТОН. От кого?
КАМОЭНС. Хороший вопрос.
АНЖЕЛИКА. «От кого!» Камоэнс!
КАМОЭНС. От меня?
АНЖЕЛИКА. Как бы мы хотели, если бы могли (чья эта музыка, кстати?) сделать его вместе. Но Камоэнс завел свою пластинку, «мы слишком старые», он сам мне сказал. Слишком старые. У него появилось брюшко, он играет на виолончели, на скрипке с наросшим брюшком.
Но музыку я бы напрасно тут искала – в этом квартете только я люблю музыку.
Гийом Шизебзиг играет на первой скрипке, только когда иначе поступить не может, обезумев от неведомого ружья, которое где-то висит и грозится в него выстрелить. Он трусит. Взгляните на него.
Мильтон? Мильтон, почему ты стал скрипачом?
МИЛЬТОН. Из-за папы.
АНЖЕЛИКА. Ты играешь лучше меня! Ты играешь лучше всех, ты самый одаренный из нас, но это из-за мамы. «Одаренный!»
МИЛЬТОН. Из-за папы. Из-за родителей. Они вместе воспитали меня ради нее, ради скрипки. Родители.
АНЖЕЛИКА. Мама вырастила из тебя скрипку.
МИЛЬТОН. Да, из меня растили скрипку. Лабораторную скрипку. Я сидел на специальной диете, чтобы стать скрипкой, остаться скрипкой и не растолстеть скрипкой. У меня был скрипичный врач, врач по скрипкам, что-то вроде вьюна, обвивавшего скрипку. А я увивался за скрипкой. Но проблема в том, что, когда мне исполнилось восемнадцать лет, все исчезли: папа, мама, врач. Я остался скрипкой один-одинешенек в своем футляре, как дурак.
АНЖЕЛИКА. Скрипка по происхождению.
МИЛЬТОН. Нет!.. Родители мои не были скрипками. Но мама-то любила скрипку. Мама. Отец же изготовлял угольные печи, из чугуна, небольшими комплектами по шесть – восемь печек, около Бар-ле-Дюка, на заводике, которым управлял он сам. Умер, разорившись.
АНЖЕЛИКА. Я сама купила себе альт.
МИЛЬТОН. Я остался один на один со скрипкой в Бар-ле-Дюке. Никто не хотел верить, что я умею играть на скрипке. Только мама была в курсе, а она исчезла: второй или третий побег, уже не поймешь, с тех пор как ее побег длится. Только мы ее и видели.
АНЖЕЛИКА. А я сама держу свой альт.
МИЛЬТОН. Но я сам-то о музыке уже вообще не думал!
«Сама»! Вот тут тебя зашкаливает! «Музыка»! «Сам».
Сам! Впрочем, я сам не больше, чем кто-либо другой, считал себя скрипачом. Пустыня! Мне нужно было озарение! Я об этом вообще не думал, я искал в другом месте, везде, повсюду, кем быть. Я смотрелся в зеркало, держа скрипку за гриф, и говорил себе: почему бы тебе не стать чемпионом по теннису. Но моя мама не уродилась матерью чемпиона по теннису.
АНЖЕЛИКА. Так ты с мамой, значит, музицируешь.
МИЛЬТОН. Ох! Как-то раз я познакомился с Вивианой, она играла на поперечной флейте! Вивиана сказала мне таким тоном, каким человека предупреждают, что у него пятно мазута на носу, а он и не подозревал: «Прошу прощения, месье, но мне кажется, у вас настоящий дар скрипача». «Дар». Его не сотрешь носовым платком как пятно.
А то! Я был одарен. Одарен всем тем, что должно быть присуще великому скрипачу. Но это меня не увлекает.
Я бы хотел предпочесть другую профессию, которая бы хоть чуть-чуть увлекла меня. Но я ничего не предпочитаю. Играть в карты мне скучно. Мне все скучно.
Не знаю, для кого я так хорошо играю на скрипке, Анжелика, но могу вас уверить, что не для себя любимого.
АНЖЕЛИКА. Ты уже даже об этом не задумываешься, тебе не нужно делать никаких усилий, чтобы хорошо играть, ты даже не отдаешь себе отчета в том, что играешь на скрипке. Ты даже не помнишь, что был моим любовником на той неделе. Камоэнсу, по крайней мере, еще хочется плакать при мысли, что вот уже месяц как он перестал им быть, а его виолончель – туды ее в качель! Что касается Гийома, то мысль о том, что он был моим любовником вчера и сегодня утром, оказывает на него то же действие, что и все остальное, – он пугается.
Я – другое дело: мне важен только мой альт. Где он? Мой альт? (Идет за ним.) Яприехала сюда, чтобы продать музыку, и я ее продам. Вперед, ребята! ( Смотрит на Тиррибуйенборга.)Что вы делаете?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Ее заткнуло, майн турбу. Исчу свой перебор. Навигальный перебор.
КАМОЭНС. Кому ты собираешься продать свою музыку?
АНЖЕЛИКА. Альт-то? Я уже в раннем детстве выбрала альт. (Камоэнсу.)Посмотри на меня. (Размахивает альтом как ракеткой.)
ГИЙОМ (погружен в себя).Беттина.
АНЖЕЛИКА( Мильтону, по-детски).Ну, ты? Хочешь, двину тебе по роже? Слабо, да? Больно будет. Возьми свою скрипку. Попробуй сделать ею больно! Куда ей! Ударившись о голову, она разлетится на куски, а голова слишком велика, чтобы проломить ее. Ха! Тогда как удар, нанесенный альтом, столь же непринужден, сколь эффективен.
КАМОЭНС. А виолончель…
АНЖЕЛИКА. Тяжеловата будет. Ею неудобно атаковать. Ее сразу видно. И даже в смысле обороны рентабельность виолончели – сильно так себе…
МИЛЬТОН. С музыкальной точки зрения, «буме» лучше всего сделать большим барабаном и даже любым там-тамчиком.
АНЖЕЛИКА. Я сказала «в раннем детстве». А позже я поняла. И никогда не пользовалась альтом, чтобы бить по головам, а уж голов, которые хотели мне повредить, было хоть отбавляй. В детстве, я сказала, мне хотелось иметьальт…. (Потрясает им.)И вот он у меня есть. Потом я поняла, что значит не иметь, а бытьальтом. И я стала им. Альтом. Да, Будапешт, как вы говорите, и деньги, так что ж – альт большая редкость. Назовите мне имя знаменитого альтиста, или хотя бы известного. Я редкая альтистка. Даже в квартете, где две скрипки, второго альта нет, альт ни перед кем не обязан отчитываться. Он одинок и застенчив. Да, альту не достается славы, но и безработица ему не грозит. А что еще, по-вашему, мне делать в жизни?
КАМОЭНС. «С кем!»
АНЖЕЛИКА. Что?
КАМОЭНС. «С кем». Ты начала свою речь, сказав «с кем».
АНЖЕЛИКА( съежившись, сидя лицом к залу).С альтом.
Мужики! Ну не «с мужиками» же, непонятно, что ли. (Снова съежившись.)
А он… он как будто у меня в альте. Как-то раз мы задумались: где эта пчелка? Ее слышно было повсюду, а мед находился в другом месте. Горшочек с медом, вон там. А жужжание доносилось отовсюду. ( Она щиплет и отпускает струну, осматривается.)
Отовсюду. Пчелке не удавалось вылететь из этой большой деревянной коробки, и чем больше она металась внутри, пытаясь выбраться наружу, тем громче слышалось отовсюду ее жужжание. Она внутри, а звук, казалось, возвращался снаружи усиленным. Как… ( Она снова щиплет и отпускает струну.)…вот эта нота сначала осядет на стенах, потом оттолкнется от них, потрется о потолок и вернется, она окутает меня, сверху, издалека, и вернется сюда, в деревянный корпус моего альта, и зазвучит пленницей в моих руках… Пчелка.
МИЛЬТОН. «От кого» пчелка-то?
КАМОЭНС. Мы о чем – о музыке, бабках или отцовстве?
ГИЙОМ (одиноко).Беттина!
АНЖЕЛИКА. «От кого». Вы еще спрашиваете. Ну что ж, выбирайте, чего уж тут. Вас много, а я одна. Бабки, да, если уж я соглашусь от чего-то зависеть, пусть уж это будет хорошая заначка! Которую я сама и заначу. Но ни от кого из вас троих, вас четверых, ни от одного из восьмерых участников октета Остенде, ни от одного лабуха из сорока симфонических оркестров, которые рады пригласить меня как альтистку, – я ни за что не буду зависеть!
Что касается долгой и счастливой жизни с тремя мужиками, благодарю покорно! Не люби, где работаешь. А то хлопот не оберешься! Меня бы присвоили, на себя б у меня не осталось. Вот я и решила, что из нашей бывшей четверки лучше буду страдать не я, а трое рогоносцев.
А если их не трое, а больше, тем лучше. Вот вам ваша правда. Получили.
ГИЙОМ (издалека).Беттина.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Извините, маземуадиль…
АНЖЕЛИКА. Нет, вы только на это посмотрите! ( Смотрит на Камоэнса.)И на это! ( Смотрит на Мильтона.)А на это! ( Показывает на Тиррибуйенборга.)Нет, дети мои, скажите мне на милость, как я могу такое полюбить! Как я могу полюбить хоть одного мужика! Кого из четверых?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Вы часом не видали мой перебор?
АНЖЕЛИКА( садясь к нему на колени).Мсье как вас там меня звать Беттина я ищу настоящего мужика, его вроде зовут Бетховен это мой далекий друг и возлюбленный он ищет он уехал он потерял свое имя потерял племянника скажите не в вас ли его я найду внутри тебя твоего роскошного костюма он черен как туча может ему удастся расстегнуть мою молнию своей грозой или молнией твоей застежки скажи тебя случайно зовут не Людвиг ван?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Нет, меня зовут Эмиль. Вольфганг Амадей Эмиль Тиррибуйенборг.
АНЖЕЛИКА. Композитор чего?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Композитор ничего, композитор путешествий, или маршрута, и опять же нет, это Шварц, а я исполнитель. Я шофер, миземуадиль, шофер его превосходительства Монсиньора князя нашего княжества.
АНЖЕЛИКА. Ерунда!
МИЛЬТОН. Смотрите, он заговорил по-человечески!
КАМОЭНС. И что он сказал? Я не расслышал.
МИЛЬТОН. Не знаю. Я не обратил внимания.
АНЖЕЛИКА (Гийому).Но ты, если б твоя фамилия была Бетховен, я бы тебе сказала, что ты урод.
ГИЙОМ. Уродство – это вопрос эпохи. Позже сочтут, что я был очень ничего себе.
АНЖЕЛИКА. В бронзе! Твой бюст! Твоя заначка, Бетховен! Ну а я думаю о своей заначке, она меня ждет не дождется. Мой альт – моя заначка, заначка моего альта. Все свое ношу в себе.
Что касается другой, мелкой заначки, которую кто-то из этих господ припрятал в один прекрасный день глубоко в моем нутре, то я тоже согласна, чтобы она мне принадлежала. Буду зависеть от своего бебика.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ (сидя).Только пардоньте, моя потеряла перебор.
МИЛЬТОН. Камоэнс…
КАМОЭНС (Тиррибуйенборгу).Вы потеряли перебор?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Subito.Вдруг сказал себе «перебор», где ты, где майн перебор, где часы мой тритон цифроблатной, оно лежало под – как его – короче, под моей тут, перебор моя…
МИЛЬТОН. Какой такой перебор.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Навигальный.
КАМОЭНС. А кто тут плавает?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Все про все. Он тут был под моей…
МИЛЬТОН. Так мы что, плывем?
КАМОЭНС. Куда это?
МИЛЬТОН. И на чем?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Вот это сказать сверх моих сил. Без перебора.
КАМОЭНС. Мильтон!
МИЛЬТОН. Сейчас мы его расколем.
КАМОЭНС. А как раскалывают людей, Мильтон?
МИЛЬТОН. Для начала засуньте ему кляп. Я его свяжу.
КАМОЭНС. Где твой навигальный перебор?
ТИРРИБУЙЕНБОРГ( пока его связывают).Я тут нипричему: где мой перебор, она был под моей… Я ее нахожал! Она был под моей засадницей, мушье! Мушье, мой перебор! Так-то она и сиюминутно там! Под моей засадницей! Я на ей ситдаун!
КАМОЭНС. Что будем делать?
МИЛЬТОН. Все равно вставьте ему кляп! Вот его навигационный прибор! (Берет чемоданчик и заканчивает связывать Тиррибуйенборга.)
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Бдыщ! Шварц! Бдыщ!
КАМОЭНС. И что?
МИЛЬТОН. Что такое навигационный прибор?
КАМОЭНС. Покажите-ка.
МИЛЬТОН. Я бы назвал это сельдью в бочке.
КАМОЭНС. Конфисковано. (Мильтону.)Даем вам время на размышление, молодой человек.
МИЛЬТОН. Хочу отметить, что мало кто сведущ в навигации так, как сельди.
КАМОЭНС. Вы даете ему время на размышление?
МИЛЬТОН. Даю.
КАМОЭНС. Славный вы юноша, Мильтон. Я бы дал ему сдохнуть.
Садятся за стол.
ТИРРИБУЙЕНБОРГ. Я задыхаюсь.
КАМОЭНС. Ну и задыхайтесь. Нам некогда.
ГИЙОМ (задыхаясь).Я задыхаюсь! Хольц, Шиндлер! Вегелер! Доктор Ваврух! Я задыхаюсь! У меня вздулся низ живота! Мне нужно сделать пункцию, восьмого января тысяча восемьсот двадцать седьмого года. Пункцию здесь, где я задыхаюсь! В этом ламентарии! Кренн! Его звали Мишель Кренн – Кренн. Здесь нельзя оставаться. ( Тиррибуйенборгу.)Кренн, это вы? Послушайте, старина. Я вкладываю кое-что в свою музыку, но меня самого никуда не вложишь. Можно, разве что, отлить в бронзе, но позже. Когда отдам концы. В Вене меня искали по всем комнатам, но не тут-то было, я всегда оказывался в соседней – за три года – почитайте Ромена Роллана – сорок комнат я нанизал, как нитка жемчужного ожерелья, из первой во вторую, из второй в третью, из третьей и так далее до тридцать девятой, выйдя из которой я второго декабря проскользнул в последнюю, и там и умер. На Шварцпаниер-штрассе.И все это ради кого? Карла, моего племянника! Мне не надо было возвращаться из деревни. Проскальзывать свечкой в очко темного ларчика, откуда я так и не вылез. Войти и выйти, только на это и был способен мой племянник Карл. Он выходил от меня, входил к матери. (Жест скрипача.)Туда-сюда, туда-сюда.
Карл! Мой племянник. Его мать Иоганна была просто шлюхой, Марией-Магдалиной! Он входил к ней, выйдя от меня, сидя меж двух стульев в пустоте, и в том, что он себя убил – два пистолета, один для мамы, другой для дядюшки, каждому в ухо – пиф-паф, – я не виноват, – меня отец таскал с возраста Карла, с девяти лет, как ученую обезьянку, по оркестровым ямам, я не виноват, что Карлу не нравилось, что я не умею жить, – но я его любил как самого себя в девять лет – так что если он себя убил…
АНЖЕЛИКА. Приехали…
ГИЙОМ. Он себя убил, но не умер. Один из пистолетов дал осечку, тот, что предназначался матери-шлюхе, либо тот, что он определил мне, своему дядюшке, с порохом и пулей. Он от этого не умер. Он не попал в себя. Умер? Умер я. Он пусть живет своей жизнью, хоть тут, хоть там, он не умер.
Да и вы тоже не умерли. Никто из всех вас, никогда. Мы живем в жанре историй. Чтобы мне досадить. Наплести мне всякого. Но я и так знаю! Умер из нас только один человек. И этот покойник – я.
Только если я умер здесь, мне надо сообщить об этом. Мне тут не нравится. Я ухожу. Здесь все красное. (Отворачивается.)
МИЛЬТОН. Интересно, откуда он все это берет.
КАМОЭНС (встает).Вдохновение.
МИЛЬТОН. Я понимаю, музыка музыкой, но коль скоро саксофон похож на кран, его надо закрутить, заткнуть фонтан.
КАМОЭНС (подходит к Тиррибуйенборгу).Вы слышите, эй! Знаете, что такое кран? (Смотрит в небо.)«На дню мирском»! Здесь только крана не хватало. Текущего крана. В этой бочке. (Мильтону.)Почему вы заговорили о вдохновении?
МИЛЬТОН. Я? Просто задумался, откуда у Бетховена такие мысли.
ГИЙОМ. «Мои музыкальные идеи приходят ко мне внезапно. Я мог бы ухватить их руками. Я гуляю по холмам с листком бумаги в руке».