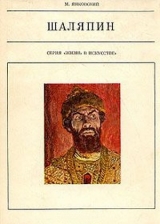
Текст книги "Шаляпин"
Автор книги: Моисей Янковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Давая объяснения репортерам по поводу этого инцидента, Шаляпин рассказывал:
«На репетиции „Русалки“ я установил темпы для дирижера г. Авранека, на спектакле же г. Авранек стал замедлять их все время. По окончании первого акта в режиссерской собрались режиссер, г. Авранек и я. Я обратился к Авранеку и сделал ему замечание относительно темпов. Г. Авранек ответил, что он идет за певцами; замедляла темп г-жа Балановская, и за нею должен был замедлять темп и он. На это я ему ответил, что темпы были, во-первых, установлены, а во-вторых, певцы идут за дирижером, а не дирижер за певцами. При этом я тут же заявил исправляющему обязанности управляющего конторой г. Обухову, что служить и петь в Большом театре не буду, пошел в уборную, разделся и уехал домой. Конечно, было налицо и известное раздражение. Домой приехали ко мне гг. Нелидов и режиссер Шкафер и стали меня успокаивать и доказывать, что публика не виновата, она дежурила ночь, чтобы послушать меня. Я, успокоившись немного, оделся, поехал в театр и докончил спектакль».
Вездесущий репортер повидался и с Авранеком, который находился в состоянии полного недоумения. Шаляпин еще недавно утверждал, что будет петь только с ним. «Вообще, я не могу не заметить, – добавил он, – что Ф. Шаляпин в этот приезд ведет себя особенно странно. Страшно нервничает, мешается не в свое дело, всем делает замечания и вообще ведет себя прямо неприлично. Я не помню такого случая, чтобы артист, как бы он ни был гениален, делал со сцены замечания дирижеру, дирижировал бы сам со сцепы, указывал бы артистам темпы и т. п.»
Авранек заявил, что впредь отказывается вести спектакли с участием Шаляпина. Из солидарности к этому решению присоединился и другой дирижер – замечательный музыкант Вячеслав Сук.
Инцидент разрастался, особенно после того, как о нем заговорила вся московская пресса, а вслед за нею и столичная. Шаляпин сообщил начальству, что в императорских театрах петь больше не будет и намерен расторгнуть контракт.
А газета «Раннее утро» уже поспешила со стихотворным фельетоном, где на мотив цыганского романса герой скандала пел:
Захочу – так пою.
Захочу – наплюю,
Я один на свете бас,
Самому себе указ!
Не останавливаясь на подробностях этого конфликта, скажу только, что по требованию Шаляпина из Петербурга приехал молодой талантливый дирижер англичанин Альберт Коутс, который через день вел очередной спектакль с участием Шаляпина – «Фауст». После уговоров, в которых принимал непосредственное участие Теляковский, Шаляпин передумал: он не расторгнет договора, но, так как московские дирижеры объявили ему бойкот, он требует, чтобы последующие спектакли вели дирижеры из Петербурга.
Газеты наперебой выступали против Шаляпина, в стихах и прозе высмеивали «зазнавшегося баса». Но вот Альберт Коутс провел спектакль «Фауст». И газеты должны были признать, не высказывая этого прямо, что Шаляпин был прав. Газета «Русское слово», до того изощрявшаяся в нападках на Шаляпина, теперь писала:
«Новый дирижер – г. Коутс – еще совсем молодой человек, в нем много молодого задора. Под его отважной палочкой весь старик „Фауст“ „помолодел“ так, как он молодеет по мановению Мефистофеля. Все традиции были повергнуты, и темпы дерзко ускорены. Волей-неволей пришлось проснуться всем. А Мефистофель – Шаляпин, бывший на редкость в ударе, так зажег публику, что она не дала ему спеть ни одного сольного номера без повторений!..»
Каков же итог этого непривлекательного скандала? По существу, Шаляпин был прав: давно не пересматриваемый спектакль увял, и дирижер не ощущал этого. Шаляпин не мог свыкнуться с тем, что старые спектакли не обновляются, что они ветшают. И высказал это в форме, которая была явно недопустимой, хотя в основе его протеста лежали справедливые художественные требования.
Творчески он был прав!
В результате этой истории было решено, что Шаляпин возьмет на себя режиссуру спектаклей, в которых занят, и за режиссерский уровень этих спектаклей теперь будет отвечать он. Была ликвидирована должность главного дирижера, равно как и главного режиссера. По сути, инцидент с «Русалкой» привел к осуждению застойного руководства, которое в ту пору мешало поднятию уровня спектаклей.
Интересная подробность. Спустя три дня снова шел «Фауст» с Шаляпиным. На сей раз дирижировал не Коутс, а другой петербургский дирижер – Эмиль Купер.
И то же «Русское слово» писало: «Конечно, с такой заигранной оперой, как „Фауст“, нельзя сделать ничего особенного в одну репетицию, но темперамент и твердая рука г. Купера все-таки сказались, и весь спектакль прошел с известным подъемом. Крупного изменения в оттенках исполнения сделать было нельзя, но темпы изменились довольно чувствительно, большей частью в смысле более живого движения в местах, которые обычно исполняются слишком тягуче».
Так закончился инцидент в Большом театре. Но вот прошло всего два месяца, и снова страницы газет запестрели описанием еще одного скандала. На сей раз это произошло в Мариинском театре с дирижером Феликсом Блуменфельдом, который принадлежал к числу близких друзей артиста. На спектакле «Князь Игорь», опять-таки из-за нарушения темпов, Шаляпин в антракте в чрезвычайно резкой форме высказал свое недовольство дирижером. Блуменфельд настолько разнервничался, что был не в состоянии дирижировать дальше. Стоял вопрос о прекращении спектакля. К счастью, в театре случайно оказался другой дирижер, который довел «Князя Игоря» до конца.
Это случилось в декабре 1910 года, а через месяц, в январе 1911 года, произошло событие, которое нашло шумный отклик буквально во всей русской прессе, а немедленно за тем в зарубежной.
6 января состоялось первое представление «Бориса Годунова» в постановке Вс. Мейерхольда. На спектакль приехал царь с вдовствующей императрицей, великие князья и большая свита. Газета «Россия» напечатала следующее сообщение:
«6 января в Мариинском театре, на первом представлении оперы Мусоргского „Борис Годунов“, произошло беспримерное в истории театра событие. После картины в тереме, среди публики, переполнившей театр, стали слышаться голоса, требовавшие исполнения народного гимна. Поднялся занавес, и хор, имея во главе солистов, в том числе солиста его величества Ф. И. Шаляпина, стоя на коленях, трижды исполнил гимн. Подоспел оркестр, и хор еще два раза вместе с ним исполнил гимн. Гремело „ура“».
Этот эпизод произвел тягостное впечатление на прогрессивные слои русского общества. Недавняя «Дубинушка» – и вдруг поведение, которое сразу получило крылатое лаконичное название – «коленопреклонение».
На самом деле участие Шаляпина в исполнении гимна на коленях не носило преднамеренного характера. Он был застигнут врасплох ситуацией, которую не мог предвидеть. Дело в том, что хористы Мариинского театра уже давно и безуспешно добивались повышения жалованья и вообще улучшения материального положения. Все их ходатайства не получали удовлетворения. Тогда между ними было решено, что, когда в театре появится царь, они обратятся непосредственно к нему.
На премьере «Бориса Годунова», после сцены в тереме, хор неожиданно вышел на сцену и столь же неожиданно, упав на колени, начал петь гимн, несмотря на отсутствие оркестра, который в эту минуту покинул свои места, так как должен был начаться антракт. Шаляпин услышал пение. Не понимая, что происходит на сцене, он вышел из-за кулис и увидел, что хор стоит на коленях и поет. Раз он оказался на сцене в такую минуту, он уже не смог ни оставаться стоя, ни покинуть сцену. В ту минуту, по всей вероятности, он не соображал, что делает. Следует при этом подчеркнуть, что коленопреклоненное исполнение гимна – вообще факт беспримерный, никогда до того не имевший места.
Оркестранты, услышав пение гимна, вернулись на свои места, и пение повторилось, теперь в сопровождении оркестра.
Характерно, что администрацией казенных театров это самовольное исполнение хором гимна было расценено как серьезный проступок, как явное нарушение дисциплины. И лишь то, что царь остался доволен «выраженными чувствами», спасло от взысканий.
История с «коленопреклонением» облетела всю русскую прессу, причем бульварная печать не преминула стать на путь прямых домыслов и клеветы на артиста. Приведу лишь один пример. В газете «Столичная молва» уже после отъезда Шаляпина за границу (а он уехал через день после случившегося) было помещено следующее «интервью», якобы данное им репортеру: «Это вышло как-то само собой. Это был патриотический порыв, охвативший меня, захвативший мою душу и увлекший меня впереди хора! Перед царской ложей при виде государя в душе моей был восторг и в порыве я увлек весь хор на колени. Это было стихийное движение русской души. Ведь я – русский мужик и при виде своего государя не мог сдержать своего душевного порыва. Этот момент останется на всю жизнь запечатленным в моей душе. Я не скрою еще, что у меня была мысль просить за моего лучшего друга, за М. Горького – просить милости для него. Но об этом я умолчу, это – мое личное дело».
Фальшивка была перепечатана некоторыми газетами. Более того, появилось сообщение, что Шаляпин обратился с письмом к Союзу русского народа! Узнав об этом, Шаляпин в беседе с корреспондентами двух французских газет рассказал, как на самом деле все произошло. Его беседы были перепечатаны газетой «Раннее утро». В результате редактор «Раннего утра» был привлечен к ответственности «за дерзостное неуважение к верховной власти». Можно с уверенностью сказать, что всякая попытка Шаляпина рассказать правду о «коленопреклонении» была бы пресечена.
Таким образом, истинная подоплека «коленопреклонения» была не такой, какой она представлялась из зрительного зала. Это был скорее – «несчастный случай».
Однако он был расценен по-иному. Событие как бы перечеркнуло многое в биографии певца. Его поведение в недавние революционные годы стало восприниматься по-иному: становилось неясным, когда же он был искренним – в 1905 году или в 1911-м.
Общеизвестна переписка Шаляпина и Горького по этому поводу, известно и то, что Горький, зная подробности конфузного дела, не осудил Шаляпина, а пожалел его. Он понимал, что Шаляпина нужно мерить иным аршином – как художника, а не как политического деятеля, так как к последнему амплуа Шаляпин начисто не приспособлен. Он писал Шаляпину:
«И люблю и уважаю я тебя не меньше, чем всегда любил и уважал; знаю я, что в душе – ты честный человек, к холопству – не способен, но ты нелепый русский человек и – много раз я говорил тебе это! – не знаешь своей настоящей цены, великой цены.
Нестерпимо, до слез больно мне за тебя, много думаю – как бы помочь, чем? И не вижу, чувствую себя бессильным.
Не умно ты сделал, что сразу же после этой истории не поехал ко мне или не объяснил условий, при коих она разыгралась, – знай я все с твоих слов, – веря тебе, я бы что-нибудь сделал, чтоб заткнуть пасти твоих судей.
А теперь придется выжидать время […]».
Теляковский, которому, как директору императорских театров, довелось распутать эту нашумевшую историю, начавшуюся с «проступка» хора, точно описал события так, как они происходили в действительности. Но, выступая в защиту певца, Теляковский опустил одно существенное звено, которое, как психологическая краска, объясняет кое-что в этом эпизоде.
Как известно читателю, за несколько месяцев до того Шаляпин получил звание «солиста его величества», которого он настойчиво добивался. По существовавшему порядку награжденные высшими орденами, высокими званиями или получившие крупные посты представлялись царю, чтобы выразить ему благодарность.
Так вот, именно в день премьеры «Бориса Годунова», 6 января 1911 года, Шаляпин представлялся Николаю Второму. Быть может, во время свидания он даже просил царя вечером приехать в Мариинский театр на премьеру.
Днем он благодарил царя, а вечером перед ним встала проблема выбора: как поступить? Уйти со сцены и тем самым вызвать обязательный скандал или присоединиться к хору? Надо думать, что в тот вечер он психологически был в большей мере «солистом его величества», чем «свободным художником». И он стал на колени…
Через два дня, находясь в тяжелом душевном состоянии, Шаляпин уехал за границу, чтобы выступать в Монте-Карло. Но заграничная печать уже оповестила читателей о том, что произошло в Мариинском театре. На одной из станций, возле Ниццы, группа русской молодежи, ехавшая тем же поездом, устроила Шаляпину обструкцию. А на следующей станции, Вилльфранш, обструкция была продолжена и завершилась даже потасовкой – певцу мстили за «коленопреклонение». И этот казус обошел всю европейскую печать.
Рассвирепевший, уже не владеющий собой Шаляпин поспешил сообщить иностранным репортерам, что рассматривает нападение как покушение русских анархистов на его жизнь, чем еще больше подлил масла в огонь. Заявление Шаляпина показалось по меньшей мере странным, так как у певца для него не было никаких оснований: ведь так и не было установлено, кто те русские молодые люди.
Это была трудная полоса, стоившая Шаляпину больших нервных издержек. А тут еще одно пустяковое дело, на которое, произойди оно с другим, никто бы и внимания не обратил. Осенью 1910 года исполнилось двадцать лет сценической деятельности Шаляпина. Эту дату артист не предполагал отмечать. День юбилея застал его в Екатеринодаре, где он давал концерт. После концерта, в ресторане, двое подвыпивших присяжных поверенных стали приставать к Шаляпину и всячески задевать его. Возник скандал, завершившийся дракой. Шаляпин в нем не был виноват. Но газеты поспешили обнародовать и этот факт, не преминув издевательски сочетать его с двадцатилетием. Вот, дескать, как справляют юбилеи!.. Так о ресторанном дебоше узнала вся страна.
Одно наслоилось на другое. В центре, конечно, оставался факт «коленопреклонения». Из одного случая выводили другой, создавая артисту такую репутацию, что находиться в творческом покое он был не в состоянии.
Для характеристики той атмосферы, в которой он оказался, приведу кусок из фельетона Вл. Дорошевича, его бывшего друга и поклонника. Фельетон этот имел заголовок: «Мания величия».
«Почему г. Шаляпин думает, что „покушавшиеся“ на него были именно:
– Анархисты?
Не социалисты, не коммунисты?
Поезд в Вилльфранше стоит одну минуту.
Времени очень мало, чтобы выяснить убеждения.
Чтобы люди могли изложить перед г. Шаляпиным свои взгляды, и г. Шаляпин мог бы вывести заключение:
– Это чистейший анархизм!
В особенности, принимая во внимание, что люди в это время еще дрались.
Да и г. Шаляпину, защищаясь, вероятно, было некогда выяснять оттенки революционного миросозерцания.
Затем – анархисты не занимаются порханием во время карнавалов между Ниццей и Монте-Карло.
Время гулящее и люди гулящие.
Какие тут анархисты!
Просто, вероятно, веселящиеся на Ривьере москвичи.
Те самые, перед которыми г. Шаляпин пел в „Метрополе“ „Дубинушку“.
В гулящем месте началось. В гулящем и кончилось.
Ресторанная история.
И у г. Шаляпина не первая.
Этим летом г. Шаляпин в Екатеринодаре тоже имел ресторанную историю с туземными присяжными поверенными.
Нельзя же всех, с кем г. Шаляпин имеет ресторанные истории, обвинять в политической неблагонадежности!
И, вообще, г. Шаляпин совершенно напрасно в числе своих ролей считает:
– Политическую роль.
Все просто и совершенно понятно.
Г. Шаляпин хочет иметь успех.
Какой когда можно.
В 1905 году он желает иметь один успех.
В 1911 году желает иметь другой.
Конечно, это тоже „политика“ […]».
Все сошлось в тугой узел. В этой обстановке как он мог оправдаться? По сути, никак. А тут еще одно обстоятельство, мучительно задевшее Шаляпина. Незадолго до этого он познакомился с Г. В. Плехановым и по просьбе последнего послал ему свою фотографию. Она пришла в те дни, когда за рубежом стало известно о «коленопреклонении». Плеханов вернул фотографию с надписью «Возвращается за ненадобностью». Для Шаляпина, который гордился знакомством с Плехановым, это был тяжелый удар.
Перед ним даже встал вопрос о том, чтобы покинуть Россию и уехать куда-нибудь в Западную Европу навсегда.
Он писал Теляковскому из Монте-Карло:
«Вы, наверное, осведомлены и читаете, что пишут обо мне газеты правого и левого направлений – они отказывают мне и в совести, и в чести.
Это уже настолько недурно с их стороны по моему адресу, что подобное вынуждает меня подумать о продолжении моей службы в императорских театрах, с одной стороны, и о жизни в милой родине – с другой.
Вы отлично знаете, что в этой истории коленопреклоненного гимна я совершенно не виноват, но я имею столько ненавистников и завистников и вообще людей, ко мне относящихся отрицательно на моей родине, что ими поставлен в положение какого-то Азефа».
И далее он информировал, что имеет намерение расторгнуть контракт с дирекцией казенных театров и просит указать, какую неустойку он будет обязан выплатить.
Он писал:
«Итак, дорогой Владимир Аркадьевич, в этом сезоне исполнилось двадцать лет моего служения искусству. Не знаю, как я ему служил, хорошо или плохо, но знаю только одно, что имя мое в искусстве выработано мною потом, кровью и всевозможными лишениями, имя мое не раз прославляло мою родину далеко за пределами ее, можно сказать, всемирно, и потому особенно обидно иметь такой ужасный „юбилей“, в котором самое высокое приветствие выражается словами „холоп“, „подлец“ и т. д.».
Прошло некоторое время, Шаляпин успокоился (в этом немалая заслуга Горького, оказавшего ему нравственную поддержку), и вопрос о расторжении договора был снят.
Оценивая историю с «коленопреклонением», а также то, что недавние друзья Шаляпина журналисты Вл. Дорошевич и А. Амфитеатров выступали в печати с издевательскими статьями и фельетонами в адрес артиста, Теляковский писал:
«По этой истории, взятой отдельно, вне спектакля и окружающей обстановки, извращенной фарисеями и присяжными недоброжелателями, все хотели судить о Шаляпине как о человеке и артисте. Это, кажется, наиболее яркий пример фальшивого представления о Шаляпине, создавшегося и поддерживаемого в большой публике.
Шаляпин всегда стоял вне политики в том смысле, что никогда ею не занимался, а всегда оказывался вовлеченным в нее стараниями тех или других, правых или левых. У него не было деления на политические партии, просто одни люди были ему симпатичны, а другие антипатичны, и он одновременно очень искренне дружил с Максимом Горьким, находившимся в то время на крайне левом крыле, и с бароном Стюартом, убежденным крайне правым монархистом […].
Во французском языке для определения сортов зонтиков существуют отличные слова, выражающие их главное разное назначение. Зонтики от солнца называются „Parasol“, зонтики от дождя —„Parapluie“, а универсальные зонтики и от того и от другого вместе – „En-tout-cas“: такой зонтик может служить и при солнце и при дожде.
Так вот из Шаляпина все старались сделать такой универсальный зонтик „En-tout-cas“ и, надо сказать, этого и достигли, и он с одинаковым воодушевлением, смотря по обстоятельствам, пел „Боже, царя храни“, и „Марсельезу“, и „Дубинушку“…»
Глава XIV
ВСЕМИРНАЯ СЛАВА. ДОН БАЗИЛИО
…Судьба этого человека была действительно сказочна, – от приятельства с кузнецом до приятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция немалая. Была его жизнь и счастлива без меры, во всех отношениях: поистине дал ему бог «в пределе земном все земное».
И. Бунин
Эти годы – пора утончения и углубления мастерства, непрестанной отделки созданных образов. Поражает взыскательность артиста, требовательность к себе. Собственно, можно сказать, что его оперный репертуар уже сложился. В последующем Шаляпин новых ролей не готовит, но каждый образ находится в движении.
Непрерывное совершенствование. Это характерная черта всей творческой жизни артиста, что бы ни иметь в виду – оперу или концертные выступления.
Те, которые этого не понимали, с беспокойством или даже огорчением подмечали, что артист меняет рисунок уже давно сделанных ролей, видели в этом известную стихийность, даже случайность – наитие минуты будто бы делает то, что от спектакля к спектаклю привычный образ подвергается каким-то изменениям. Любители завершенности усматривали в них даже каприз певца. В этом одна из серьезных причин частых конфликтов артиста с дирижерами, особенно с теми, которые предпочитали раз навсегда установленное поискам новых оттенков.
Певец заявлял в своих воспоминаниях:
«С Рахманиновым за дирижерским пультом певец может быть спокоен. Дух произведения будет проявлен им с тонким совершенством, а если нужны задержание или пауза, то будет нота в ноту… Когда Рахманинов сидит за фортепиано, то приходится говорить: „не я пою, а мыпоем“».
«Ведь с Направником, Рахманиновым, Тосканини у меня никогда столкновений не случалось», – заявлял он в другом месте.
Русская пресса, с особым удовольствием расписывавшая подробности происходивших конфликтов и одно время резко осуждавшая певца, постепенно стала менять свою точку зрения на причины столкновений на репетициях и даже на спектаклях. Так, журнал «Театр и искусство», видевший некоторое время в скандалах Шаляпина проявление повышенного интереса артиста к рекламе, начал серьезнее вдумываться в истинную природу частых конфликтов.
В этом смысле интересна статья в указанном журнале под названием «Чиновник побежден», написанная критиком А. Ростиславовым. Он писал после конфликта с дирижером Авранеком и решения дирекции казенных театров предоставить Шаляпину право ставить спектакли, в которых он играет:
«Такие уроки, такие „крупные инциденты“ едва ли подскажут чиновничьему сердцу, что в деле искусства, даже запертого в казенное учреждение, первое лицо не только Ф. И. Шаляпин, а и вся совокупность артистов, даже каждый – самый маленький, но необходимый для дела артист, что именно здесь чиновник ни более, ни менее как „услужающий“ при искусстве […]. Что бы ни говорить о Шаляпине-скандалисте, о неуважении к почтеннейшей публике „зазнавшегося любимца“, о действительно неприятных его отношениях к товарищам артистам, думается, что именно в последней истории в нем прежде всего сказался „взыскательный художник“, которому невыносим даже малейший оттенок затхлого чиновничьего застоя в художестве».
Можно было бы привести и опубликованный в газете «Русское слово» фельетон П. Ашевского «Преступление без наказания», в котором точно так же Шаляпин брался под защиту. И это далеко не единственные отклики.
Интересно, что конфликты возникали именно в русском театре, а за границей – только на спектаклях, в которых были заняты русские артисты и хористы. Это давало повод некоторым журналистам сделать вывод, что за рубежом артист «держит себя в узде», не «распускается».
Между тем дело обстояло иначе. Находясь на гастролях в чужих краях (например, в странах Южной Америки), Шаляпин не предъявлял к театрам, где ему доводилось выступать, серьезных требований, хотя и добивался нужного количества репетиций. У него был свой взгляд на итальянский оперный театр, на французский. Там он фигурировал как одиночка-гастролер, который ничего не в состоянии изменить в сложившейся художественной системе.
Когда же он сталкивался с русскими театрами, которые являлись для него делом кровным, он, с годами все более требовательный к себе, был так же требователен и к этим театрам. Особенные претензии он предъявлял к казенной сцене, которая, по его мнению, должна всегда оставаться безукоризненной в художественном отношении и имеет для этого все возможности. Но чиновничье правление, казенная субординация мешают этому. Вот почему, сталкиваясь с ремесленным отношением дирижеров, он распалялся до крайности и переставал владеть собой. Это случалось и в отношениях с серьезными музыкантами, как, например, В. Сук. Возникали неприятные инциденты, но в существе своих требований он всегда был прав.
Следует признать, что дирижировать спектаклем, в котором пел Шаляпин, было очень трудно. Здесь требовался особо чуткий музыкант, улавливающий требования сцены и артиста, не мирящийся с фальшью в оркестре, с тем, что хор расходится с ним и т. п.
Характерный эпизод приводит в мемуарах дирижер Д. Похитонов:
«…Вспоминается интересный разговор его (Шаляпина. – М. Я.)с дирижером Блуменфельдом.
– Ты, Федор, часто сердишься на нас, дирижеров, за то, что мы недодерживаем или передерживаем паузы, – говорил он Шаляпину. – А как же угадать длительность этих пауз?
– Очень просто, – отвечал Шаляпин, – переживи их со мной и попадешь в точку».
Чиновники, руководившие казенной сценой, в частности Большим театром, готовы были мириться с серьезными недочетами (они, наверное, и не замечали их, ибо музыкальным ухом и театральным глазом не обладали), им важно было, чтобы не нарушался порядок, не было никаких происшествий. Единственный, кто позволял себе бунты, это Шаляпин, не боявшийся начальства.
Мы знаем, что уже в ранние годы, в пору первого служения на казенной сцене в Петербурге, он так же с яростью говорил о чиновном руководстве и обходил холодным молчанием своих товарищей по сцене. За многолетнюю службу в императорских театрах лишь с одним артистом, тенором А. М. Давыдовым, его соединяли дружеские отношения. Как когда-то он «не заметил» в Мариинском театре Стравинского, Ершова, Долину, Мравину, так теперь для него как бы не существовали Собинов, Нежданова. Их имена не возникают в его воспоминаниях.
Продолжались «русские сезоны» в Париже, далее в Брюсселе, в Лондоне. Всюду выступлениям Шаляпина сопутствовал огромный, все возрастающий успех. Каждый его приезд в крупный столичный центр становился событием особого художественного значения. Десятки восторженных статей самых разных по вкусам и направлению критиков увозил он из европейских городов. Русская пресса уже сообщала: Шаляпин получил звание солиста итальянского короля, солиста английского короля; монархи и президенты вручали ему ордена.
Есть одна своеобразная страница в его зарубежных гастролях.
Она относится к антрепризе Рауля Гинсбурга, устраивавшего на протяжении ряда лет спектакли с участием Шаляпина в Монте-Карло. Монте-Карло, как говорилось, место специфическое. Театр для тамошней публики был приятным недолгим отвлечением от азартной игры. Само собой, что зрители, привлекаемые прославленным именем русского артиста, не очень разбирались в оперном искусстве. Почему же Шаляпин приезжал сюда? Почему здесь он пел? Потому, очевидно, что публика здесь собиралась интернациональная, она разносила по свету вести о замечательном певце. О спектаклях в Монте-Карло пресса сообщала во все концы цивилизованного мира. Его имя привлекало богачей из разных стран – они оставляли свои деньги в крохотном княжестве Монако, в котором доходы от рулетки составляли основу государственного бюджета.
Как правило, Шаляпин нигде не поступался своими художественными позициями, был в этом отношении стоек. Лишь для труппы Рауля Гинсбурга он делал трудно объяснимое исключение. Здесь, в Монте-Карло, он выступал не только в лучших ролях своего репертуара. Здесь он отдавал дань и творчеству третьестепенного композитора, каким был Гинсбург, написавший для Шаляпина две оперы: «Старый орел» (по мотивам сказки Горького «Хан и его сын») и «Иван Грозный», то есть свой вариант «Псковитянки». Обе эти оперы были очень слабы, и лишь искусство Шаляпина дало краткую жизнь «Ивану Грозному».
Вот что писала из Монте-Карло русская рецензентка об «Иване Грозном»:
«Появляется на белом коне царь Ivan le Terrible [17]17
Иван Грозный (франц.).
[Закрыть]– Шаляпин. Кто видел хоть раз его выезд в „Псковитянке“, тот никогда не забудет его великолепной, истинно царственной фигуры Ивана Грозного. Шаляпин повторил ее в опере Гинсбурга. Тот же замечательный грим: тип-портрет, та же художественно согнутая спина, тот же испытующий, подозрительный взгляд, та же гамма страстей на морщинистом характерном лице, где презрение, злоба, мстительность, жестокость и душевные муки. Какой колоссальный чисто русский талант – Шаляпин! Ему нужно либретто Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого, ему нужна музыка Мусоргского, Глинки, Вагнера, ему нужен театр La Scala, московский Большой театр! И этот талант-колосс бьется на крошечной сцене Монте-Карло, как орел в раззолоченной клетке попугая, и негде развернуться гению: жалкая музыка, жалкий антураж. Когда Шаляпин был на сцене – никто не слушал музыку Гинсбурга. Никто не вникал в слова. Все впивались вниманием в игру Шаляпина. Уходил Шаляпин со сцены, и явно выступала вся нелепость французско-нижегородского произведения…»
Одним из важных событий этого периода явилась премьера «Хованщины» в Мариинском театре, в постановке Шаляпина. Она состоялась 7 ноября 1911 года, через четырнадцать лет после того, как артист спел Досифея в Московской Частной опере.
Режиссерский дебют оказался очень удачным. Шаляпин, знавший в «Хованщине», как и всегда, каждую партию, каждый голос в оркестре, очень тщательно работал с исполнителями, в частности с хором. Получился спектакль, отмеченный целостностью творческого замысла, продуманностью деталей и глубокой правдой происходящего. Шаляпин не поразил какими-либо броскими новаторскими чертами постановки. Его режиссура заключалась в стремлении создать единство всех элементов спектакля, добиться жизненной правдивости хора, столь важного в этом произведении. И, конечно, на первом месте был Досифей.
«Его грим – художественное произведение, не уступающее образам Васнецова и Нестерова. Каждый жест, каждое движение, манера походки, интонация голоса – все, все, от начала до конца, служит только тому, чтобы создать цельный образ, незабываемый навсегда. В галерее типов, созданных Шаляпиным, образ Досифея один из самых совершенных и характерных», – писал И. Кнорозовский в журнале «Театр и искусство».
В его работе, к которой, естественно, относились с известным недоверием, очень помог дирижер А. Коутс, понявший требования режиссера и согласившийся на некоторые оттенки, которые, по мнению Шаляпина, были необходимы. Спектакль стал несомненным художественным событием, хотя Э. Направник, по болезни не принявший участия в начале репетиционного периода, судя по всему, не одобрял некоторых темпов и нужных режиссеру «оттяжек». Но он тактично ограничился лишь тем, что отказался войти в уже подготовленный спектакль.
Здесь выявилось расхождение во взглядах на трактовку партитуры. Направник, допускавший в интересах художественности известные отклонения от метронома, не разделял взглядов Шаляпина, что требования жесткого следования темпам подчас лишают певца и режиссера свободы истолкования партитуры. Свободы, которая не ломает замысла композитора и общего рисунка музыки, дает возможность артисту показать психологически достоверное поведение героя в момент арии, эпизода. Если потребуются оттенки, в частности, так называемые «люфт-паузы», их следует предоставить.








