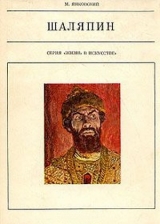
Текст книги "Шаляпин"
Автор книги: Моисей Янковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
Шаляпин играет образ только самого высокого плана, философски насыщая и осмысляя его, и именно с этой целью он ищет все возможные и мыслимые краски образного воспроизведения.
Ошибочным было бы утверждение, что Шаляпин перенес в оперный театр приемы драмы. В таком утверждении есть только доля истины, но в целом подобная мысль опровергается своеобразием творческого метода артиста. Шаляпину чуждо было стремление механически переносить в оперу приемы драматической сцены. Известно, что Шаляпин намечался Горьким на роль Филиппа Второго в постановке «Дон Карлоса» Шиллера Петроградским Большим драматическим театром именно потому, что у него к тому времени в репертуаре была оперная партия Филиппа Второго. Но трудно сказать, что получилось бы у Шаляпина в драме. Не было бы удивительно, если бы приход Шаляпина на подмостки драматического театра оказался неудачным.
Как ни странно, Шаляпин, столь много взявший от драматического театра, не принимал в нем основных особенностей реалистического языка, отличного от реализма музыкального театра.
Реализм оперного театра и реализм театра драматического не одно и то же. Музыкальный театр, помимо общих, руководствуется и собственными, специфическими для него законами.
Оперный театр, театр ритма и соответствующей ему пластичности, имеет свой выразительный язык, и убожеством представляется новаторство, состоящее, например, в том, что мелочную детализацию несут как готовый и обязательный прием. Несомненно, в драме плачут не так, как в опере, хотя слезы в «Травиате» и в «Даме с камелиями» бывают одинаково убедительными.
Использование Шаляпиным в оперном театре приемов драматического театра нельзя принимать буквально.
Шаляпину были чужды псевдореалистические режиссерские ухищрения, равно и самоцельное новаторство. Он видел главное отличие оперного театра от драматического в специфике оперного образа, более укрупненного, написанного более сочным мазком. Графичность в деталях мельчит музыкальный образ, дробит его, затемняет звучание основной темы. Играть в опере так, как играл Шаляпин, значит играть главную тему. Вся психологическая разработка образа, вся нюансировка подчинены этой задаче раскрытия одной, глубоко воспринятой темы. В образном истолковании оперной партии Шаляпин не допускал тематических контрапунктов, хотя всегда пользовался подголосками как дополнительными красками к центральной теме.
Чему же подчинен весь исполнительский аппарат артиста? Исканию все более осложняемых смысловых задач. Все в искусстве Шаляпина подводится к главному – донести образ в пластической завершенности так, чтобы основная идея, сквозная тема получили всестороннее раскрытие.
Все второстепенное подчинено этому главному. Ищется основной психологический и идейный стержень, и для обнажения психологической подосновы привлекается все, начиная от манеры вокального истолкования, в каждом случае отличной от другой, кончая тонко и точно найденными нюансами. К этим нюансам нужно отнести и элементы внешнего облика, то есть костюм, грим, походку, ритм движения, жест… Хотя актер ищет их почти с первого же этапа работы над ролью, все же задача создания внешнего облика – подчиненная.
Внешний облик, очень детально разработанный, создает телесную оболочку персонажа и главные, нужные для экспозиции черты. Образ «пишется» крупными мазками. Здесь детализация характерна только для выявления главной темы, второстепенные же будут представлены эскизными набросками. Благодаря этому укрупнение особенно ощутимо, ибо наиболее «густое» ляжет на центральную тему, а для «подголосков» будут взяты менее яркие краски. Все будет заключено в точно найденную типичную оболочку, абстрактный образ станет телесным – так у Шаляпина бывает всегда, а реальный образ не обрастет натуралистическими деталями.
Он ищет в оперном театре режиссера и не выносит постановщиков, он не может найти общего языка с такими режиссерами, которые убеждены, что если они внесут в спектакль точное, документально подтвержденное знание эпохи и стиля, то самое главное и существенное будет достигнуто.
Шаляпин опирался на лучшие традиции русского искусства, которые он находил в музыке Глинки, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, в творчестве актеров-реалистов Малого, Александрийского и Художественного театров, в произведениях великих русских классиков. В западном искусстве он искал эти традиции у Шекспира и Шиллера, у великих трагических поэтов и актеров.
Портрет Шаляпина будет неполон, если не напомнить о том, что он в высочайшей степени понимал важность общения с партнерами, умения слушать их, создавать с ними неразрываемую цепочку духовных контактов, без чего мастерство артиста, в частности музыкального, становится искусственным, лишенным правды.
М. О. Кнебель вспоминала о беседах Станиславского:
«Всем известна и уже превратилась в анекдот фраза Станиславского о том, что даже амфибия и морской гад общаются и ориентируются в окружающем мире, и только актеры обходятся без этого, необходимого всему живому процесса. Правда, Константин Сергеевич не уставал повторять, что этот процесс только кажется легким, а подлинное общение в театре редко. Он наблюдал его у таких людей, как Сальвини, Дузе, Леонидов, Михаил Чехов, Шаляпин…»
Вс. Мейерхольд как-то сказал: «Для актера музыкальной драмы творчество Шаляпина такой же родник, как жертвенник Диониса для трагедии».
Глава XII
В ГОДЫ ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Милый Федор!
Приходи завтра вечером?
Меня охраняет кавказская боевая дружина – 8 человек – славные такие парни. Им очень хочется посмотреть на тебя. Мне – тоже. Приходи!
Горький – Шаляпину
Думается, что тесные дружеские отношения с Горьким явились основной причиной того гражданского пробуждения, которое характерно для Шаляпина в пору первой русской революции.
Начиная с 1901 года Шаляпин, по сути, впервые задумывается о вопросах, которые давно уже волновали передовые слои русского общества. Несомненно, встречи в Нижнем Новгороде, где Горький отбывал свою ссылку, общение там с другими лицами, находившимися в том же подследственном положении, участие в концертах в пользу Народного дома, бесчисленные ночные беседы с Алексеем Максимовичем – все это содействовало известной активизации интереса к тому, что происходило в стране. Итоги русско-японской войны и события 9 января 1905 года явились мощными толчками к тому, чтобы певец призадумался о происходящем в России.
Не нужно при этом считать, что подобный интерес был глубоким и коренным, что он содействовал развитию истинного политического самосознания певца. Так объяснять довольно деятельное участие Шаляпина в событиях 1905 года нельзя.
Для того, чтобы понять меру политического самосознания певца в 1905 году, следует припомнить, как вела себя значительная часть русской интеллигенции в то время, в частности интеллигенция художественная. Для нее характерно то, что в серьезнейшие дни событий 1905 года, в особенности в начале его, она оказалась на положении временного попутчика революции.
О такой особенности участия либеральной буржуазии писал В. И. Ленин:
«Движение пролетариата, в силу самых основных особенностей в положении этого класса при капитализме, имеет непреклонную тенденцию стать отчаянной борьбой за все,за полную победу над всем темным, эксплуататорским, порабощающим. Движение либеральной буржуазии, напротив, по тем же причинам (т. е. в силу основных особенностей положения буржуазии) имеет тенденцию к сделкам вместо борьбы, к оппортунизму вместо радикализма, к скромному учету наиболее вероятных и возможных ближайших приобретений вместо „нетактичной“, смелой и решительной претензии на полную свободу»
(В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 10, стр. 196–197).
При этом, характеризуя ход революционных событий, Ленин констатировал, что «низы борются, верхи пользуются» (там же, стр. 195).
Очень скоро наступило решительное расслоение: от лозунгов социальной революции в испуге отступила та часть интеллигенции, которая домогалась конституции на западноевропейский образец и была склонна довольствоваться лишь ею, опасаясь резкого крена влево. Либеральные слои русского общества шли под лозунгами «свободы» лишь до определенного момента и вскоре отступили, не только оставив пролетариат одиноким в борьбе с царизмом, но явно не сочувствуя этой борьбе.
Такое расслоение многое объясняет в умонастроении, особенно после декабрьского восстания в Москве и последовавшей вслед за тем полосы кровавой расправы.
Тем не менее участие прогрессивно настроенных кругов русской интеллигенции в событиях 1905 года требует внимательного рассмотрения, но ему должен сопутствовать трезвый анализ фактов.
Рассказывая о концерте, устроенном им 29 апреля 1906 года для киевских рабочих, Шаляпин припоминал, что, когда он обратился за разрешением к киевскому губернатору Савичу, тот показал секретное донесение охранного отделения, в котором сообщалось, что Шаляпин «дает концерты в пользу революционных организаций».
Комментируя этот донос, Шаляпин в своих воспоминаниях писал:
«Это было нелепо и не содержало в себе ни капли правды. Я, по натуре моей, демократ, я люблю мой народ, понимаю необходимость для него политической свободы, вижу, как его угнетают экономически, но я никогда не занимался делом, приписанным мне охранным отделением».
Цитируемые строки писались совместно с фактическим соавтором воспоминаний А. М. Горьким и, конечно, точно отражали истинное положение вещей. Ни в ту пору, когда он устраивал концерты в пользу нижегородского Народного дома, ни позже, когда давал концерты киевским рабочим, Шаляпин не был связан с революционным движением сколько-нибудь крепко. Это были все же лишь естественные отклики большого художника на зовы широких масс, не прислушаться к которым, особенно в годы открытого революционного движения, было немыслимо.
Быть может, в жизни певца и наступали какие-то моменты, когда он подумывал о более тесной связи с революционным движением, но эти думы рождались под влиянием эмоций, скорее стихийно, чем сознательно. Органичности в них не было.
Спустя долгие годы, находясь в эмиграции и вспоминая о таких настроениях, Шаляпин рассказывал, что как-то обратился к Горькому с вопросом, не следует ли ему вступить в социал-демократическую партию. На что Алексей Максимович отвечал: «Ты для этого не годен. И я тебя прошу, запомни один раз навсегда: ни в какие партии не вступай, а будь артистом, как ты есть. Этого с тебя вполне довольно».
Разговор имел место на острове Капри, несколько лет спустя после бурных событий 1905 года, в пору, когда Шаляпин был чрезвычайно далек от настроений освободительного движения. Совершенно понятен ответ Горького. Но и тогда, когда развертывались революционные события, не могло быть и речи о том, чтобы Шаляпин мог оказаться в рядах социалистической партии. Видимо, диалог на Капри был навеян разговорами о революции и настроениями, родившимися в результате бесед.
Вопрос о двойственном положении и настроениях Шаляпина возникал у них многократно. И каждый раз Горький, по сути, осуждал певца, который в своей артистической жизни был необычайно далек от освободительных идей, временно захвативших его в годы первой революции и накануне.
Когда расправа 9 января всколыхнула всю мыслящую Россию и на повестку дня встал вопрос о дальнейшем бытии страны, многие представители русской художественной интеллигенции возвысили свой голос в защиту освободительных идей. Среди них оказался и Федор Иванович.
2 февраля 1905 года московская газета «Наши дни» напечатала заявление группы московских музыкальных деятелей, требовавших от правительства реформ и присоединявшихся к декларации только что прошедшего либерально-оппозиционного съезда «земцев». Значение обращения московских музыкальных деятелей заключается не в том, что они выдвигали подлинно революционные требования.
Решения «земцев» были типично половинчатыми. Речь в них шла лишь о некоторых конституционных нормах, которые должны быть дарованы сверху. Это петиция верноподданных, направленная к царю с просьбой прислушаться к голосу либерального дворянства.
Значение заявления московских музыкальных деятелей, несмотря на характер их требований, заключается, однако, в другом: впервые русская музыкальная общественность, отличавшаяся за последние десятилетия заметным политическим индифферентизмом, возвысила свой голос. Музыканты впервые почувствовали себя общественностью, которая может и имеет право говорить о положении государства. Московские музыканты не столько становились на позиции «земцев», сколько демонстрировали свое оппозиционное отношение к царизму.
Обращение было подписано группой выдающихся музыкальных деятелей того времени. Мы находим среди подписавшихся имена С. Рахманинова, С. Танеева, А. Гречанинова, Р. Глиэра, К. Игумнова, С. Кругликова, Н. Кашкина. Вскоре к ним присоединился и Л. Собинов. Среди подписавшихся находим и Шаляпина.
Это была по тому времени смелая инициатива, хотя и не имевшая подлинно революционного значения. Не случайно к петиции присоединились и передовые музыкальные деятели столицы – среди них Н. Римский-Корсаков.
Возвращаясь к сути требования «земцев», то есть представителей дворянства, объединенного в так называемых земских собраниях, следует напомнить, что их петиция, состоявшая из одиннадцати пунктов, была сурово оценена В. И. Лениным. Он писал тогда:
«По сравнению с могучей и геройской борьбой пролетариата каким отвратительно мизерным кажется верноподданническое выступление земцев и „освобожденцев“ на знаменитом приеме Николая II. Комедианты понесли заслуженное наказание. Не успели высохнуть чернила, которыми они писали свои хамски-восторженные отчеты о милостивых словах царя, как настоящее значение этих слов выступило перед всеми в новых делах»
(В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 10, стр. 315).
Мысли, которые заключались в заявлении московских музыкантов, отличались полнейшей неконкретностью, но живо характеризовали настроение подписавших его. И настроение это симптоматично: оно было отражено, в совершенно общей форме, в декларации о положении художественной интеллигенции в царской России.
«Жизненно только свободное искусство, радостно только свободное творчество – к этим прекрасным словам товарищей художников мы, музыканты, всецело присоединяемся. Ничем иным в мире, кроме внутреннего самоопределения художника и основных требований общежития, не должна быть ограничена свобода искусства, если только оно хочет быть истинно могучим, истинно святым, истинно способным отзываться на глубочайшие запросы человеческого духа.
Но когда по рукам и ногам связана жизнь, не может быть свободно и искусство, ибо чувство есть только часть жизни. Когда в стране нет ни свободы мысли и совести, ни свободы слова и печати, когда всем живым творческим начинаниям народа ставятся преграды, чахнет и художественное творчество. Горькой насмешкой звучит тогда звание свободного художника [13]13
Лица, окончившие консерваторию, получали звание «свободного художника».
[Закрыть]. Мы не свободные художники, а такие же бесправные жертвы современных ненормальных общественно-правовых условий, как и остальные русские граждане, и выход из этих условий, по нашему убеждению, только один: Россия должна наконец вступить на путь коренных реформ».
Лица, подписавшие заявление, видели эти реформы в даровании России конституции, при том, что авторы письма, как и ряда аналогичных деклараций, не посягали на неприкосновенность монархии. Подобное заявление очень типично для представителей либеральных слоев.
Однако и такое заявление вызвало серьезный резонанс. Важно то, что оно явилось толчком для объединения разных групп художественной интеллигенции. Можно было бы назвать ряд аналогичных деклараций, в частности театральных деятелей. Среди подписавших подобные документы, которые были тут же опубликованы, можно увидеть имена К. Станиславского, В. Немировича-Данченко, В. Качалова и многих других. Это – показатель известного пробуждения. На первом этапе развития событий в России такая половинчатая позиция все-таки что-то значила в общей атмосфере брожения умов.
Шаляпин, несомненно, присоединил свою подпись к заявлению совершенно сознательно и с глубоким сочувствием. Развивавшиеся события показали, что в ту пору очень важно было понимать «кто с кем». Известно, что Римский-Корсаков, присоединившийся к протесту студентов Петербургской консерватории, осуждавших одного из участников расстрела рабочих 9 января, студента Манца, был уволен из числа профессоров консерватории. Вслед за ним, в знак протеста, консерваторию покинули Глазунов и Лядов. В Москве профессор консерватории композитор Танеев, протестуя по поводу реакционной политики директора Сафонова, тоже покинул консерваторию. Таких фактов можно привести немало. Каждый из них становился всеобщим достоянием. В поддержку прогрессивно настроенных музыкальных деятелей выступали музыканты всей России. Это содействовало поднятию оппозиционных настроений у тех музыкальных деятелей, которые до поры до времени считали, что общее движение их не касается.
В последующие месяцы Шаляпин своими концертными выступлениями доказал, что с большой симпатией относится к рабочим массам. Это вызвало подозрительное отношение властей, в этом видели подрывную деятельность.
Здесь следует напомнить, что Шаляпин был артистом императорских театров, что он служил при министерстве императорского двора. Артисты этой категории были белой костью среди большой громады артистического мира, в частности среди бесправных актеров провинциальной сцены. Шаляпин должен был знать, что начальство рассматривает его как чиновника, а на чиновника распространяются особые правила.
Некоторые из артистов казенных театров, нарушившие эти особые правила, сразу почувствовали на себе тяжелую руку начальства. Оперная артистка В. Куза обратилась на Невском проспекте к солдатам Преображенского полка, охранявшим подступы к Дворцовой площади, с несколькими словами осуждения по случаю расстрела 9 января. Об этом директору императорских театров донес офицер Оболенский. Через несколько дней Куза была уволена из числа артисток казенных театров. Позже, после многократных просьб о прощении, она была в наказание переведена на год в московский Большой театр.
Артистка балета О. Преображенская просила разрешить ей открыть подписку в пользу семей убитых рабочих. Ее за это тоже хотели уволить, и лишь настойчивые мольбы о прощении привели к тому, что дело было замято. В том же Мариинском театре за сочувствие революционному движению некоторым артистам кордебалета было навсегда запрещено служить в казенных театрах. Аналогичная кара подстерегала балерину А. Павлову. Артист балета С. Легат под влиянием тягостной атмосферы, создавшейся в театре из-за начавшихся репрессий и доносов друг на друга, покончил жизнь самоубийством.
Под особым надзором охранного отделения находился артист Александрийского театра Н. Ходотов за выражаемое сочувствие революционному движению.
Число подобных фактов можно значительно увеличить.
Несомненно, и на голову Шаляпина, устраивавшего концерты для рабочих, посыпались бы кары, если бы не его популярность, заставившая власти в конце концов сделать вид, что он ничего предосудительного не совершил.
Начало русско-японской войны Шаляпин принял с той же мерой недальновидности, которая была типична для большинства представителей русской интеллигенции. Военные действия шли где-то очень далеко, вдали от основных жизненных центров страны. И многим казалось, что японцев шапками закидают. Только тогда, когда события на Дальнем Востоке стали развиваться неожиданно плохо, начали подумывать о причинах, ведущих Россию к возможному поражению в войне.
Первые дни января проходили у Шаляпина, как обычно, в буднях спектакльной суеты. Интересно, что события 9 января в Петербурге как-то слабо затронули Шаляпина, находившегося в ту пору в Москве. Он был занят предстоящими гастролями в Монте-Карло, где должен был петь Мефистофеля в «Фаусте» на французском языке.
2 февраля, в тот же день, как было опубликовано подписанное им заявление московских музыкантов, он выступал в Большом театре на сборном спектакле в пользу больных и раненых воинов, где исполнял в один вечер партии Алеко, Варлаама и в первый и последний раз испытал себя в роли Евгения Онегина (был исполнен I акт оперы).
Один московский критик писал об этом эксперименте:
«После великолепного исполнения им „Демона“ Рубинштейна публика ждала чего-нибудь необыкновенного и в „Онегине“. Но ее ожидания оказались несколько преувеличенными. Прежде всего, сама партия Евгения Онегина даже в целом не представляет такого простора для драматического дарования г. Шаляпина, как партия Демона. 1-й акт оперы Чайковского и вовсе не дает для этого благодарного материала, так как вся партия Онегина имеет здесь лишь чисто вокальное значение, и сценический талант артиста мог проявить себя в этом акте лишь в создании внешнего образа Онегина. Но и этот образ не вполне удался артисту. Хороший грим, великолепная фигура, но манера держаться на сцене и излишняя энергия движений и жестов мало отвечали характеру Онегина.
Очевидно, самый тип выдержанного и холодного, хотя бы по внешности, светского человека, каким является Онегин, не отвечает характеру дарования г. Шаляпина, все обаяние которого в силе, яркости и экспрессии драматического выражения. Но вокальная сторона исполнения была безукоризненна. Несмотря на высокую тесситуру партии, не легко дающуюся иногда и баритону, г. Шаляпин пел чрезвычайно легко, без напряжения, давая полную волю своему великолепному голосу. Ария в саду вызвала по адресу исполнителя бурю аплодисментов и была повторена».
Интересную оценку Онегину – Шаляпину дает С. Кругликов.
«Но вышел ли Онегин? Но совсем. Фигура не та. Меньше надо играть. Чем меньше жестов, резонерства, тем ближе к типу. Нужна изящная сдержанность, скупость движений. А тут каждая фраза с игрой. А в позе мешковатость, грузность. И слишком наклоненный вперед корпус… Онегин не для Шаляпина и никогда для него не будет».
Нужно полагать, что, берясь за исполнение партии Онегина, артист думал о возможном закреплении ее надолго. Характерно, что он искал новые партии в баритональном репертуаре. Тогда же Шаляпин поет Сен-Бри в «Гугенотах», Валентина в «Фаусте». Он упорно готовит себя к такого типа ролям. Но его пробы носят, очевидно, характер самопроверки: он желает убедиться, может ли расширить круг созданных им образов ролями другого характера, он не желает ограничить себя одним лишь басовым репертуаром. Поэтому для него столь важен был Демон.
Однако самопроверка показала, что искания такого порядка не оправдывают себя. Вот почему партия Онегина была им спета лишь один раз. А такие партии, как Сен-Бри и Валентин, в которых он выступал уже не один год, постепенно исчезают.
В данном случае он избрал эти две партии ради бенефиса артиста Большого театра Б. Корсова. Интересна оценка роли Сен-Бри, данная Кашкиным.
«Мы должны прямо сказать, что он нам совсем не понравился в ней, несмотря на то, что дал многие новые особенности в характере ее исполнения. Прежде всего, мы не понимаем продления пауз в обращении Сен-Бри к собранию католиков, превращающего местами строгий, даже несколько маршеобразный четырехдольный размер почти в пятидольный; выразительности декламации это, конечно, не прибавляло, а между тем вызывало неприятное чувство сбитого ритма. Не согласны мы и со сценическим изображением фигуры Сен-Бри; это совсем не темный фанатик-изувер, ибо он незадолго перед тем соглашался выдать замуж свою дочь за гугенота. Сен-Бри, скорее, коварный царедворец, родовая честь которого оскорблена Раулем, что и вызывает в нем жажду мести не только Раулю, но и гугенотам вообще».
Спектакль, в котором Шаляпин пел Онегина, происходил 2 февраля. А 4-го он выехал на спектакли в Петербург, чтобы затем отправиться в Монте-Карло. В. Теляковский, слышавший у себя дома пение Шаляпина перед его выездом в Монте-Карло, с удивлением отмечал у артиста прекрасный французский выговор.
Вернулся он в Россию лишь весной. И вскоре оказался на гастролях в Харькове. С пребыванием в этом городе связано его выступление перед рабочими, вызвавшее немало шумных откликов.
Речь идет о концерте, данном им для харьковских рабочих в помещении Народного дома. Сим. Дрейден в книге «Музыка – революции» приводит письмо харьковской социал-демократки, которая делилась впечатлениями от этого выступления.
«Он читал стихотворение Скитальца. Говорил с рабочими, что давно мечтал очутиться среди такой громадной аудитории дорогих товарищей рабочих. Он чувствует с ними полнейшее единение. Пели Дубинушку, и он начал первый. В общем сильно взвинтил и поднял настроение рабочих…»
Это письмо было перехвачено охранным отделением.
Вскоре после этого концерта Шаляпин гостил с Коровиным у Теляковского в его имении. Теляковский записал тогда в дневнике:
«Шаляпин, между прочим, рассказывал, как он недавно пел концерт […] в Харькове для рабочих. Между прочим, он просил полицмейстера, чтобы в Народном доме во время его концерта не было полиции. Рабочие дали ему слово сами смотреть за порядком. Концерт вообще прошел благополучно, смирно. В конце концов стали петь „Марсельезу“, а потом и „Дубинушку“. Шаляпин в этом нении принимал также участие и дирижировал. Всего рабочих собралось около 2 ½ тысяч».
Исполнение «Дубинушки» в ту пору становится непременным в такого рода выступлениях [14]14
В 1905 году Н. А. Римский-Корсаков обработал «Дубинушку» для симфонического оркестра. В то же время А. К. Глазунов обработал для симфонического оркестра народную песню «Эй, ухнем!».
[Закрыть].
Пока «Дубинушка» исполнялась вне казенной сцены, ее впрямую было трудно запретить, хотя руководители императорских театров и полицейские органы все время интересовались, какие слова поются (имелись в виду революционные куплеты, появившиеся в то время и введенные в канонический текст песни).
Последние ее строки звучали как прямой призыв к бунту. Поэтому, когда вскоре «Дубинушка» зазвучала со сцены московского Большого театра, поднялся невообразимый шум.
Происходило это 26 ноября 1905 года на концерте в пользу убежища для престарелых артистов. Среди участвовавших был и Шаляпин.
Когда он спел то, что было предусмотрено программой, с верхних ярусов раздались настойчивые голоса, требующие, чтобы артист исполнил «Блоху» и «Дубинушку». Артист согласился, но потребовал, чтобы публика ему подпевала. Растерянная администрация не знала, как ей надлежит поступить. Запретить артисту, находящемуся на сцене, петь было немыслимо. Опустить занавес – значит, вызвать неизбежный скандал, что еще хуже. Не было принято никакого решения. И Шаляпин начал…
Донося о случившемся Теляковскому, управляющий московской конторой императорских театров фон Бооль писал:
«Припев подхватили в зале – очень дружно и даже стройно. Верхи ликовали, но из лож некоторые вышли и оставались в фойе пока Шаляпин совсем не кончил. В антракте (перед третьим отделением) среди публики много говорилось не в пользу Шаляпина; некоторые были положительно возмущены его выходкой и уехали с концерта после второго же отделения.
Конечно, об этом случае много говорят теперь в городе, как и о том, что он то же самое проделал в ресторане „Метрополь“. Но то, – говорят, – было в ресторане, где он мог позволить себе все, что хотел, – но как же позволить себе сделать то же самое в императорском театре, где он служит и, следовательно, должен сам знать, что можно и чего нельзя? Неужели ему это сойдет?»
Шаляпину пришлось давать объяснения Теляковскому.
Теляковский писал в «Воспоминаниях»:
«Шаляпин мне объяснил, что спел „Дубинушку“ вследствие настояния публики и общего приподнятого настроения, царившего в этот вечер в Большом театре. Сам Шаляпин был расстроен. На него очень влияло большое количество анонимных угрожающих писем, которые он получал от революционно настроенной молодежи. Его обещали не только бить, но и убить за то, что он мало себя проявляет в освободительном движении. После же этого инцидента он стал получать подобные письма еще и от людей противоположного лагеря. Бойкотировали его и с той и с другой стороны».
Теляковскому тоже пришлось давать объяснения своему начальству, то есть министру двора барону Фредериксу.
Наверху были настолько возмущены выходкой Шаляпина, что дебатировался вопрос о расторжении с ним контракта и об изгнании с казенной сцены. Стало известно, что царь очень раздражен происшедшим в Большом театре и спрашивал министра Фредерикса: «Как, неужели до сих пор еще не уволили ни Шаляпина, ни Бооля?»
«Я сказал барону Фредериксу, – записывал в дневнике Теляковский, – что удаление Шаляпина может произвести гораздо больший переполох, чем они думают. Партии революционеров будет очень приятно иметь в своих рядах выдающегося артиста и певца, к тому же еще певца из крестьян. В тюрьму Шаляпина не упрячешь, он имеет большое имя не только в России, но и во всем мире. Петь ему запретить нельзя. Он будет продолжать петь не только в провинции, но и во всем свете – и „Дубинушку“ услышат не одни москвичи и петербуржцы. Он наэлектризует публику настолько, что полиции останется только закрывать один театр за другим, а его высылать из одного города в другой. Все это в России еще возможно, за границей же все будут его встречать с распростертыми объятиями, как пострадавшего за свободу. Дружба Шаляпина с Горьким станет еще теснее и придаст ему особый ореол».
Дело Шаляпина о «Дубинушке» в Большом театре было замято, хотя след долго оставался и это ощущалось артистом в последующее время.
Интересно, что за границей данному инциденту было придано совершенно несвойственное сути дела сенсационное освещение. Так, в одной из брюссельских газет серьезно сообщалось, что русские власти арестовали Шаляпина. Излагалась биография артиста, причем особый акцент делался на том, как Шаляпин познакомился с «кружком революционеров и какое сильное влияние на его политические убеждения имел бывший помощник обыкновенного пекаря Пешков, ныне популярный русский писатель Максим Горький».
Антрепренер Рауль Гинсбург, у которого Шаляпин гастролировал в Монте-Карло, поспешил, в целях рекламы, выступить в печати с сообщением, что на одной из московских баррикад Шаляпин был ранен, а затем якобы арестован и навряд ли сможет приехать весной 1906 года, как намечалось, на гастроли в Ниццу и Монте-Карло, но что Рауль Гинсбург надеется благодаря своим связям уладить этот вопрос с русскими властями.
Когда наступила весна 1906 года, Шаляпин действительно стал выступать в Ницце. Журнал «Театр и искусство» откликнулся на это известие маленькой заметкой:
«Ф. И. Шаляпин гастролирует в Ницце. Рассказывают чудеса о ценах на места. Нет нужды ехать в Монте-Карло: можно остаться без копейки, купив ложу на представление с Шаляпиным».








